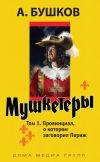Текст книги "В огонь и в воду"

Автор книги: Амеде Ашар
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– В кошельке, – сказала она, – сотня золотых; это все, что у меня есть на лицо, и я думала об тебе всякий раз, как откладывала сюда день за день, сколько могла от ежедневного расхода… Этот перстень подарил мне отец твой, граф Гедеон де Монтестрюк, в день нашей помолвки. С тех пор я его ни разу не снимала. Тогда мне было восемнадцать лет, теперь же я – старуха. Сколько горя перенесла я, сколько слез пролила с того времени! Когда ты выберешь женщину, которая будет носить то же имя, что я ношу, надень ей сам этот перстень на палец.
Гуго стоял на коленах и целовал ей руки. Она не спускала с него глаз.
– Еще не все, – продолжала она. – Вот письмо за черной восковой печатью. Ты отдашь его по адресу, но только в таком случае, если будешь в крайней опасности или в крайней нужде. Если нет, то и не отдавай, не нужно.
Говоря это, она задыхалась; губы её судорожно тряслись.
– Вы не сказали мне имя того, кому назначено это письмо, матушка, а на конверте оно не написано.
– Оно надписано, дитя мое, на другом конверте, под верхним. Ты разорвешь верхний только в крайней нужде, когда дело будет касаться твоей жизни или твоей чести. Тогда, но только тогда, иди прямо к этому господину и он тебе поможет.
– Но если его уже не будет в живых?
Графиня побледнела.
– Если он умер, тогда – положись на Бога… тогда сожги письмо.
Она положила руки на голову сына, все еще стоявшего перед ней на коленах, призвала на эту дорогую голову благословение свыше и, сдерживая слезы, открыла ему объятия. Он бросился к ней на грудь и долго, долго она прижимала его к сердцу, готовому разорваться на части.
В самую минуту отъезда, когда все уже было готово, Агриппа подкрался к своему воспитаннику и, отведя его в сторону, сказал ему с довольным видом, не без лукавства:
– И я тоже хочу оставить вам память, граф: это добыча, взятая у врага, и, легко может случиться, что вы будете рады найти у себя в кармане лишние деньги.
И старик протянул ему длинный кошелек, порядочно набитый.
– Это что такое? – спросил Гуго, встряхивая кошелек на руке и не без удовольствия слушая приятный звон внутри его.
– Как же вы забыли, что я, по сущей справедливости и притом в видах нравственных, брал выкуп с мошенников, которые пробовали ограбить наш сундук, где ничего не было?
– Как! эти опыты in anima vili, как ты говорил…
– Именно! и вот вам их результат. Я брал подать с мошенников, употреблявших во зло доверие старика, а честных награждал подарком. Вы можете убедиться, увы! что равновесия между злом и добром не существует! Зло – и это служит предметом самых печальных моих размышлений – сильно перетягивает. У вас в руках теперь и доказательство: у меня ведь было кое-что на уме, когда я изучал по-своему человечество.
– А если б ты ошибся, ведь ты бы разорил нас! – сказал Гуго, смеясь от души.
– Граф, – возразил старик, рассчитывать на бесчестность и плутовство рода человеческого – всё равно, что играть поддельными костями… совесть даже упрекает меня, что я играл наверное.
– Я всегда думал, что г. Агриппа великий философ, – сказал, подойдя к ним, Коклико, слышавший весь разговор. – Этот честно наполненный кошелек представляет то, что мы, честные люди, называем между собой грушей на случай жажды.
– А когда голод и жажда мучат постоянно… – сказал Агриппа.
– То все и глотаешь, – подхватил Коклико, опуская кошелек к себе в карман.
– Разве и ты тоже едешь? – спросил Гуго, притворяясь удивленным.
– Граф, я такой болван, что если б вы бросили меня здесь, то я совсем бы пропал; ну, а в Париже, хоть я его вовсе и не знаю, я ни за что не пропаду.
И, дернув его за рукав, он указал на Кадура, который выводил из конюшни пару оседланных лошадей.
– И он тоже едет с нами, – прибавил он; – значит, нас будет трое рыскать по свету.
– Numero Deus impare gaudet (Бог любит нечет), – проворчал Агриппа, немного знакомый, как мы уж видели, с латынью.
Через четверть часа, трое всадников потеряли из виду башню Тестеры.
– В галоп! – крикнул Гуго, чувствуя тяжесть на сердце и не желая поддаться грустным чувствам.
XI
Старинная история
Все трое, Гуго де-Монтестрюк, Коклико и Кадур были в таких летах, что грусть у них долго не могла длиться. Перед ними было пространство, их одушевляла широкая свобода – принадлежность всякого путешествия, в карманах у них звенело серебро и золото, добрые лошади выступали под ними, грызя удила, над головой сияло светлое небо, а под рукой были шпаги и пистолеты, с которыми легко одолеть всякие преграды. Они ехали, казалось, завоевывать мир.
Гуго особенно лелеял такие мечты, конца которым и сам не видел. Красное перо, полученное когда-то от принцессы Мамиани и заткнутое в шляпу, представилось ему теперь каким-то неодолимым талисманом.
Скоро виды изменились и трое верховых очутились в таких местах, где прежде никогда не бывали.
Коклико не помнил себя от радости и прыгал на седле, как птичка на ветке. В этой тройке он изображал собой слово, а араб – молчание. Каждый новый предмет – деревня, развалина, каждый дом, купцы с возами, бродячие комедианты, прелаты верхом на мулах, дамы в каретах или носилках – все вызывало у Коклико крики удивления, тогда как Кадур смотрел на все молча, не двигая ни одним мускулом на лице.
– Вот болтун-то! – вскричал весело Гуго, забавляясь рассказами Коклико.
– Граф, – сказал Коклико, – это свыше моих сил: я не могу молчать. Примером впрочем нам могут служить птицы: они всегда поют; от чегоже и нам не говорить? притом же я заметил, так уж я болван, что молчанье ведет к печали, а печаль – к потере аппетита.
– Ну, так будем же говорить, – отвечал Гуго, бывший в хорошем расположении духа и видевший все в радужном свете; – и если мы плохо станем расправляться с ужином, ожидающим нас на ночлеге, тогда что подумают в этой стороне о гасконских желудках?
– Да их добрая слава пропадет на веки, вот что!
Двинув своего коня между Гуго и Кадуром, который продолжал смотреть на все спокойно, Коклико тоже принял серьезный вид и сказал:
– А как вы думаете, граф, что ждет того, кто ищет себе удачи в свете и у кого есть притом хороший испанский жеребец, который так и пляшет под седлом; шпага, которая так и просится вон из ножен, а в кармане добрые пистоли, которые так и хотят выскочит на свет Божий?
– Да ждет все, чего хочешь, – отвечал Гуго.
– Так значит, если б вам пришла фантазия сделаться императором требизондским или царем черкесским, вы думаете, что и это было б возможно?
– Разумеется!
– Ну, не надо забирать так высоко, граф, не надо преувеличивать!.. это, мне кажется, уже слишком много… А ты как думаешь, Кадур?
– Без помощи пророка, дуб – все равно, что травка, а с помощью пророка, песчинка становится горой…
– Слышишь, Коклико! моя воля будет именно такой песчинкой, а в остальном поможет моя добрая звезда.
– Ну, и я немного помогу, граф, да и Кадур также не прочь помочь; правда, Кадур?
– Да, – отвечал коротко последний.
– Не обращайте внимания, граф, на краткость этого ответа: у Кадура хоть язык и короткий, да за то рука длинная. Он из такой породы, которая отличается большой странностью – говорить не любит…. Огромный недостаток!
– Которого за тобой не водится, мой добрый Коклико.
– Надеюсь! ну, вот, пока мы едем теперь смирненько по королевской дороге, по хорошей погоде, которая так и тянет к веселым мыслям, почему бы нам не поискать, как бы устроить предстоящую нам жизнь повеселей и поприятней?
– Поищем, – сказал Гуго.
Кадур только кивнул головой в знак согласия.
– А, что я говорил! – вскричал Коклико, – вот Кадур еще сберег целое слово.
– Он сберег слово, за то ты можешь разориться на целую речь.
– Ну, с этой стороны я всегда обеспечен…. Не беспокойтесь!
Он уселся потверже на седле и продолжал, возвысив голос.
– Я слышал, что при дворе множество прекрасных дам, столько же, сколько было нимф на острове Калипсо, о котором я читал в одной книге, и что эти дамы, как кажется, особенно милостивы к военным и еще милостивее к таким, которые близки к особе короля. Как бы мне хотелось быть гвардейским капитаном!
– Да, недурно бы, – сказал Гуго: – можно бывать на всех праздниках и на всех сражениях.
– А вам очень нужны эти сражения?
– Еще бы!
– Ну, это – как кому нравится. Мне так больше нравятся праздники. С другой стороны я слышал, что у людей духовных есть сотни отличнейших привилегий: богатые приходы, жирные аббатства с вкусным столом и с покойной постелью, где не побьют и не изранят…. А какая власть! их слушают вельможи, что довольно важно, да еще и женщины, что еще важней. Без них ничего не делается! их рука и нога – повсюду. А некоторые ученые утверждают даже, что они управляют миром. Я не говорю, разумеется, о сельских священниках, что таскаются в заплатанных рясах по крестьянским избам, а едят еще хуже своих прихожан. Нет! я говорю о прелатах, разжиревших от десятины, о канониках, спящих сколько душе угодно, о князьях церкви, одетых в пурпур, заседающих в советах королевских, важно шествующих в носилках… А что вы скажете, граф, о кардинальской шляпе?
Гуго сделал гримасу.
– Пропади она совсем! – вскричал он. – Монтестрюки все были военными.
– Ну, когда так, то перейдем лучше к важным должностям и к чинам придворным. Как весело и приятно быть министром или послом! Кругом толпа людей, которые вам низко-низко кланяются и величают вас сиятельством, что так приятно щекочет самолюбие. Вы водитесь с принцами и с королями, вы преважная особа в свете. Не говорю уже о кое-каких мелких выгодах, в роде крупного жалованья, например, или хорошей аренды. Кроме того, мне бы очень было весело поссориться, например, сегодня с англичанами, придраться завтра к испанцам, а при случае содрать взятку с венецианцев или с турецкого султана. Пресыщенный славою, я бы мирно окончил жизнь в расшитом мундире и в шляпе с перьями – каким-нибудь первым чином двора.
– Гм! – сказал Гуго, – слишком много лести с одной стороны и неправды с другой!.. склоняться перед высшими, гордо выпрямляться перед слабыми, вечно искать окольных путей, плакать – когда властитель печален, смеяться, когда он весел, корчить свое лицо по его лицу, вся эта тяжелая работа со всем не по моему характеру – к тому же у меня никогда не хватит храбрости возиться с чужими делами, когда и со своими-то собственными часто не знаешь, как сладить.
– Есть еще кое-что, – продолжал Коклико, – и чуть ли это будет не получше. Можно вернуться в Тестеру, где вас любят, да и сторона там такая славная, прожить там всю жизнь, поискать славной хорошенькой девушки порядочного рода и с кое-каким приданым, жениться на ней и народить добрых господ, которые, в свою очередь, тоже проживут там до смерти, сажая капусту. Так можно прожить счастливо, а это, говорят, ведь не всякому дается.
– Мы такого рода, что одного счастья нам еще мало, – гордо возразил Гуго.
Коклико взглянул на него и продолжал:
– Да, кстати, граф, о Монтестрюках рассказывают какую-то историю; я что-то слышал об этом, еще будучи ребенком… Мне давно хочется спросить у вас о всех подробностях. Меня всегда интересовало, откуда у вас фамилия Шаржполь и девиз: «Бей! руби!» что написано у вас на гербе; так кричат, кажется, члены вашего рода в сражениях. Не объясните ли вы нам всего этого? Мне бы это теперь и надо бы узнать, раз я сам принадлежу к вашей свите.
– Охотно, – отвечал Гуго.
Они ехали в это время в тени, между двумя рядами деревьев, и ветерок слегка шелестел листьями; до ночлега оставалось две или три мили; Гуго стал рассказывать товарищам историю своего рода, между тем как они ехали по бокам его, внимательно слушая:
– Это было в то время, начал он, когда добрый король Генрих IV завоевывал себе королевство. За ним всегда следовала кучка славных ребят, которых он ободрял своим примером; ездил он по горам и по долам; счастье ему не всегда улыбалось, но за то он всегда был весел и храбро встречал грозу и бурю. Когда кто-нибудь из товарищей его переселялся в вечность, другие являлись на место, и вокруг него всегда был отряд, готовый кинуться за него в огонь и в воду.
– Как бы мне хотелось быть там, – прошептал Коклико.
– Случилось раз, что короля Генриха, бывшего тогда еще, для доброй половины Франции и для Парижа, только королем наваррским, окружил, в углу Гаскони, сильный отряд врагов. С ним было очень немного солдат, вполне готовых, правда, храбро исполнит свой долг, но с такими слабыми силами нелегко было пробиться сквозь неприятельскую линию, охраняемую исправными караулами. Король остановился в лесу, по краю которого протекала глубокая и широкая река, окруженная еще срубленными деревьями, чтобы закрыть ему совсем выход. Враги надеялись одолеть его голодом, и в самом деле, отряд его начинал уже сильно чувствовать недостаток в продовольствии.
– Генрих IV бегал как лев кругом своего лагеря, отыскивая выхода и бросаясь то налево, то направо. Происходили небольшие стычки, всегда стоившие жизни нескольким роялистам. По всем дорогам стоял сильный караул, а переправиться через реку, где караул казался послабей, и думать было невозможно: она была такая быстрая, что без лодок нельзя было обойтись, а достать их было негде.
– Чёрт побери! – бормотал король, – не знаю, как отсюда выйти, а все-таки выйду!..
– Такая уверенность поддерживала надежду и в его солдатах.
– Раз вечером, на аванпостах показался какой-то человек и объявил, что ему нужно видеть короля. На спине у него была котомка и одет он был в оборванный балахон, но смелый и открытый взгляд говорил в его пользу.
– Кто ты таков? – спросил его офицер.
– Я из таких, что король будет рад меня видеть, когда узнает, зачем я пришел.
– А мне ты разве не можешь этого объявить? Я передам слово в слово.
– Извините, капитан, но это невозможно.
Офицер подумал уже, не подослали ли неприятели кого-нибудь от себя, чтоб отделаться раз навсегда от короля, и сам не знал, что отвечать. Неизвестный стоял смирно, опираясь на палку.
– Дело в том, – продолжал офицер, – что с королем нельзя всякому говорить, как с простым соседом….
– Ну, я и подожду, если надо; только разумеется, поговорив после со мной, король Генрих пожалеет, что вы заставили меня потерять время.
У человека этого было такое честное лицо, он так покойно сел под деревом и вынул из котомки кусок черного хлеба и луковицу, собираясь поужинать, что офицер наконец решился. «Кто знает! – говорил он себе, – у этого человека есть, может быть, какая-нибудь хорошая весть для нас».
– Ну, так и быть! пойдем со мной, сказал он крестьянину.
Тот поднял брошенные на землю котомку и палку и пошел за офицером, который привел его к капитану гвардии; этот обратился к нему с теми же вопросами и получил на них те же самые ответы. Ему надо было говорить с королем, и с одним только королем.
– Да ведь я все равно, что король! – сказал капитан.
– Ну, как же не так! Вы-то капитан, а он – король… Значит, не все равно!
Против этого возразить было нечего и капитан пошел доложить королю Генриху, который грустно рассчитывал про себя, сколько еще дней остается ему до неизбежной и отчаянной вылазки.
– А! ввести его! – крикнул он; – может быть, он прислан ко мне с известием, что к нам идут на помощь.
Крестьянина ввели. Это был статный молодец с гордым взглядом, на вид лет тридцати.
– Что тебе нужно? – спросил король; – говори, я слушаю.
– Я знаю, что вы с вашими солдатами не можете отсюда выбраться… Ну, и я вбил себе в голову, что выведу вас, потому что люблю вас.
– А за что ты меня любишь?
– Да зато, что вы сами храбрый солдат, всегда впереди всех в огне и себя совсем не бережете: вот мне и сдается, что из вас выйдет славный король, милостивый к бедному народу.
– Не дурно, любезный! но каким же способом ты думаешь вывести меня отсюда?… Да, ведь понимаешь? не одного же меня! Всех со мной, а не то я останусь здесь с ними.
– Вот это сказано но-королевски; значит, я не ошибся, что пришел сюда.
– Так ты думаешь, что можешь вывести нас всех вместе из этого проклятого леса?
– Да, именно так и думаю.
– Так говори же скорей… Каким путем?
– Да просто – рекой.
– Но ведь река так широка и глубока, что через нее нельзя перейти… Ты, любезный, чуть ли не теряешь голову!..
– Голова-то у меня еще исправно держится на плечах… И даже в ней сидит пара добрых глаз, чтоб вам послужить…. А брод через реку разве годится только для коз, да для овец, что ли?..
– Значит, есть брод на этой реке и ты его знаешь?
– Ну, вот еще! да если б я не знал его, так зачем же и пришел бы сюда?
Генрих IV чуть не обнял крестьянина.
– И ты нас проводишь?
– Да, когда прикажете. Оно даже и лучше подождать ночи: ночью-то похуже караулят в окрестностях.
– А разве и на том берегу есть неприятели?
– Да, за леском, и вам оттого именно их и не видно… но не так, как здесь… а отряд, надо думать, вдвое против вашего.
– Ну, это ничего, пробьемся!
– И я себе говорил то же самое.
– Живей снимать лагерь! – крикнул король, но, спохватившись, тронул руку будущего проводника: – Да ты не врешь? Ты не для того пришел сюда, чтоб обмануть меня и навести нас всех на засаду?
– А велите ехать по обеим сторонам меня двум верховым с пистолетами в руке и, как только вам покажется, что я соврал, пусть меня застрелят без всяких разговоров! Но за то, если я благополучно проведу вас в брод, то ведь и мне же можно будет попросить кой о чем?
– Проси, чего хочешь! кошелек весь высыплю тебе на руку.
– Кошелек-то оставьте пожалуй при себе, а мне велите дать коня да шпагу и позвольте биться рядом с вами.
– Ещё бы, решено!.. Останешься при мне.
Как только совсем стемнело, королевский отряд снялся потихоньку с лагеря и выстроился, а крестьянин стал к голове и пошел прямо вперед через лес. Солдаты потянулись гуськом по узкой и извилистой тропинке, которая через чащу вела к самой реке. Проводник скакал на ходу, как заяц, ни разу не задумавшись, хоть было так темно, как в печке. Когда выходили на поляну, вдали виднелись там и сям красные точки, блиставшие, как искры: то были неприятельские огни. Они огибали лес кругом со всех сторон. Ветер доносил оттуда песни. Видно было, что там люди сыты: так они весело шумели. С королевской стороны царствовало глубокое молчание.
Вдруг на опушке открылась река, совсем черная от густой тени деревьев. Крестьянин, шедший доселе крупными шагами и молча, остановился и стал пристально искать, сказав, чтобы никто не двигался пока с места.
– Понимаете, – сказал он: – как бы не ошибиться и не завести вас в какую-нибудь яму.
При слабом отблеске гладкой воды, он увидел в нескольких шагах толстую дуплистую вербу, а рядом с ней другую поменьше с подмытыми корнями.
– Вот если тут, немножко в стороне, есть под водой большой плоский камень, то значит, брод как раз тут и есть, – продолжал он.
Он опустил в воду свою палку, пощупал и нашел камень.
– Отлично! – сказал он, – теперь смело можем переходить.
И первым вошел в воду. Все взошли за ним следом. Скоро вода стала доставать им выше колен. Смутно начинал уже обозначаться другой берег.
– Сейчас, – продолжал проводник, все еще ощупывая дно палкой, – дойдет до пояса, и немного дальше – почти до плеч… Тут самое трудное место, но оно не широко. Вот только руки надо будет поднять над головой, чтобы не замочить пороху… А то и верховые могут взять пеших себе за спину на коней.
– Молодец-то ни о чем не забывает! – сказал король.
Как говорил проводник, отряд очутился скоро на самой середине реки; лошадям было уж по грудь. Через несколько шагов, вода дошла почти до самых седел; потом мало-помалу дно стало опять подниматься. Шагов за десять до берега, лошадям было только по щетку.
– Слава тебе, Господи! – сказал король, ступая на берег; – ну ты, брат, молодец!
Ночь приходила к концу. На белеющем горизонте начинал обозначаться гребень холмов, на небе показывался бледный отблеск зари.
– Вот самый отличный час, чтобы напасть врасплох на неприятеля, – сказал крестьянин: – От усталости и от утреннего холода все там крепко заснули.
– А ты почему это знаешь?
– Да разве я не служил целых шесть лет? Рана-то ведь меня и заставила бросить оружие.
Королевские солдаты уже строились на берегу, каждый подходя к своему ротному значку.
– Что-ж, – сказал крестьянин королю, который привстал на стременах, чтоб лучше видеть; – помните, что мне обещали?
– Коня и шпагу? сейчас! – Генрих IV сделал знак офицеру, и крестьянину тотчас же подвели оседланную лошадь.
– Храбрый солдат, что ездил на этом коне, убит на днях, – сказал король, – а теперь ты его заменишь.
За леском что-то зашевелилось, но еще нельзя было разобрать, что там именно делается.
– Это неприятельский лагерь просыпается, – сказал крестьянин и принялся махать шпагой, подбирая поводья.
– Ты хорошо знаешь местность. Что нам теперь делать? Куда идти, – спросил король.
– Этот лесок – пустяки: тоненький полог из зелени, и только. А стоит отряд дальше, в долине; как только спустимся, так на него и наткнемся… Значит, прямо вперед и в атаку!
– Славно сказано!.. А как тебя зовут?
– Поль-Самуил, из местечка Монтестрюк, что в Арманьяке.
– Ну! вперед, Поль[1]1
Charge, Paul!.
[Закрыть] марш-марш!
Крестьянин дал шпоры коню и пустился во весь карьер, махая над головой новой шпагой и крича: бей! руби!
В одну минуту они пронеслись через лесок. Как и говорил Поль, это был просто полог из зелени, и королевский отряд, с Генрихом IV и с проводником во главе, ринулся вниз с горы, как лавина. Лошади в неприятельском лагере были почти все еще на привязи; часовые выстрелили куда попало и разбежались. Кучка пехоты, собравшаяся идти на поживу, вздумала было сопротивляться, но была опрокинута и в одно мгновение ока король со своими очутился перед самым фронтом лагеря. Тут все было в смятении. Но на голос офицеров несколько человек собрались наскоро в кучу и кое-как построились. Поль, увидев их и указывая концом шпаги, кинулся со своими, продолжая кричать: «бей! руби!»
Ударом шпаги плашмя он свалил с коня первого попавшегося кавалериста, острием проткнул на сквозь горло другому и врезался в самую середину толпы.
Все подалось под ударом королевских солдат, как подается дощатая стенка перед стремительным потоком, и в одну минуту все кончилось. Четверть часа спустя, король был уже в чистом поле, далеко от всякой погони, и вокруг него собрались сторонники, терявшие уже надежду увидать его в живых.
Когда пришли вечером на ночлег, король подозвал Поля-Самуила, обнял его при всех офицерах и сказал им:
– Господа! вот человек, который спас меня; считайте его своим братом и другом. А тебе, Поль, я отдаю во владение Монтестрюк, – так от него ты и будешь вперед называться – кроме того, жалую тебя графом де Шаржполь, на память о твоей храбрости в сегодняшнем деле. На графский титул и на владение ты получишь грамоту по форме за моей подписью и за королевской печатью. Сверх того, я хочу, чтоб ты принял в свой родовой герб, на память о твоем подвиге и о словах твоих во-первых, золотое поле, потому что ты показал золотое сердце; во-вторых, черного скачущего коня – в память того, который был под тобой; в третьих, зеленую голову – в знак того леса, в который ты бросился первым, и в четвертых, над шлемом серебряную шпагу острием вверх – в память той, которою ты махал в бою и которая, видит Бог! сверкала огнем на утреннем солнце. А девиз своего рода ты сам прокричал и можешь вырезать под щитом эти два слова, которые лучше всяких длинных речей: «бей! руби!»
– Как было сказано, так и сделано, – прибавил Гуго, – и вот как мой предок стал сир де Монтестрюк, граф де Шаржполь. С тех пор в нашем роде стало обычаем прибавлять имя Поль к тому, что дается при крещении. Первый Монтестрюк назывался Поль-Самуил, сын его – Поль-Илья, мой отец – Поль-Гедеон, а я зовусь Поль-Гуго и, если Богу будет угодно, передам это имя своему старшему сыну с титулом графа де Шаржполь, который я считаю наравне с самыми лучшими и самыми древними. Как ты думаешь, Коклико?
– Ей Богу! – вскричал Коклико в восторге, – я скажу, что король Генрих IV был великий государь, а предок ваш Поль-Самуил был славный капитан, хоть и пришел в простой одежде крестьянина, и все, все, высоко и славно в этой истории! А ты, друг Кадур, что ты скажешь?
– Бог велик! – отвечал араб.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?