Текст книги "Дымная река"
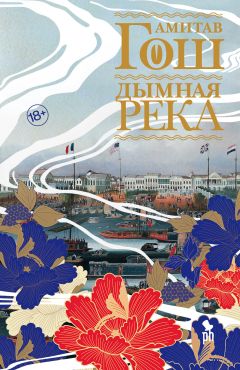
Автор книги: Амитав Гош
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Хватит! Бас! Достаточно. – Бахрам выхватил журнал и бросил его на стол. – Ясно, что с английским текстом вы справляетесь легко. Что ж, мунши-джи, если вы ищете работу, она ваша.
Полетт уже поняла, что Хорек – человек упорядоченный, и не удивилась его загодя продуманным шагам в поисках того, как возникли эти рисунки. Особые надежды он возлагал на иллюстрацию, добытую Уильямом Керром: рисунку, определенно созданному в Кантоне, не больше тридцати лет, и вполне возможно, что автор его жив.
– Но вам же понадобится эксперт, который установит художника, верно?
– Безусловно.
– У вас кто-нибудь есть на примете?
– Нет, но я знаю того, кто, наверное, сможет мне помочь.
Речь шла об английском художнике, много лет прожившем в Южном Китае; по слухам, он имел широкие связи и был весьма компетентен. В Макао Хорек намеревался при первой возможности нанести ему визит.
– А как его имя, сэр?
– Чиннери. Джордж Чиннери[26]26
Джордж Чиннери (1774–1852) – английский живописец, наиболее известный своими работами, созданными в Индии и Китае.
[Закрыть].
– Вот как? – Полетт тотчас насторожилась, но сумела это скрыть за показным равнодушием. – И как вы о нем узнали?
– От одного его приятеля…
Хорек рассказал, что имя это упомянул один постоянный клиент его фалмутского питомника – некто мистер Джеймс Хобхаус, портретист, с юности знавший Чиннери. Живописец, поведал он, уже более десятка лет живет в Южном Китае и, как говорят, водит тесную дружбу с художниками Макао и Кантона.
Хобхаус познакомился с ним в Королевской академии, где они учились одновременно с Джозефом Мэллордом Уильямом Тёрнером. Одно время Чиннери считался художником не меньшего калибра, но, своенравный и остроумный, влюбчивый и сумасбродный, был человеком настроения: сейчас он само благодушие, а через минуту дуется на весь свет. В творческой среде подобное не редкость, добавлял мистер Хобхаус, тем более что Чиннери был родом из семьи, в которой, похоже, незаурядный талант частенько сочетался со странным и вызывающим поведением.
Стало ясно, что Чиннери сверх всякой меры унаследовал семейные черты. Перспектива блестящей карьеры не удержала его в Лондоне. Он рванул в Ирландию, где его ждал финал многих безалаберных юнцов: женитьба на дочери домовладельца. Вскоре супруга одарила его поочередно двумя ребятишками, что, видимо, оказалось чрезмерной порцией семейной жизни, и он, не сумев ее переварить, вновь удрал, предоставив своей половине одной управляться с младенцами. Теперь он отправился в Мадрас, где тогда обитал его брат, а через пять лет перебрался в Бенгалию и в конце концов обосновался в Калькутте. Там, в столице Британской Индии, он снискал оглушительный успех и был безоговорочно признан величайшим английским художником на Востоке. Когда слух о его триумфе просочился в Англию, семья решила с ним воссоединиться. Первой в Индию прибыла дочь Матильда, взрослая девушка, которую он видел только крохой, потом его злосчастная жена Марианна и, наконец, сын Джон, мечтавший о военной карьере. Однако вместе с семьей увязалось и горе: года не прошло, как Джона унесла тропическая лихорадка. Из-за этой утраты Чиннери совсем слетел с катушек и озлобился на жену, сам вид которой стал ему невыносим. Он вновь взял ноги в руки и отправился как можно дальше – в Макао, место, которое, по словам шутников, напрашивалось само, ибо, в случае погони супружницы, позволяло укрыться в Кантоне, недоступном для всякой чужестранки.
Видимо, старинный приятель мистера Хобхауса отыскал себе годную нишу, ибо в Макао пребывал последние тринадцать лет – целую, по его меркам, вечность. Нынче ему стукнуло шестьдесят четыре года, и он, обезопасив себя от притязаний супруги, вполне довольствовался обществом морских капитанов, коммивояжеров, торговцев опием и прочих странников. А те, в свою очередь, преклонялись перед его искусством: доходы от многочисленных заказов были так высоки, что для удовлетворения спроса он, говорят, завел себе студию и натаскал челядь на роли подмастерьев.
Имело ли значение, что он, некогда считавшийся ровней Хопнеру, Ребёрну и Ромни[27]27
Джон Хопнер (1758–1810) – английский живописец немецкого происхождения, придворный художник короля Георга IV. Генри Ребёрн (1756–1823) – шотландский художник романтического стиля. Джордж Ромни (1734–1802) – английский художник-портретист.
[Закрыть], был вынужден прозябать в захолустье вдали от европейских салонов и обслуживать клиентуру из закоренелых мещан? Вряд ли нужно говорить, что он-то делал вид, будто все это ему безразлично, однако молва утверждала иное: пренебрежение лондонских знатоков его творчеством так его ожесточило, что он пристрастился к курению опия, коим глушил душевную тоску. Мистер Хобхаус не знал, было ли это просто досужей сплетней, и, воздержавшись от комментария, выразил надежду, что Хорек все увидит собственными глазами и по возвращении прольет свет на эту историю.
Полетт молча внимала, словно впервые слышала о художнике и его жизненном пути, хотя, по правде, дело обстояло иначе. Кое в чем она была осведомлена лучше Хорька, а именно в том, что во время двенадцатилетнего обитания в Калькутте Чиннери обзавелся другой семьей, прижив со своей бенгальской любовницей Сандари двух сыновей.
Полетт познакомилась с «незаконными» сыновьями Джорджа Чиннери благодаря своей любимой нянюшке Тантиме, матери Джоду, опекавшей ее с самого младенчества. Тантима и Сандари были родом из одной деревни на берегах Хугли и, случайно встретившись в Калькутте, возобновили давнюю дружбу. Оказалось, обе хозяйничали в домах необычных и слегка поблекших саибов. Однако на этом сходство заканчивалось, ибо Пьер Ламбер, отец Полетт, в своем кругу всегда был этаким изгоем и на должности ассистента Куратора Ботанических садов влачил более чем скромное существование. А вот дом Джорджа Чиннери, зарабатывавшего баснословные деньги, искрился, точно огниво: полки слуг в коридорах и грумов в конюшнях, а что касаемо яств, на одни только шербеты и силлабабы тратилось по сотне рупий в неделю…
Щедрый любовник, Чиннери выделил своей драгоценной Сандари флигель, в котором она обитала с рожденными от него сыновьями, и небольшую свиту из халифа, нянек, слуг и даже повара, единственной обязанностью которого было сворачивать листья бетеля для пан-масалы угодным ей способом. Это устраивало обоих: Сандари жила и питалась в соответствии со своими предпочтениями, а Чиннери мог в любой удобный момент наведаться в свое любовное гнездышко, надежно скрытое от глаз саибов и мадам, наносивших ему визиты.
Сандари и сама была весьма колоритной личностью, некогда гревшейся в лучах славы. Дочь деревенского барабанщика, она стала известной певицей и танцовщицей, и мистер Чиннери, заметивший ее на одном выступлении, предложил ей стать его платной натурщицей. Забеременев, Сандари оставила сцену и с головой погрузилась в избалованную жизнь, украшая себя дорогими тканями и необычными драгоценностями. Пребывая в роскоши, она ничуть не заносилась перед Тантимой и, огорченно цокая языком, сочувствовала тесноте и скудости, в которых той приходилось существовать.
Однако все резко изменилось после известия, что вскоре в Калькутту нагрянет первая семья художника. Как многие представители богемы, в некоторых вопросах Чиннери был чрезвычайно консервативен – мысль о том, что законные жена и дети прознают о наложнице с двумя его отпрысками, ввергла художника в панику. Вчерашняя лакомая пышка вдруг стала заурядной мочалкой: вместе с приплодом ее погнали с квартиры, переселив в трущобы Киддерпора, куда слуга доставлял ей месячное содержание.
Сей маневр никого, разумеется, не обманул, ибо городская знать следила за частной жизнью мистера Чиннери так же внимательно, как за колебаниями цен на опийной бирже. Довольно скоро Марианна Чиннери узнала о второй семье супруга, но, к ее чести, озаботилась тем, чтобы Сандари с детьми была обеспечена всем необходимым, а муж ее исправно исполнял свои обязанности перед ними. Она даже устроила крещение мальчиков, носивших клички Малявка и Дрозд; после обряда они стали Генри Коллинзом Чиннери и Эдвардом Чарльзом Чиннери соответственно, что невероятно потешало их товарищей, продолжавших величать мальчишек бенгальскими прозвищами.
Следующий шаг Марианны Чиннери был, наверное, полезнее: она уговорила мужа пускать мальчиков в свою студию, дабы под его руководством они овладевали искусством живописи. К сожалению, этот период в жизни ребят не продлился долго: не успели они подрасти, как папаша сбежал, бросив обе семьи.
Для Марианны это стало тяжелым ударом вдвойне, ибо она уже утратила интерес к Малявке и Дрозду. Возможно, общение с мальчиками осложнила смерть ее собственного сына либо увещевания дочери, которая, выйдя за окружного судью-англичанина, требовала прекратить отношения, компрометирующие ее мужа; а может, ее просто очерствила собственная чрезмерная открытость перед колониальным сообществом. Так или иначе, после бегства художника Сандари и ее дети были брошены на произвол судьбы. Денег, что присылал Чиннери, на жизнь не хватало, и Сандари пришлось подрабатывать кухаркой и уборщицей в английских семьях. Однако, по-своему стойкая, она делала все возможное, чтобы сыновья ее продолжили художественное обучение, и частенько говорила: кроме живописи, ничто другое не убережет их от доли, уготованной уличной шантрапе.
Старший из братьев – Малявка, рослый, смуглый паренек, симпатичный обладатель светло-каштановых волос и добродушного нрава, рисовал очень недурно, хоть живописью интересовался не особо – не будь он сыном художника, никогда не взял бы кисть в руки. Дрозд заметно отличался от брата и внешностью, и характером: по всеобщему мнению, рыжесть, пухлые щеки и большие глаза делали его копией отца, невысокого толстячка. Главным же отличием была его подлинная страсть к искусству – любовь столь трепетная и сильная, что она подавляла его собственные немалые способности рисовальщика и живописца. Чувствуя себя не в силах создать творение, отвечающее его высоким требованиям, он направил свою энергию на изучение работ других художников прошлого и настоящего – вечно разыскивал эстампы, репродукции и гравюры, которые внимательно разглядывал и копировал. Другим его увлечением стали необычные вещицы, и одно время он был частым гостем в доме Пьера Ламбера, где часами копался в его гербариях и собрании иллюстраций. Он был немного старше Полетт, но присущая ему детскость скрадывала их разницу в возрасте и поле. Дрозд докладывал подруге о модных веяниях и приносил всякую всячину из матушкиной уменьшавшейся коллекции одежды и побрякушек – например, ножные и наручные браслеты. Равнодушие Полетт к украшениям его поражало, ибо самому ему они так нравились, что часто он обвешивался браслетами и любовался собою в зеркале. Иногда они вместе наряжались в одежды его матери и танцевали.
Кроме того, Дрозд взялся за художественное образование Полетт. Он приносил альбомы с репродукциями европейских картин, которые достались ему от отца и были его самым ценным сокровищем. Обладая феноменальной зрительной памятью, многие картины он мог воспроизвести, не заглядывая в альбом. Узнав, что Полетт делает иллюстрации к отцовской книге, он обучил ее хитростям в смешивании красок и четкой линии рисунка.
Отношения его с Полетт складывались непросто. Как наставник, он был чрезвычайно невыдержан и за всякий неудачный мазок или штрих обрушивался на ученицу с яростным порицанием, из-за чего у них часто возникали ссоры. С другой стороны, Полетт забавляли его пестрые наряды, непредсказуемые взрывы смеха и тяга к сплетням. Порой она сама удивлялась, что была так растрогана его попытками отучить ее от мальчишеских повадок и обратить в даму.
Вопреки всему, одно время Дрозд занимал большое место в ее жизни, но потом все это закончилось разом. Ей было почти пятнадцать, когда он задумал картину: Полетт и Джоду, к кому Дрозд уже давно и как-то странно присматривался, отводилась роль главных персонажей. Сюжет подсказан великой темой европейской живописи, сказал он, но от других вопросов Полетт уклонился. Мол, не стоит загружать себя лишней информацией, тем более что он собирается все переосмыслить и представить по-новому.
Полетт и Джоду весьма сдержанно восприняли этот проект, и нежелание в нем участвовать еще больше окрепло после известия, что им придется подолгу стоять неподвижно. Но Дрозд слезно умолял дать ему возможность сотворить шедевр, проявив себя истинным мастером, и они, сжалившись над ним, согласились. На протяжении двух недель оба принимали указанные им позы, а Дрозд трудился за мольбертом. За все это время он ни разу не позволил взглянуть на свою работу и на всякую просьбу отвечал: нет-нет, еще рано, увидите, когда будет готово. На сеансах Джоду и Полетт были в своей обычной одежде: он в гамуче и ланготе, она в сари. Иногда художник просил натянуть ткань плотнее, но модели всегда были одеты, и потому не могли вообразить того, что их ожидало.
Когда им наконец удалось взглянуть на незаконченную картину, оба совершенно осатанели, увидев себя в чем мать родила. Вид у них был ужасно нелепый, поскольку, стоя под огромным баньяном, они бесстыдно пялились на зрителя, словно святые отшельники, похваляющиеся своей наготой. Мало того, Полетт, вся пепельно-бледная, держала в руках плод манго (это под баньяном-то!), а над головой иссиня-черного Джоду вздымалась кобра. К счастью, плод манго скрывал ту часть Полетт, которую она вовсе не хотела бы выставить на всеобщее обозрение, а вот Джоду повезло меньше: хвост обвившей его кобры мог бы легко послужить ширмой, но не пожелал. Определенная часть Джоду, выписанная очень подробно, ясно давала понять, что не прошла обряд обрезания, чем крайне оскорбила натурщика.
В целом картина была столь неожиданно возмутительной, что Джоду, всегда легко заводившийся, впал в ярость и сорвал холст с мольберта. Дрозд был слабее, ему оставалось лишь просить вмешательства Полетт: «Умоляю, останови его! Я изобразил вас Адамом и Евой во всей прелести вашей невинности и простодушия! Никто не догадается, что это – вы! Прошу, заклинаю, удержи его!»
Но Полетт, и сама на грани кипения, врезала ему по уху и вместе с Джоду разодрала холст в клочья. Дрозд смолк, по лицу его струились слезы; наконец он выдавил: «Ничего, настанет день, когда вы за это поплатитесь…»
С тех пор Дрозд больше не приходил, и теперь о жизни братьев Полетт знала понаслышке, в основном из реплик, мимоходом оброненных Тантимой. Помнится, года два назад стало известно, что Сандари слегла, а Малявка отправился в Англию личным посланником муршидабадского наваба.
Дрозду пришлось самому добывать себе пропитание, и он изыскал способ применить свои таланты, приведший к скандалу: стал создавать «картины Чиннери». Хорошо знакомому с отцовским стилем и техникой, ему не составило труда повторить его манеру и очень выгодно продать несколько полотен, якобы оставшихся после отца. В конце концов подделку обнаружили, и Дрозд, не желая сидеть в индийской тюрьме, последовал примеру своего дяди Уильяма – бежал из страны. Говорили, он уехал к отцу, но куда именно, Полетт не знала. И вот теперь, услышав, что Джордж Чиннери обосновался в Макао, она сообразила: вполне возможно, там обитает и Дрозд, встречи с которым ей не избежать, сопровождая Пенроуза в дом художника. Учитывая, как они расстались, не исключено, что давний знакомец найдет способ поквитаться за старую обиду.
Вообще-то Полетт вспоминала его с большой теплотой и нередко жалела, что дружба их расстроилась, однако не забыла и скверные черты его натуры: Дрозд вполне был способен измыслить какую-нибудь гадость, дабы вбить клин между нею и Хорьком. Раздумывая над всем этим, она не успела признаться Хорьку в своем знакомстве с Дроздом. Возникла иная тема, и момент был упущен.
Бахрам настоял, чтобы до конца ремонта и переостнастки Нил и А-Фатт оставались на «Анахите». Каждого поселили в отдельной каюте, что после тягот, перенесенных в последние месяцы, казалось невообразимой роскошью. С утра до ночи их потчевали разносолами: за завтраком Бахрам вызывал своего личного кхансамаха, повара Место, чернокожего гиганта с сияющей бритой головой и буграми мышц, и обсуждал с ним, чем кормить крестника на обед и ужин. Всякая трапеза становилась пиршеством разнообразных кухонь: от парсов предлагались дхансак из барашка с коричневым рисом, моло́ка в окре и патра-ни-мачхи – филе рыбы, запеченной в банановых листьях; от Гоа – креветки в кляре, курица в соусе ксакути и огненно-острая креветка чек-чек; от Восточной Индии – барашек с тыквой в приправе карри и свиной сарпател.
Однако ситуация имела свои недостатки. Нилу приходилось постоянно быть начеку: помнить заявленную версию случайного знакомства в Сингапуре с А-Фаттом и разыгрывать неведение, кем тот на самом деле доводится Бахраму. Последнее давалось нелегко, поскольку Бахрам, по натуре импульсивный и ласковый, сам частенько выходил из роли крестного отца: заключал А-Фатта в крепкие объятья, называл «сынком» и подкладывал еду на тарелку.
Он как будто не замечал холодности, а порой даже неприязни А-Фатта к подобным проявлениям любви, и вел себя так, словно впервые зажил жизнью, о которой всегда мечтал, и теперь полноправным главой семьи передает свою мудрость и опыт родной кровиночке.
Такое весьма неуклюжее и чрезмерное выражение привязанности Нилу казалось трогательным, но он понимал, отчего оно раздражает А-Фатта, который, видимо, считал это убогой компенсацией за долгие годы своей безотцовщины.
Однако самым поразительным было то, что эти, пусть не безупречные, отношения между отцом и сыном существовали вообще. В Калькутте Нил знал многих мужчин, имевших внебрачных детей, но ни один из них не проявлял хоть кроху нежности к своим отпрыскам и их матерям, а кое-кто, опасаясь шантажа, просто умертвлял младенцев. По слухам, его собственный отец, старый заминдар, породил дюжину ублюдков от разных женщин и всегда разрешал ситуацию одним способом: вручив мамаше сотню рупий, отправлял ее в деревню. В его кругу это считалось нормальным и даже щедрым поступком. Нил воспринимал это как должное и никогда не думал о своих братьях и сестрах по отцу. Став владельцем поместья, он мог легко разузнать об их судьбе, но ему это даже не приходило в голову. И сейчас, оглядываясь назад, он не мог не признать ошибочность своих прежних взглядов, как и то, что подобное отношение Бахрама к своему незаконному ребенку и его матери не просто необычно для человека его положения, но нечто из ряда вон выходящее.
Объяснить это А-Фатту было непросто.
– Для отца Фредди как собачонка. Можно трепать, гладить, тискать. Он думать только о себе.
– Я тебя понимаю, А-Фатт. Но, поверь, на его месте большинство мужчин просто бросили бы вас с матерью. Это легко, и так поступили бы девяносто девять человек из ста. Он же сего не сделал, что говорит в его пользу. Неужто не ясно?
Пожатием плеч А-Фатт отвергал (или делал вид, что отвергает) эти доводы, но Нил видел: вопреки всем обидам друг его взволнован тем, что находится в центре отцовского внимания, чего не бывало прежде.
Шли дни, А-Фатт попритих и все больше мрачнел; Нил знал, что причиной тому не только предстоящая разлука с отцом, но и невозможность поездки в Кантон. Однажды они прогуливались по палубе, и А-Фатт, ничуть не скрывая зависти, сказал:
– Везет тебе. Ты едешь в Кантон, лучший город на свете.
– Вот как? – удивился Нил. – Чем же он лучший?
– Другого такого места нет. Сам увидеть.
– Скучаешь по Кантону, да?
А-Фатт понурился.
– Очень. Сильно скучать по Кантон. Но не ехать.
– Может, ты хочешь кому-нибудь передать весточку? – спросил Нил. – Я готов это сделать.
– Нет! – вскинулся А-Фатт. – В Кантон обо мне молчок. Помнить это, никогда не забывать. Никаких ля-ля-ля. Ни слова про А-Фатт.
– Хорошо, не сомневайся. Жаль, что мы не можем ехать вместе.
– Знал бы ты, как жаль мне. – А-Фатт обнял друга за плечи. – Только будь осторожен.
– А что?
– Китайцы говорят: все новое исходит из Кантона. Молодому человеку туда лучше не соваться – слишком много искушений.

6

На последнем отрезке пути Хорек проложил маршрут в обход Ландронских островов, печально известных пиратских логовищ. Полетт никогда не видела водной глади, усеянной таким множеством скалистых и явно необитаемых клочков суши, в каменистые склоны которых вцепились пучки зелени; некоторые из этих островков своим видом вполне соответствовали живописным названиям на карте: Шляпа мандарина, Клин, Голова черепахи, Каменные иглы.
На подходе к побережью появлялись суда непривычной формы и оснастки: лорчи, джонки, плоскодонные батело и статные манильские галеоны. Иногда встречались английские и американские корабли, в одном из них Хорек распознал знакомую бригантину. Решив повидаться со шкипером, он снарядил гичку и через час вернулся весьма озабоченным, даже насупился как-то по-особенному.
– Плохие новости, сэр? – спросила Полетт.
Хорек кивнул. Шкипер рассказал, что нынче очень трудно раздобыть «штемпель», дозволявший чужеземным судам проход по Жемчужной реке. Даже причалить в гавани Макао стало хитроумным фортелем, и оттого многие иностранные суда бросали якорь на другой стороне речного устья, в протоке, отделявшей остров Гонконг от мыса Коулун.
Поразмыслив, Хорек решил прислушаться к совету шкипера: первоначальный курс на Макао был отменен, «Редрут» развернулся в другую сторону.
Вскоре на горизонте замаячил зубчатый горный гребень, возникший прямо из моря.
– Вот он, Гонконг. – Хорек показал на продуваемый ветрами остров с малочисленными строениями и почти без растительности, отличавшийся от других лишь большим размером и высокими крутыми берегами. – Название переводится как «благоухающая гавань».
Полетт подивилась причудливой фантазии, так окрестившей столь пустынное и неприглядное место.
«Редрут» бросил якорь в бухте, примыкавшей к самой высокой скале. Там уже стояли несколько иностранных кораблей, вокруг которых кишела маленькая флотилия маркитантских лодок и лоцманских ботов, доставлявших провиант и отвозивших пассажиров на берег.
На другой день спозаранку Хорек нанял лоцманский бот до Макао, оставив свой плавучий сад на попечение Полетт. Вернулся он через сутки и был мрачнее тучи.
Капитан Чарльз Эллиотт, британский представитель в Макао, угостил его удручающим обзором нынешней ситуации. Оказывается, император издал серию указов, предписывающих властям провинций искоренить опийную торговлю. Во исполнение приказа власти реквизировали и сожгли «резвые крабы», что некогда шныряли по реке, доставляя опий с кораблей на берег. Многие английские коммерсанты думали, что вскоре ситуация нормализуется, как уже бывало не раз – вспышки чиновничьей рьяности длились от силы месяц-другой. Но не тут-то было – вновь отстроенные «крабы» сожгли вторично. И это было только начало. Следующим шагом мандаринов стал арест торговцев опием: одним дали тюремный срок, других казнили. Лавки и притоны закрыли, запасы зелья сожгли. После ужесточения правил прохода по Жемчужной реке «штемпель» стал почти недостижимым. Получить пропуск могли лишь те иностранцы, за кого ручалась кантонская купеческая гильдия. Хорек, не имевший связей в гильдии, вряд ли мог надеяться на такое ручательство. Капитан Эллиотт рекомендовал ему стоять на якоре в Гонконге, дожидаясь благоприятного развития событий.
Слушая Хорька, Полетт все ждала, когда в рассказе возникнет имя Чиннери. Так и не дождавшись этого, она спросила:
– А еще с кем-нибудь вы встречались, сэр?
Хорек окинул ее взглядом и, помолчав, пробурчал:
– Да. Я виделся с мистером Чиннери.
– И что? Встреча была полезной?
– Да, но не такой, как я рассчитывал.
Художник принял Хорька в своей студии, расположенной на верхнем этаже его резиденции в доме 8 по улице Игнасио Баптисты, просторном солнечном помещении, увешанном великолепными портретами и пейзажами. Два китайца-подмастерья заканчивали очередную картину.
Хорек очень быстро понял, что мистер Чиннери ожидает заказа на портрет, и разъяснил, что цель его визита совершенно иная. Узнав, что речь всего лишь о двух рисунках кантонских художников, маэстро надулся. Презрительно скользнув взглядом по изображениям камелии, он заклеймил рисунки никчемной мазней, не стоящей и крупицы внимания истинного творца; поденщики, малюющие цветочки, сказал он, недостойны звания художника, они всего-навсего ловкие копиисты, создающие дешевые сувениры на потребу путешественников и моряков.
– В Китае подлинное искусство мертво, сэр, мертво…
Хорек догадался, что застал художника в скверном расположении духа, и, откланявшись, решил наведаться как-нибудь в другой раз. Он уже был в дверях, когда маэстро, желая, видимо, загладить свою неучтивость, спросил, хорошо ли гость помнит дорогу к причалу, где его ждала лодка. Не особо, сказал Хорек, и тогда мистер Чиннери предложил ему проводника – своего племянника, жившего у него в доме. Мол, парень не так давно приехал из Индии, но уже хорошо знает город.
Хорек с благодарностью принял сию любезность, и художник кликнул племянника, оказавшегося юношей лет двадцати пяти. Внешне парень был вылитый дядя, только, естественно, моложе и чуть смуглее: те же выразительные глаза, тот же нос пуговкой. Они были так похожи, что Хорек, не будь он уведомлен о степени их родства, принял бы их за отца и сына. По дороге к причалу выяснилось, что схожи они не только внешне – под влиянием мистера Чиннери молодой человек тоже стал художником. Вообще-то маэстро его первый учитель, поведал юноша, и теперь, идя по его стопам, он отправляется в Кантон, где надеется получить заказы; пользуясь дядиными связями, он раздобыл пропуск и на днях покидает Макао.
И тут Хорька осенило: он предъявил рисунки камелий и спросил, не возьмется ли молодой Чиннери, пребывая в Кантоне, навести справки об их создателях. Юноша охотно согласился, и они, еще не дойдя до причала, условились: Хорек оплачивает регулярные отчеты о ходе поисков, а в случае успешного результата художник получит существенное вознаграждение.
В этом договоре Пенроуза тревожило одно: необходимость расстаться с рисунками. Однако юный Чиннери вмиг развеял его опасения, сказав, что он отменный копиист. Рисунки понадобятся ему на пару дней, не больше, он сделает с них копии и тотчас лично доставит оригиналы на «Редрут».
– Могу ли я, сэр, узнать имя этого племянника мистера Чиннери? – запинаясь, спросила Полетт.
– Эдвард. Эдвард Чиннери. – Хорек смущенно подергал себя за бороду. – Но он сказал, что вам известен под прозвищем Дрозд.
– Вот как? – охнув, Полетт прижала ладони к щекам.
– Он очень, скажу вам, обрадовался известию, что вы здесь. Дескать, вы были ему как сестра, но потом из-за сущей ерунды между вами случилась размолвка. Сказал, сильно по вам соскучился, правда, называл вас как-то иначе… Паг… что-то этакое…
– Пагли? Это означает «сумасбродка». – Полетт отняла руки от лица. – Да, он награждал меня всякими прозвищами. Мы вправду были добрыми друзьями. Простите меня, сэр. Я должна была поставить вас в известность… но тогда случилась весьма конфузная история… Рассказать?
– Не утруждайтесь, мисс Полетт. – Лицо Хорька озарила редкая улыбка. – Мистер Чиннери уже обо всем поведал.
Крик впередсмотрящего всех застал врасплох:
– Кинара! Земля! Маха-Чин агей хай! На горизонте Китай!
Бахрам с Задигом стояли на квартердеке; услышав вопль ласкара, энергично махавшего рукой, они перешли к правому борту и вскоре из-под козырьков ладоней увидели, как прямая линия горизонта меняет свои очертания, превращаясь в зазубренный ландшафт острова Хайнань, самой южной оконечности Китая. «Анахита» подошла к острову ближе, и Бахрам, разглядывая его в подзорную трубу, решил, что по виду он мало чем отличается от Сингапура и прочих попадавшихся в пути островов с крутыми холмами, лесными чащами и берегами в окантовке золотистого песка.
Прозвучала команда «свистать всех наверх», был отдан приказ смотреть в оба, поскольку о здешних местах ходила дурная слава, и всякое появившееся судно могло оказаться пиратским кораблем. Сигнальщиков выставили на нос и корму, марсовые заняли позиции на мачтах.
– Табар лагао! Поглядывай! Габар утхао! Не зевай!
Подняв брамсели и трюмсели, «Анахита» летела впереди ветра, круто кивая волнорезом, рассекавшим пенистые буруны. Остров скрылся из виду, но на закате вновь появилась его окутанная облаками горная вершина.
Зрелище разволновало Бахрама, напомнив об ином путешествии, случившемся двадцать два года назад, и другом далеком острове.
– Скажи-ка, ты помнишь нашу давнюю встречу с полководцем? – обратился он к Задигу.
Тот рассмеялся:
– Конечно, Бахрам-бхай! Как такое забудешь?
Было это в феврале 1816-го, когда на борту «Каффнеллса» приятели плыли в Англию. Покинув Кантон, через два месяца они пришли в Кейптаун, где их ждала потрясающая новость: Наполеон Бонапарт сослан на маленький остров в Атлантике. Известие ошеломляло, поскольку в Макао ходили слухи, будто после победы при Ватерлоо герцог Веллингтон вздернул императора на дереве. И вот нате вам – Бонапарт, оказывается, заточен на острове Святой Елены, следующем порте захода «Каффнеллса». Вероятность хоть краем глаза увидеть бывшего властелина взбудоражила пассажиров шхуны.
Бахрама, в то время слабо разбиравшегося в европейской политике, новость впечатлила не особо, но вот друга его сразила, точно удар молнии. Когда Бонапарт вторгся в Египет, он, пятнадцатилетний мальчишка, жил в отчем доме в районе Маср аль-Кадима, что в старом Каире. Память ярко запечатлела панику, охватившую округу при известии, что французская армия заняла Александрию и движется к столице. Когда над пирамидами поднялась пыль сражения, Задиг был среди тех, кто взобрался на церковь аль-Муаллака[28]28
Христианская коптская церковь Богородицы в старом Каире.
[Закрыть] и слушал канонаду, доносившуюся из-за реки.
Победа Бонапарта сказалась на нем по-всякому, в большом и малом: он стал брать уроки французского языка и вместе с кузенами ездить верхом, что прежде им, христианам, не дозволялось; Задиг навсегда запомнил свою первую рысцу по каирским садам Эзбекия. А еще он приобрел навыки своего будущего ремесла, поступив подмастерьем к французскому часовщику.
Изменилась и жизнь многих его родичей: одни, кое-как изъяснявшиеся по-французски, стали переводчиками в оккупационной армии, другие получили работу в открывшейся печатне. А вот судьба дядюшки Орхана Карабедьяна переменилась в корне: иконописец, вечно без гроша в кармане, он еле-еле сводил концы с концами, существуя на церковные заказы, но теперь французские офицеры осаждали его просьбами о картинках с видами коптского Египта – им было все равно, что он вовсе не копт, а армянин.
Французское вторжение косвенно способствовало и женитьбе Задига. Родственники со стороны его матери чрезвычайно разбогатели, заключив невероятно выгодный контракт на поставку вина и свинины завоевателям. Когда Наполеон решил двинуться в Палестину и Сирию, родичи делегировали своего зятя, недавно вошедшего в их дело, в состав обозной команды. Через год в Яффе парень умер от чумы. Выдержав положенный срок траура, семья решила, что дочери их негоже вдовствовать до конца жизни, и вот так состоялось супружество Задига.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































