Текст книги "Основы теории литературно-художественного творчества"
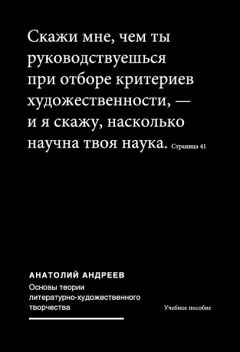
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
А если нет… Что ж, не они первые и не они последние в ряду тех, где одним из первых – Набоков. Он не сумел совершить невозможное, но почти убедил нас в том, что это возможно.
Такова магия таланта.
3.8. Философия пустоты
(гносеологический роман В. Пелевина «Чапаев и Пустота»)
В главе 3.5. «Роман: художественно-гносеологические возможности жанра» я попытался выделить сущностные признаки гносеологического романа. Ход моих рассуждений был следующим. Общая логика развития культуры, а также субъекта и объекта культуры, личности, – от психики к сознанию – блестяще и впечатляюще иллюстрируется развитием романа, который в силу его значимости для культуры, хочется назвать не жанром даже, а – видом литературы.
Вот наш опорный гносеологический тезис: развитие романа – это адаптация жанра под потребности познания. Роман позволил «ощутить» материальность философии (хотя ее идеальную содержательность следует понимать, воспринимать сознанием), «прикоснуться» к ней чувствами, не превращаясь при этом в разновидность философии, то есть, не утрачивая себетождественности.
Таким образом, роман, будучи искусством по генезису, тяготел к «антиискусству», к философии, науке наук. Уже в определенном отношении не искусство, еще далеко, по сути, не философия: такова культурная ниша романа. Маргинальность, амбивалентность, двуприродность – вот модус, статус и сущность романа.
Обратим внимание: не объем, не тип героя и не способ подачи материала становились решающей характеристикой; такой характеристикой становились культурные функции романа.
В связи со всем вышесказанным отмечены четыре стадии развития романа.
1. Роман событий.
2. Роман характеров.
3. Роман ситуаций.
4. Роман познания (гносеологический роман).
С моей точки зрения, роман Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» является любопытной модификацией гносеологического романа. Надо свято верить в пустоту, боготворить ее (свято место бывает, по Пелевину, именно и только пустым), чтобы с такой пассионарностью дискредитировать и аннигилировать все то, что пустотой не является или не желает ею быть. Это не «прикольный дискурс», к которому приучил нас постмодернизм, а форма серьезного отношения, своего рода «буддистская сатира» (которая, в свою очередь, является производной от героического служения пустоте как началу начал). Роман интересен тем, что, обладая невеликой культурной ценностью, он представляет собой заметную художественную ценность. Если угодно, это гениальный роман (не самый бесспорный, с моей точки зрения, комплимент, ибо гениальность бывает разного рода и уровня), который состоялся несмотря на то, что состояться, по идее, у него не было никаких шансов, ибо самоубийственной сверхзадачей романа была избрана интенция самоотрицания. Это софистическо-эвристический роман без ответов или, лучше сказать, роман, в котором вопросы являются формой ответов.
Сначала и по порядку о романе можно говорить в том случае, если адаптировать его под объективно существующий культурный космос – если соотнести его с содержанием, придать содержательность пустоте. Начать сначала в культуре – идти от общего к частному.
Сначала в романе было не слово, а некая аморфная генеральная идея или установка, настроенность мироощущения и миросозерцания на то, чтобы исполнить гимн Пустоте. Вот этот общий пафос романа и позволяет объединить все части, фрагменты, осколки и моменты в нечто целое. На самом деле, это, конечно, универсальная художественная технология, и Пелевин здесь оригинален не более, чем, скажем, Л. Толстой, у которого каждая строчка эпопеи пропитана «духом народным», или Достоевский, у которого предчувствие Бога становится вездесущим и благорастворенным «фактором наказания», или Шолохов, Набоков – словом, все великие. Закон художественности – в капле ищи свойства океана – отменить невозможно, его можно только использовать на корысть красоте.
Вот и у Пелевина каждая строчка внятно или невнятно промаркирована – пустотой, наличием отсутствия чего бы то ни было. На все лады обыгрывается противоречие, заложенное в самой природе вещей: зачем писать книгу во славу пустоты, если сама идея книги – пустая затея в контексте бесплотной вечности? А?
Книга, очевидно, – экзистенциальный пустячок для автора, ценностный мир которого не позволяет трактовать любую книгу как ценность, книга предназначена для идиотов-читателей, для Петек, Васек, Анок, которым иначе как через культурные символы и культурный язык не втолковать сущность пустоты – надо показать им то, чего нет. Привыкли ведь к сказочным кормам: поди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю, что. «Идиоты, – прошептал я, поворачиваясь к стене и чувствуя, как мне на глаза наворачиваются слезы бессильной ненависти к этому миру, – Боже мой, какие идиоты… Даже не идиоты – тени идиотов… Тени во мгле…» (Цитируется по изданию: Пелевин В.О. Чапаев и Пустота. – М.: Эксмо, 2008)
И в то же время как-то элегантно по-мессиански «посвящаем созданную этим текстом заслугу благу всех живых существ», то бишь «идиотам» же (с. 10). «Текст» не претендует на смысл, однако он «создает заслугу». Это противоречие – тень пустоты, проецируемой на культуру, которой, увы, тоже нет в подлунном мире. Так, блики миражей.
Книга (или текст: так сакральнее) становится своего рода служением пустоте, и только это оправдывает ее появление на свет (в котором она, по всем священным канонам, должна бы раствориться). Однако амбивалентность художественного языка, который воплощает громоздящиеся ряды образов, парадоксально сослужила не ту службу: путь к Пустоте, возможно, тот самый Дао, лежит через отрицание Пустоты – через смех и слезы. Тайный девиз книги, проявляющийся в каждой строчке, – не плакать, не смеяться, не понимать – ничего, нигде и никогда. И никем, само собой. Но путь к ведам, ведущим во «Внутреннюю Монголию», лежит через понимание, смех и слезы. Именно поэтому (увы Пелевину, если он честен) книга стала явлением культуры и предметом культурной аналитики.
Пожалуй, в качестве иллюстрации нашего теоретического тезиса стоит привести несколько виртуозных «теоретических» диалогов-пассажей, которые буквально составляют идейный (а также стилевой) каркас текста. Это именно то, на чем держится пустота (которая по определению ни на чем держаться не может). Вот перлы из ключевого диалога Петра Пустоты, главного героя (так и хочется сказать – субъекта) повествования, и загадочного, потому как не существовавшего нигде и никогда, «барона Юнгерна». Фантомный (как абсолютно все в романе) «барон» на правах уже «Слившегося с пустотой», точнее, ставшего этой самой «не материей» и «не субстанцией», проще сказать, самой пустотой, ведет диалог: «Просто я хочу привести пример, который вы должны хорошо понять. Представьте себе непроветренную комнату, в которую набилось ужасно много народу. И все они сидят на разных уродливых табуретах, на расшатанных стульях, каких-то узлах и вообще на чем попало. А те, кто попроворней, норовят сесть на два стула сразу или согнать кого-нибудь с места, чтобы занять его самому. Таков мир, в котором вы живете (мир, который Пустота тут же возненавидит – А.А.). И одновременно у каждого из этих людей есть свой собственный трон, огромный, сверкающий, возвышающийся над всем этим миром и над всеми другими мирами тоже. Трон поистине царский – нет ничего, что было бы не во власти того, кто на него взойдет. И, самое главное, трон абсолютно легитимный – он принадлежит любому человеку по праву. Но взойти на него почти невозможно. Потому что он стоит в месте, которого нет. Понимаете? Он находится нигде» (с. 323). Петр Пустота, разумеется, понимает. «Так почему бы вам не оказаться в «нигде» при жизни? Клянусь вам, это самое лучшее, что в ней можно сделать. Вы, наверное, любите метафоры – так вот, это то же самое, что взять и выписаться из дома умалишенных» (с. 324). Пустота, разумеется, так и сделает. И роман по образу и подобию Евангелия (да и всех вообще священных текстов) превращается в своего рода житие Того, Кто попал-таки во Внутреннюю Монголию. «Ом мани падме хум», – как сказано в предисловии (с. 7-10). Что означают сии слова – неизвестно; впрочем, это должно быть ясно и без перевода. Даже без слов.
Кстати, насчет Внутренней Монголии… Барон: «– Насчет того, куда попадает человек, которому удалось взойти на трон, находящийся нигде. Мы называем это место «Внутренней Монголией».
– Кто это «мы»?
– Считайте, что речь идет о Чапаеве и обо мне, – сказал барон с улыбкой. – Хотя я надеюсь, что в это «мы» со временем можно будет включить и вас.
– А где оно, это место?
– В том-то и дело, что нигде. Нельзя сказать, что оно где-то расположено в географическом смысле. Внутренняя Монголия называется так не потому, что она внутри Монголии. Она внутри того, кто видит пустоту, хотя слово «внутри» здесь совершенно не подходит. И никакая это на самом деле не Монголия, просто так говорят. Было бы глупей всего пытаться описать вам, что это такое. Поверьте мне на слово хотя бы в одном – очень стоит стремиться туда всю жизнь. И не бывает ничего лучше в жизни, чем оказаться там» (с. 337–338).
Автор текста ставит перед собой невыполнимую задачу – и справляется с ней на пределе беспредельных человеческих возможностей. Его герою Пустоте удается не только описать «нигде», но и зафиксировать структуру с фактурой этого самого «нигде». Пустота: «И, когда мое тело падало на землю, я словно бы успел осознать неуловимо короткий момент возвращения назад, в обычный мир – или, поскольку осознавать на самом деле было абсолютно нечего, успел понять, в чем это возвращение заключается. Не знаю, как это описать. Словно бы одну декорацию сдвинули, а другую не успели сразу установить на ее место, и целую секунду я глядел в просвет между ними. И этой секунды хватило, чтобы увидеть обман, стоявший за тем, что я всегда принимал за реальность, увидеть простое и глупое устройство вселенной, от знакомства с которым не осталось ничего, кроме растерянности, досады и некоторого стыда за себя» (с. 327). Случилось чудо: Пустота стал свидетелем того, свидетелем чего стать невозможно.
Это у «идиотов» Орфей спускается в ад и возвращается оттуда невредимым; у избранных само понятие ад вызывает печальную улыбку посвященных. Чапаев, барон, Пустота и иже с ними идут иным путем и – дорогу осилит идущий – попадают-таки в иную систему координат, где царят иное устройство мира, иной хронотоп, иная система ценностей. Все предельно современное – потому что технический, пространственно-временной аспект «картины мира» («спрятанные за покровом реальности рычаги и тяги», с. 334) соблазнительно диалектичен. Предлагается и технология попадания (восхождения?) раз и навсегда (при жизни, разумеется) на трон, что во Внутренней Монголии, сиречь нигде. Для этого надо найти свою «золотую удачу», «это когда особый взлет свободной мысли дает возможность увидеть красоту жизни. Я понятно выражаюсь?» – вопросил Пустота. Барон оценил изумительную «отточенность формулировок» (с. 317). Кстати сказать, в предисловии формулировка особый взлет свободной мысли квалифицирована как «данное автором (неизвестным – А.А.) жанровое определение». «Редактор», якобы, это определение «опустил» как «шутку». Но реальный автор (так и хочется извиниться перед Пелевиным за подобную формулировку), как нам уже известно, с такими вещами не шутит.
Итак, перед нами не книга, не роман, и даже не текст, а, если уж на то пошло, – особый взлет свободной мысли. «Документ». «Психологический дневник». «Некоторая судорожность повествования объясняется тем, что целью написания этого текста было не создание «литературного произведения», а фиксация механических циклов сознания с целью окончательного излечения от так называемой внутренней жизни». И далее: «подлинная ценность этого документа заключается в том, что он является первой в мировой культуре попыткой отразить художественными средствами древний монгольский миф о Вечном Невозвращении» (предисловие, с. 7–8). Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Сама мысль о том, что уникальный, «первый в мировой культуре» «текст» может быть воспринят как нечто художественное, как «литературное произведение», кажется автору до предела оскорбительной. «Художественные средства» – это вынужденная уступка «идиотам». «Литература, искусство – все это были суетливые мошки, летавшие над последней во вселенной охапкой сена» (с. 443).
Для того чтобы бесконечные диспуты всех со всеми (надо понимать – никого ни с кем) не выглядели так, как они только и могут выглядеть, глупо и занудно (ибо: суха теория), автор использует прием, который можно назвать гальванизацией воображения «идиотов». Реальный автор, который скрывается за неизвестным автором (так сказать, заметает следы, которых нет), чтобы самому не выглядеть «идиотом»-документалистом, постоянно переключает внимание «просвещенной аудитории» на культурно-исторические и социальные «реалии» (уже смешно – их ведь не существует в измерении «нигде» и «никогда»!). Как бы отвлекает от сути, от простого и глупого устройства вселенной – сам ни на секунду от нее (от него) не отвлекаясь. Перед нами мелькают Петербург времен гражданской войны, сумасшедший дом уже наших дней, самураи в современной Москве, бандиты, постигающие суть философии пустоты на простой и доходчивой «фене», с ядреным матерком и своеобразным юмором, тут и там безо всякой мотивировки, как в дурдоме, выстреливают хлесткие пассажи, разоблачающие коммунистов-большевиков, русскую интеллигенцию и саму русскую ментальность, в глазах рябит от знаковых фигур русской истории – в движение приходит целый клубок перекликающихся мотивов, сюжетов и символов. Все кажется сложно и непостижимо. Трактуй не хочу.
Все это при желании можно считать бесконечными реинкарнациями и «невозвращениями». Вот почему вся эта шелуха реальности вызывает у повествователя (у Пустоты) гнев напополам отвращением, густо-прегусто сдобренными злющей-презлющей иронией. А на что, собственно, рассердились, г. П.? На кривое зеркало? Как бы то ни было, вот этот, в «реалистическом» ключе сделанный пласт текста – на потребу эстетическим гурманам и любителям постмодернистских «приключений». Художественно, подчеркну, два пласта слиты, как и положено в гносеологическом романе, однако «декорации» легко отделяются от идейной конструкции (от философии пустоты). В контексте философии пустоты (или пустоты философии?) оказываются актуальными, не пустыми, весомыми социальные и культурные коды, которыми можно жонглировать, не опасаясь обвинений в глобальной неувязочке. Во-первых, сами обвинения есть пустота, а во-вторых, без этих кодов роман (являющийся, между прочим, кодом культуры) того и гляди окажется эстетической пустотой – читатели-«идиоты» могут отвернуться, не одобрить. Отсюда – свободное обращение к разным лексическим пластам, точнее, к разным уровням понимания (как правило, непонимания) пустоты, отраженным в разных лексических пластах, к разным историческим эпохам, ситуациям – словом, к мозаике и эклектике, ибо миром правит один универсальный закон пустоты, и, следовательно, чем больше проявлений его (ее), тем фундаментальнее закон.
Этим предопределено игровое начало романа, ибо игровая природа литературы позволяет культивировать как добро, так и зло, как содержательность, так и пустоту. Но это игра в игру, способ обессмысливания игры. Философия игры, помещенная в философию пустоты, мгновенно утрачивает свой игривый нрав (хотя кажется, что усиливает). Именно этим объясняется «некоторая судорожность повествования» (а ведь неплохая автохарактеристика стиля). Право же, напрасно автор, не последний мастер презренных метафор, с таким пренебрежением относится к законам «литературного произведения» и «художественным средствам». Текст документа становится «внятным» и суггестивным благодаря идейно-символическому симбиозу. Философия пустоты нашла адекватную форму: гносеологический роман. Иначе у «документа» просто нет шансов выйти в народ. Поэтому, думается, автор вовсе не рубит сук, на котором сидит; автор кокетничает – в лучших традициях романа.
Роман, если следовать инструкции загадочного барона, фантома, порожденного несуществующим автором, анализировать нет смысла, его надо «хорошо понять», то есть через примеры-аргументы почувствовать неизрекаемую суть. Попытаться проникнуть через подобие игольного ушка во Внутреннюю Монголию. Воспринять текст как инструкцию по восхождению на «трон бесконечной свободы и счастья», которого, понятно, нет, потому что он находится нигде. Кому непонятно, тот читает символы и силой своего темного сознания превращает их в социокультурные коды, превращаясь тем самым в «идиота». Что ж тут непонятного?
А если все же анализировать, помещая примитивную философию пустоты (главный аргумент которой – «глиняный пулемет», мизинец левой руки Будды Анагамы, которым тот, «не тратя времени на объяснения», «проявлял истинную природу вещей», то есть превращал все вокруг в пустоту, с. 437) в контекст гуманистического космоса, то роман легко обнаруживает свою культурную пустоту. Пустота как такой невиданный тип содержания, который аннигилирует любое другое содержание, является всего лишь пустотой (см. главу 2.4. «“Тонкость» как китайская поэтическая традиция в восприятии русским культурным сознанием».). Если отвлечься от «глиняного пулемета», то и говорить не о чем. В книге Пелевина человека нет – нет ни тела, ни души, ни духа. Идеал книги – бесплотность (эквивалент пустоты). Из арсенала «ну хоть что-нибудь человеческое» присутствует мироощущение, которое под воздействием интеллектуальных химикатов стремится раствориться в веществе «ничто». Безликие персонажи не испытывают эротических переживаний, они даже не пьянеют, хотя все время пьют, употребляют кокаин, галлюциногенные грибки etc. Строго говоря, они не мужчины и не женщины (характерен персонаж мужчины, которого зовут «просто Мария»). Это бесполые существа, гуманоиды, которые на разные лады мучительно пытаются сформулировать великий парадокс: почему все есть, когда нет ничего. Что, повторим, и составляет внутренний сюжет книги, ее нерв, дух и эстетику. В свете сказанного понятно, почему так страстно отрицается страстный, чувственный Бунин («трипперные чердаки Бунина», «объясненьице на уровне Ивана Бунина» с. 167), мучающийся смыслами Достоевский (присутствует с чувством сделанная пародия на «Преступление и наказание»).
Традиционная оппозиция «натура – культура» (Эрос – Танатос, литература – философия, жизнь – смерть) подменяется бесстрастной парадигмой «Пустота – и жалкие ее проявления» («бессодержательное» содержание и «содержательная» форма – содержание и форма, формула культуры, как ни крути) – в данном контексте, конечно, формой отрицания культуры. Диалоги, диалектика – как форма пустоты: это что-то новенькое в конной авиации, как шутили во времена Чапаева и Петьки.
Философское обеспечение пустоты как начала и конца всего – мнимая, пустая мудрость, которая и мудростью-то прикидывается лениво. Тут не мудрость, а фокус впечатляет: грубо, зримо – психологически и концептуально – обосновать наличие некой Внутренней Монголии, пустыни, царства пустоты. Страстность и «идейный» пафос здесь неуместны; здесь функции пафоса выполняет ледяная, обжигающая ирония – ирония как стратегия тотального отрицания. А где ирония, там и игровой потенциал, позволяющий ошибочно квалифицировать текст как постмодернистский. Постмодернизм не был бы постмодернизмом, если бы он был «за пустоту», если бы он серьезно культивировал пустоту. Так или иначе, злая ирония по поводу любого проявления жизнелюбия, игра, элементы постмодернистской поэтики (в частности, плотная интертекстуальность) делают книгу современной по языку, ложно постмодернистской. Что и говорить: для неискушенного сознания гносеологический роман, отрицающий сам себя, – это культурный шок. Пелевин нашаманил – и стал культовым явлением, кумиром «идиотов». Так сказать, за что боролся, на то и напоролся.
Однако не стоит обольщаться по поводу уникальности «первого в мировой культуре» текста. По большому счету, роман Пелевина пополнил копилку книг-фокусов, книг, завораживающих пустотой содержания (см. об этом главу 3.7. «Nabokov?.. Сирин?.. Набоков.»). Тут интересно другое: почему сегодня так востребованы подобные книги?
Несмотря на пренебрежение аристократов духа Набокова и Пелевина к Фрейду и Юнгу соответственно, без психоаналитиков в этой ситуации не обойтись. Сегодня именно пустота становится навязчивым проявлением апокалиптического мироощущения, одной из форм отрицания ценностей цивилизации – и в таком своем качестве иронический текст Пелевина обнаруживает конструктивный культурный потенциал, ибо многое в сегодняшнем мире, в эпоху цивилизации, действительно достойно отрицания. Пустота – всего лишь ипостась Танатоса: есть и такой модус иронии в универсуме, с которым шутки плохи. Успех книги во многом предопределен наличием того, чего нет, а именно – коллективного бессознательного, в недрах которого бушует разочарование всем и вся, любыми социальными идеалами и стереотипами. Перестроечная книга пытается реализовать модель перестройки сознания одного героя (и, потенциально, всех, абсолютно всех читателей). Однако самая сильная сторона книги – та, которая представляется автору просто развлекательной. Что ж, гносеологический роман – серьезное культурное достижение, и он не прощает слишком вольного обращения с реальностью. Ты отрицаешь реальность – реальность отрицает тебя. Если с высоты пустоты игнорировать неуместные жизненно важные вопросы, то рискуешь сам превратиться в символ «пустого отрицания».
Но я бы, возможно, не взялся за эту работу, если бы не одно соображение. Я думаю, что подобного рода «тексты» по-своему весьма обогащают вечно тонкий культурный слой, культурную почву. Уже факт того, что язык может быть приспособлен под передачу самых невероятных, фантомных ощущений, должен внушать оптимизм. В этом контексте служение пустоте превращается в служение культурному слову, которому подвластны любые полутона, любая нюансировка при трансформации мироощущения в мировоззрение. Эта художественная технология (образец оригинального стиля) – вклад в копилку культуры, можно сказать – подготовка культурного прорыва. По идеям – это хмурое средневековье, по стилю – двадцать первый век. И «технология» эта только и могла реализоваться на дрожжах допотопных идей.
Вот и получается: не стоит недооценивать культурной значимости химер. «Чапаев и Пустота», несомненно, – новое слово. В рамках шага назад (с позиций культуры) писатель делает много мелких шажков вперед (с позиций литературно-творческих). Делает, что может.
Мне думается, великая литература должна время от времени позволять себе такие «пустячки» – чтобы держать себя не только в духовно-экзистенциальном, но и в эстетическом тонусе. А ведь в рамках гносеологического романа эти тонусы однажды неизбежно сольются. И это будет взрыв, который породит новую духовно-художественную вселенную. В соответствии с законами универсума.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































