Читать книгу "Вечный зов. Том II"
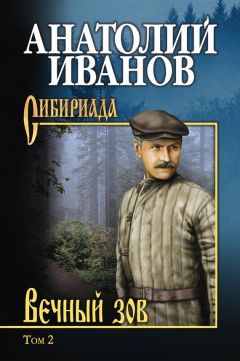
Автор книги: Анатолий Иванов
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Но Вахромеев молчал. Пуля ударила ему прямо в лоб. Он немного сполз с сиденья. Кровь двумя струйками сочилась по лбу, капала с грязных бровей на щеки. Но этого никто из экипажа не видел.
* * *
…Соборовка была на виду, за худым лесочком, она вся горела, по окраинам деревни стояли особенно высокие и черные космы дыма. Закручиваясь жгутами, они словно ввинчивались в дымное марево, расползшееся по всему небу.
– А если там немцы, товарищ старший лейтенант? – прокричал Семен, припав к смотровой щели.
Грязный и едкий пот застилал глаза, хотелось сбросить шлемофон к чертовой матери или хотя бы вытереть глаза какой-нибудь промасленной тряпкой, но сделать было нельзя ни того, ни другого. Танк летел в низину по разрытой снарядами земле, на которой не было живого места, нырял в ямины и с ревом вылетал оттуда, чтобы снова ткнуться в рытвину.
– На сколько ходу горючего-то?
– Совсем уже нет. На этом самом пару едем, который воздух портит…
– Ну вот, а тут авось… Не должны бы они ее взять.
– Вы ж с командиром полка говорили. На Ольховатку раз прут…
– Соборовку они, может, и обошли, а взять не могли, по-моему, – сказал Дедюхин упрямо. – Эх, Вахромеев! Что Капитолина-то скажет теперь, а, Семен?
Семен хотел что-то ответить – что, мол, тут скажешь, да и самим еще надо выжить, – как вдруг мотор, захлебнувшись, почихал и умолк. Тяжелый танк словно врезался в тугую резиновую стену, стена спружинила, но выдержала, стальная громадина прорвать ее не смогла – не хватило силы – и остановилась. Семен качнулся вперед.
– Горючее кончилось! – прокричал он, задыхаясь.
– Самоле-от! «Ю-юнкерс»! – ударил по ушам чей-то незнакомый голос так, что в голове зазвенело. Семен не сразу и разобрал, что это кричит дядя Иван. В эти секунды он все еще думал почему-то о Капитолине, вдруг отчетливо вспомнил, как она, опустив голову, смущаясь, но с нотками радости в голосе произнесла недавно: «Вахромейчик меня вроде зарядил наконец-то». И у него мелькнуло: «А что, если и Олька… если я ее тоже, как Вахромейчик? А Наташка ничего не знает…»
Рядом что-то ухнуло – точно глыба земли отвалилась и упала глубоко вниз. Звук был глухой, нестрашный и что-то напоминал. И Семен в следующее мгновение вспомнил – что. Километрах в семи от Шантары вниз по течению Громотухи был высокий, тридцатиметровый глинистый яр. Вешние воды с каждым годом подмывали его все сильнее. На кромку яра выходить было опасно, она была вся в трещинах, многопудовые глыбины земли время от времени отламывались и падали вниз, в воду. И все-таки в детстве Семен любил туда ходить. Было до жути интересно глянуть с яра вниз, на грозно бурлящую далеко внизу Громотуху. А еще интереснее было найти отслоившуюся уже от кромки яра земляную глыбину, которую удерживали только травяные корешки. Если тронуть ногой такую глыбину, она угрожающе качнется. И часто Семен, стоя одной ногой наболев или менее надежной кромке яра, другой упирался в трещину и, рискуя сорваться вниз и сломать шею, раскачивал отслоившуюся земляную глыбу до тех пор, пока травяные корешки не обрывались и тяжелый, центнера в полтора, а то и больше, кусок глины не летел вниз. Через какие-то секунды снизу доносился глухой и тяжкий звук, похожий на взрыв. «Он походил вот на такой же, как этот», – мелькнуло у Семена, но в следующее мгновение в шлемофоне кто-то тяжко задышал, захрипел: «Кузьмич… Кузьмич…», а танк стал наполняться едким дымом.
– Горим! Спокойно, товарищи… Командира убило. Слушай мою команду…
Это, задыхаясь, проговорил Алифанов, но команды никакой не последовало, а может, Семен ее просто не расслышал. Со скрежетом откинулась крышка люка, и тотчас по броне начали хлестать автоматные очереди. Дым в танке становился гуще, Семена давило удушье, и он будто чувствовал, как накаляется броня. «Остались или нет у Алифанова еще снаряды? – подумал Семен тревожно. – Ведь рванет… Кажется, не осталось… И горючего нет».
Эта мысль почему-то успокоила, будто немецкие автоматчики, поливающие огнем неподвижный горящий танк, никакой опасности уже не представляли, как и сам пожар. Ныло только у Семена сердце, тупо стучало в мозгу: «Вот и Дедюхина… Вот и Дедюхина…»
По броне кто-то снаружи застучал, и как из-под земли донесся раздраженный голос Алифанова:
– Савельев! Водитель… Выходи!
– Семка, ты живой аль нет? Семка-а!
Как он вывалился из люка и оказался на земле, у полузасыпанной траншеи, Семен уже не помнил. Он очнулся от раздирающей боли в легких, открыл глаза и увидел склонившегося над ним дядю Ивана.
– Ну-ну?! – кричал тот, грязный, с разорванной на плече гимнастеркой, которая висела черными, в засохшей крови, клочьями, и страшно сверкал глазами.
– Воздух… Голова от него кружится, – проговорил Семен с жалкой и виноватой улыбкой.
Возле самого лица Семена лежали ноги Алифанова, они шевелились, упирались в землю носками заляпанных артиллерийской смазкой сапог. Командир орудия бил из ручного пулемета куда-то в дымную мглу, стелившуюся низко по земле, вдоль невысоких кустарников. Семен увидел в этой мгле неясные фигуры, которые то возникали, то исчезали, и понял – это приближаются перебежками немцы. «Вот и Дедюхина… Вахромеева… А теперь и нас всех…» – пронеслось у него в мозгу и словно что-то окончательно продуло там. Он резко перевернулся со спины на живот, обнаружив, что в руках у него автомат. Вываливаясь из танка, он, видимо, машинально схватил оружие. Когда в дыму замаячили две вражеские фигуры в касках, Семен полоснул по ним длинной очередью. Фигуры исчезли. Немцы то ли были убиты, то ли просто прижались к земле – понять было нельзя.
– Бей прицельно. Поставь на одиночные, – сказал Иван, и Семен поразился его спокойному голосу и этому хотя и практичному – ведь у Семена был всего один диск, – но уже, наверное, бесполезному совету.
Сам Иван, у которого в руках был тоже автомат, не стрелял. Он лежал, вжимаясь в землю, уткнув в травяную кочку заросший подбородок, смотрел туда, где струился клочковатый дым. Автомат он держал в левой руке за ствол, а в правой, вытянутой вперед, у него была граната лимонка, и он чуть подбрасывал ее, перекатывал на ладони, как горячую картофелину.
– Ну что ж… Семка, – тихо проговорил он вдруг, не оборачиваясь, все так же напряженно глядя вперед. – Всяко я думал в жизни своей помереть, а так хорошо не думал. Обойдут они сейчас нас…
Эти слова принесли Семену еще большее облегчение. То невысказанное и больное, что, казалось Семену, Иван носил в себе, всегда рождало неприятную мысль – дядя его, кажется, тяготится войной. «Не ошибетесь в нем», – говорил он, Семен, Дедюхину в Челябинске, рекомендуя взять в свой экипаж, да, видно, поспешно сказал… Дело свое солдатское он делал всегда, правда, хорошо, ни в какой обстановке не терялся. Дедюхин часто его ставил даже в пример, но иногда в сердцах называл «молчаливым пнем». Иван действительно говорил только о самом необходимом, когда без слов нельзя уже было обойтись, старался по возможности уединиться. Семен часто натыкался на него, сидящего где-нибудь в одиночестве, погруженного в какие-то мрачные думы. Ну, война, конечно, не сладкая ягода, тут и помрачнеешь порой, и затяготишься, но у дяди Ивана вроде что-то надломилось внутри, и он все время будто боялся быть убитым. И опять же – смерти не боится и не остерегается только дурак, но вот дядя какой-то… И по малодушию в тугой случай можно погибнуть, стоит в такой момент окончательно сломиться внутри. А дядя, казалось Семену, к этому и идет… Эта мысль была неприятной, она оскорбляла что-то в нем самом, но она родилась и жила в мозгу. Но вот такой случай и настал, а в поведении дяди Ивана нет и намека на то, что он сломался и вот боится смерти, и слова, и голос, усталый и хриплый, будто приоткрыли Семену в дяде Иване человека нового, доселе ему незнакомого, неизвестного.
– Мы не померли еще, – сказал Семен упрямо, стараясь возразить кому-то, но только теперь не дяде Ивану.
– Ну, это живо может произойти. Жалко мне только Агату, Сем… Ясного света тогда и вовсе не увидит…
Где-то вверху загудел противно, приближаясь, вражеский самолет, заглушив последние слова Ивана. Самолет брызгал вниз тяжелыми свинцовыми каплями, они прошили землю в двух метрах от Семена, с ревом пронесся над головой, блеснув желтым, как у застарелой щуки, брюхом. Тотчас густо ударили немецкие автоматчики.
– Вы, Савельевы! – Алифанов, надрываясь от крика, повернул к ним круглое, но какое-то исхудавшее лицо со странно торчащим правым усом. – Шанс у нас, ежели он есть, один. Вдоль этой дымной полосы от нашего танка… Попытаемся!
Их KB горел не очень сильно, но чадил густо, темная дымная полоса стлалась вдоль земли в сторону Соборовки, накрывая маячивший неподалеку перелесок. Иван и Семен поняли, о чем говорит Алифанов, но ведь кто знает, где немцы… Не шарит ли этот дымный хвост по окопавшимся в той стороне немцам? Да и в перелеске могут быть уже фашисты. Но шанс был действительно только этот, если он еще и был. Это не только Алифанов, но теперь и Семен с Иваном сознавали отчетливо.
– Ну что ж, Семен…
– Счас они полезут! – опять прокричал Алифанов, отталкивая бесполезный теперь ручной пулемет с расстрелянным магазином. В ладони у него была зажата граната, такая же, как и у Ивана, другой рукой он вытаскивал из кобуры пистолет. – Давайте мы их уложим к земле – и дёру. Иначе…
– Командира-то с Вахромеевым оставлять им…
Это прокричал Иван.
– А что мы можем? Ты соображаешь?! Приготовиться!
Сделать они действительно ничего не могли, вытащить из танка трупы Дедюхина и Вахромеева было невозможно. «Вот судьба…» – больно задолбило Семену в виски. Там, внутри этой железной коробки, обуглятся их тела, а может, сгорят в прах, нечего будет и хоронить. И не будет на земле их могил. Сгорели в пекле войны… Сгорели в пекле войны… Вот уж точно – в самом пекле они сгорели, такая выпала им доля… Когда-то родились они, в радостях и заботах нянчили их матери, защищали от холода и от жары, от всяких напастей, росли они, радуясь солнцу и ветру, далеким, таинственным звездам и мягкой, пахучей траве. И росли для них где-то девчонки, как вот Наташка для него, Семена… Настал момент, прикоснулись их руки впервые к самому, может, прекрасному на земле – к женскому телу. Когда и как это было у Дедюхина, Семен не знает, ему только известно, что у старшего лейтенанта, кажется, трое детей… А у Вахромеева это случилось недавно, все произошло почти на глазах у Семена. И он, Семен, видел, как быстротечно произошла у Вахромеева с Капитолиной вся любовь. Он видел и понимал, что это у них настоящее и человеческое, только вышло все стремительно, не как обыкновенно, – будто бешено понеслась жизнь, как на киноэкране, если пленку прокручивать в десять раз быстрее. Что ж, оба понимали, что для обыкновенной любви у них не было времени, хотя никогда об этом не рассуждали, не размышляли… И ни Вахромеев, ни Дедюхин не знали, не могли знать, что жизнь их окончится вот здесь, на изрытом бомбами и снарядами поле, близ русской деревушки Соборовки, о которой они и слыхом никогда не слышали, что тут ждет их такой конец…
Все эти мысли пронеслись в голове у Семена лихорадочно, в какие-то секунды, не отключая его внимания от залегших в нескольких десятках метров немцев, которые беспрерывно поливали из автоматов. Пули вокруг взрывали землю, трещали о броню танка, и Семен даже слышал, как некоторые рикошетили и с пронзительным визгом разлетались в стороны. Было только странно, что ни одна из них не задела еще ни дядю Ивана, ни Алифанова, ни его самого. И еще мелькнуло у Семена, что судьба у него пока счастливая, радуйся, Наташка… Только бы вот из этого пекла выбраться!
…Что ж, из этого пекла Семен и Иван Савельевы выберутся живыми и невредимыми, сейчас, когда немцы поднимутся для броска и в эту секунду немного ослабнет их огонь, Алифанов яростно прокричит: «Дав-ва-ай!» Он, Семен, и дядя Иван начнут палить из автоматов, немцы опять залягут. В это время Алифанов и дядя Иван бросят по одной гранате. Немцев они не достанут, но на несколько мгновений ослепят, и этих мгновений будет достаточно, чтобы всем троим юркнуть за горящий танк. Потом они нырнут в густую полосу дыма и, разогнувшись там во весь рост, побегут, как в густом тумане, неведомо куда, задыхаясь и от дыма, и от быстрого бега. Пули будут свистеть вокруг, но опять никого не заденут, только потом, уже в перелеске, где немцев, на счастье, не окажется, когда каждый радостно подумает: «Неужели выбрались?!» – Алифанов вдруг застонет как-то негромко, радостно, выронит пистолет, схватится обеими руками за тонкий березовый стволик и повалится столбом в сторону, на Ивана, до самой земли согнув податливую березку, так и не выпустив ее из коченеющих пальцев, так и умрет, будто в обнимку с ней… Из этого пекла они выберутся и принесут к своим бесчувственное тело Алифанова с простреленным затылком, дядя Иван, обожженный, с окровавленным чужой кровью плечом, прохрипит какому-то пехотному капитану: «Вот! Герои тоже умирают иногда… от пули в затылок», – и Семен еще раз подумает, ощущая радостный, облегченный холодок в животе, что судьба у него счастливая. Откуда же ему было знать, что, хотя и ни одна пуля его не заденет и в дальнейшем, судьба у него сложится так, что он не раз позавидует и сгоревшим в танке Дедюхину и Вахромееву, и погибшему от шальной пули в затылок Алифанову… Этого он не знал, как ни один человек не знает, что ему написано на роду, что готовит ему судьба завтра, послезавтра, через год, через двадцать лет… Он пока лежал, вжавшись в землю, горячую, разогретую то ли бомбами и снарядами, то ли полыхающим где-то за дымами, затянувшими густой пеленой все небо, жарким июльским солнцем, слушая, как грохочет над головою о броню их сгорающего танка свинцовый горох, смотрел на Алифанова. В левой руке у того был пистолет, в правой – граната…
…Немцы поднялись кучками все враз. Алифанов повернул к Семену перекошенное в крике лицо, одновременно махнул пистолетом:
– Да-ва-ай!
* * *
Анфиса Инютина всю ночь не спала, одиноко ворочаясь на широкой деревянной кровати, слушала, как сопит в углу Колька, сын, разметавшийся на старом тощем матраце, брошенном прямо на крашеный пол, как кашляет за дощатой дверью эвакуированная из Одессы еврейка-учительница Берта Яковлевна, поставленная к ним на квартиру через несколько месяцев после ухода Кирьяна на фронт. Учительница была не очень старая, неопрятная, много курила, роняя пепел на бугристую грудь, затянутую обычно засаленным черным халатом. Вместе с ней жили две ее шестнадцатилетние дочери-двойняшки Майя и Лида, носатые, глазастые, обе такие же, в мать, крупногрудые, по характеру общительные, хохотуньи. Все втроем жили в крохотной Вериной комнатушке, в которой невозможно было повернуться, дочери спали на тесной кровати, а сама мать – на сундуке, подставляя к его краю два чемодана, чтобы с сундука не свисали ноги. Днем чемоданы ставились на сундук.
С вечера захлестал ветер, потом утих, в стекла начали стучать одинокие и тоскливые капли дождя. Анфисе захотелось отчего-то плакать, в груди было пусто, неприютно, как на ночной деревенской улице в эту вот непогодную летнюю ночь. Она лежала, скрестив на мягком животе усталые руки, закусив губы, чтобы не расплакаться. Потом дождь припустил, за окнами словно кто-то принялся мотать лейкой, обливая черные стекла. Анфиса будто только этого и ждала и под неприютный шум дождя облегченно и беззвучно заплакала.
Дождь кончил барабанить по стеклам, и она перестала плакать, вытерла горячими пальцами слезы, перевернулась на бок и стала думать о Кирьяне, о детях, о всей своей жизни – несладкой, неудавшейся и безрадостной. Кто она и зачем она на земле? Эта мысль пришла к ней неизвестно когда, поселилась в ней незаметно и стала мучить жестоко; внутри, в самом сердце, шевелилось, ворочалось что-то беспокойное и безжалостное, больно обдирая самые чувствительные места. Она перебирала в памяти всю свою жизнь, пытаясь отыскать там хоть щелочку, из которой пролилось бы сейчас на нее что-нибудь теплое, обогревающее радостью, но такой щелки не было. Все позади было мутно и омерзительно. Жили зачем-то в этой мутной пелене Федор Савельев, Кирьян, ее муж, Анна, жена Федора, и она сама, Анфиса. Она по первому взгляду, по первому намеку бежала, потеряв голову, к Федору, отдавалась во власть его безжалостных рук, не страшась побоев Кирьяна, пересудов людей. Федор мял и крутил ее, как тряпку, ей было хорошо и приятно, а вот теперь, задним числом, пришло вдруг омерзение ко всему этому, пришла жалость к Кирьяну, не любовь, не стыд и раскаяние за прошлое, а просто мучительная жалость, в ней прибывало желание остатком своей жизни оплатить все страдания Кирьяна. Ей не надо его прощения, такое, наверное, простить невозможно, и пусть, это даже хорошо, что она каждую минуту будет чувствовать свою вечную вину, но тем сознательнее… и тем старательнее она ее будет оплачивать. Пусть не прощает, но пусть возьмет во внимание, что Верку и Кольку она от него родила. «Господи, – взывала она молчаливо, в исступленной благодарности к кому-то, – как еще на это у меня ума хватило! Тогда бы и вовсе хоть в петлю…» Хватило, наверное, потому, что Кирьян – Анфиса всегда это понимала – душой добрый, отзывчивый. Она у него, душа, беспомощная и сильно ранимая, и, когда он остервенело хлестал ее, пьяный, где-нибудь в кустах или в темном сарае, Анфиса чувствовала, что ему самому больнее, чем ей, что он себя истязает каждый раз тоже до крови, только кровь сочится у нее снаружи, а у него внутри. И вот это странное чувство никогда не позволяло ей сердиться на мужа за самые зверские побои. Он бьет ее, бывало, а ей его жалко, и чем сильнее бьет, тем сильнее ее жалость к нему. Однажды, еще когда в Михайловке жили, Кирьян откинул прочь смокший в ее крови ремень с железной пряжкой, сел в кустах на землю, уронил голову и бессильно заплакал. Она, в кровоподтеках и вздувшихся багровых рубцах, с трудом поднялась, подошла к нему, пошатываясь, одной рукой поддерживая лохмотья кофточки на груди, а другую протянула, погладила его, как маленького, по голове, всхлипнула:
– Не надо, Кирьян…
– Что не надо?! – вскричал он яростно, снова вспыхивая небывалым еще гневом. Но тут же вскинутая голова его будто стала тяжко наливаться свинцом, худенькая шея с туго натянутыми жилами не могла удержать ее, наклонилась опять вниз. Он знал, он всегда знал, какое чувство живет в ее душе! Она тогда впервые поняла это, упала, истерзанная, перед ним на колену склонила разлохмаченную голову.
– Бей еще! До смерти забей меня, паскудину!
Он запустил в ее космы пятерню, зажал в кулак затрещавшие волосы, выдохнул умоляюще:
– Анфиска! Сволочь… Все прощу – перестань с ним только. Отринь от души.
Он ждал, в глазах его было унижение. Даже заискивающее лилось что-то из глаз.
– Не могу, – сказала она тихо, обессиленно, будто прощаясь с жизнью.
Он застонал, отшвырнул ее в сторону. Она упала в траву, приминая мелкий кустарник. И долго чувствовала, как больно ноет шея…
Теперь ныла вся душа, все тело. Почему, почему она тогда не отринула Федора из сердца, как вот теперь? Любила? Может, это и любовь была, да только не человеческая. Звериное у нее было что-то к нему, скотское. А он пользовался, он не жалел ее. Ни ее, ни Анну, жену свою. Он вообще баб не жалеет, не люди они для него… Не жалеет он баб!
Эта мысль вдруг поразила чем-то Анфису, она затаила даже дыхание. Вот ведь! – мелькнуло у нее. Федор никогда не бил ее, пальцем не тронул. А не жалел никогда! Кирьян исхлестывал, избивал ее несчетно раз до потери сознания. А жалел, всегда жалел! В этом – разница, большая разница… Так кто же человек-то, кто человечнее – Федор или Кирьян?!
Анфиса задышала тяжело и быстро. Ей показалось, что она сделала какое-то важное открытие, без которого никогда бы не узнать и не решить – как и зачем ей жить дальше. Собственно, как и зачем жить дальше, неведомо и теперь, но все скоро, в ближайшие же дни, станет ясно, теперь уж обязательно станет, думала она. Не было раньше никакой щелочки, откуда бы пролилось на нее тепло, теперь появилась или появится… Только Кирьян перестал писать. Господи, что с ним приключилось-то? Писал он не часто, но раз в месяц-полтора приходило письмо. Сейчас нету ничего уже пятый месяц! Может, затерялось где по почтам. Обыкновенное дело – провалилось куда за стол, за ящик какой, в глухое место… Оно там лежит, а она ждет. Похоронной же нет – значит живой…
Стало светать, засинело окошко, а в комнате стояла прежняя густая темнота.
Опять пошел дождь, застучал торопливо в стекла, громыхнул где-то далеко гром, а потом уже почему-то сверкнула молния, осветив голые бледно-серые стены и потолок. Анфиса тут же и поняла, что это донесся гром не от этой вот, а от другой молнии, и стала ждать, когда снова загремит. Но ничего не загремело, только хлестанул сильный ливень, по тесовой, заплесневелой разноцветными лепешками грибков крыше кто-то грузный заплясал босиком, прогибая полусгнившие доски.
Анфиса лежала и думала теперь, что ветер, наверное, за целый день не разнесет сегодня тучи, они наглухо закупорят над Шантарой все небо, нигде не прольется на землю ни один солнечный лучик, солнце до самой следующей ночи будет ходить бесполезно где-то там, высоко над тучами, весь большой июльский день будет сумеречным, чем-то похожим на ее жизнь, которую сломал и перековеркал Федор, теперь Анфиса это понимала отчетливо. Жила она когда-то, давно-давно, как колокольчик под дугой, пока на дороге не появился этот Федька проклятый с проклятыми своими усиками, которые снились ей по ночам. «Прям страшилище усатое», – сказала она ему тогда. Когда это было-то? Не то в шестнадцатом году, не то в семнадцатом… Или чуть попозже? Господи, как давно все это было, с каких пор закрылось от нее солнышко-то тучами! С того дня, когда он, проклятый, по-звериному смял ее, распластал на траве. «Не надо, Федор… Пожалей! Ну, пожалей, рано мне еще…» – пропищала она бессильно и беспомощно. Не пожалел…
Тихие, обидчивые слезы заструились по щекам, прожигая их глубоко, будто насквозь. «Убило бы его, паразита, там, на войне, пулей! Чтоб знал! – подумала она, безжалостно замотала в темноте головой по подушке, беззвучно и яростно крича: – Чтоб знал, чтоб звал!»
Опомнилась она оттого, что бешено и больно заколотилось под грудью сердце: «Что говорю-то, чего это я желаю ему?!»
Из комнаты, где жила эвакуированная учительница с дочерьми, донесся опять кашель, скрип сундука и шлепанье босых ног. Потом из дверных щелок брызнули струйки света, дверь распахнулась, на пороге стояла Берта Яковлевна, растрепанная, с папиросой.
– Что с вами, Анфиса? – спросила она. – Вы мучительно стонали.
Анфиса с удивлением обнаружила, что не лежит, а сидит на кровати, свесив голые ноги на пол.
– Ничего. Муж мне давно не пишет, Кирьян…
– Напишет еще. А мой уже никогда не пришлет письма. Он погиб при героической защите Одессы.
Анфиса знала об этом, она не раз слышала от Берты Яковлевны о гибели ее мужа, жалела эту овдовевшую в самом начале войны женщину и ее дочерей. Берта Яковлевна преподавала в школе математику, учительницей, говорят, была неплохой, но сварливой. Колька рассказывал, что ее не любили, делали ей всякие пакости. И еще она была рассеянной, не обладала памятью на лица и события («После похоронки на папу у нее совсем память исчезла», – говорили ее дочери), и этим широко и беззастенчиво пользовался Колька. Берта Яковлевна в десятом классе, где учился Николай, была классной руководительницей. Колька систематически выкрадывал у нее классный журнал и проставлял себе и своим товарищам отметки. Анфиса это знала, сердито ругала сына, но тот мотал только крючковатым носом и оправдывался:
– Да что я, мам, ставлю-то? Не пятерки же…
– Оболтус ты. Вместо того, чтоб учить… А как она поймает тебя на этом?
– Память у нее дырявая, – усмехался Колька.
Через полчаса Анфиса и Берта Яковлевна чистили картошку. Как-то так получилось, что с самого дня подселения эвакуированных, которых привел на квартиру сам председатель райисполкома Хохлов со словами: «Вот, приютите жильцов… Не обижайте», они все стали жить одной семьей.
Берта Яковлевна в общий котел отдавала свою зарплату, потом сама Анфиса устроилась на работу – уборщицей в районную библиотеку. И хотя хлебные карточки отоваривали, как говорила Берта Яковлевна, не всегда – Колька, Лидка и Майка по целым суткам толклись в тысячных магазинных очередях, подменяя друг друга, но зачастую хлеба им так и не доставалось, – хлеб в доме все же водился и жили все хоть и не очень сытно, но не впроголодь.
Нынче весной впятером – Верка лишь демонстративно не взяла в руки лопаты – дружно вскопали огород, посадили картошки, бобов, гороху, по краю плетня натыкали кукурузы. Лето было засушливое, каждый день почти они поливали из Громотушки огород. С утра до вечера над инютинской усадьбой стоял галдеж и звонкий смех Майки с Лидкой.
– Как хорошо… Скажите пожалуйста, как это удивительно! – говорила частенько Берта Яковлевна, раскрасневшись от работы. – Я никогда не занималась огородничеством. Но это же прекрасно!
– Не знаю, прекрасно или не прекрасно, – ответила ей однажды Анфиса. – Просто без огорода нам не прожить.
– Ну да, я понимаю. Теперь это я понимаю… Урожай картофеля, кажется, будет отменный…
– Вроде бы должен. Тогда перезимуем.
– Как это удачно – речка в огороде!
– Громотушка-то? Без нее бы гибель. Кормилица.
– Хорошо, что на земле есть речки.
Анфиса сейчас вдруг вспомнила этот разговор, эту наивную, как ей тогда показалось, фразу: «Хорошо, что на земле есть речки». А ведь в самом деле хорошо. И что солнце на небе, и что дождь, и что снег, зима, а потом весна… Только бы война вот скорей кончилась, Кирьян вернулся…
Анфиса неожиданно для самой себя всхлипнула.
– Вы уж напрасно так, – сказала учительница, откладывая нож и доставая папиросу. – Письмо вам еще будет, задержалось где-то.
– Не задержалось, не будет. – Анфиса враждебно сверкнула глазами, будто недовольная за эти участливые слова. – Я вот чувствую, что-то случилось с ним. Что-то случилось!
Берта Яковлевна чиркнула спичкой, прикурила, стала смотреть в окно, за которым в синей предутренней дождливой мгле проступали мокрые горбатые крыши соседних домов.
– Он, ваш муж Кирьян, был хороший человек?
– Хороший, – прошептала Анфиса, опуская голову. Но тут же медленно начала ее поднимать, в глазах ее была не враждебность уже, а в прах испепеляющая ненависть. Анфиса поднимала голову угрожающе, зловеще, в руках у нее был кухонный нож потемневшего железа. Сжимая этот нож, будто собираясь кинуться на учительницу, она начала подниматься с табурета. Берта Яковлевна обо всем догадалась, торопливо бросила папиросу в кучку картофельных очисток.
– Анфиса, простите! Я оговорилась.
– Т-ты?! – взвизгнула Анфиса. – Что ты его хоронишь?!
От ее вскрика проснулся Колька, быстро приподнялся, сел, спросонья заморгал глазами.
– Что кричишь-то? Случилось чего, мам?
Анфиса молча и тяжело дышала.
– Ничего не случилось, – сказала Берта Яковлевна. – А ты вставай, сегодня последний экзамен у тебя. И я буду спрашивать тебя строго. Бином Ньютона повторил?
– Да знаю я его, – зевнул Колька.
– Николай, я серьезно говорю! – рассердилась учительница. – Я обязательно задам тебе этот дополнительный вопрос.
– Сказал – знаю. На тройку, а знаю.
– Вот, – Берта Яковлевна повернулась к Анфисе, – на тройку…
Пока шел этот разговор, Анфиса немножко успокоилась, отошла. Она знала, почему идет у них эта перепалка о непонятном ей биноме неведомого Ньютона. Однажды Берте Яковлевне все-таки показалась подозрительной какая-то Колькина отметка в журнале, и учительница, удивленно разглядывая классный журнал, вышла из своей комнаты: «Николай, это когда ж я тебя по алгебре спрашивала?» – «Здрасте! – воскликнул сын нахально. – Когда я бином Ньютона-то пол-урока вам шпарил?» – «Ну-ка, бери ручку и бумагу». – «Еще чего? На уроке – пожалуйста, переспросите. Я вам в два мига его выведу…»
И Колька быстренько, торопливее, чем положено, скрылся за дверьми.
В тот вечер он долго готовил уроки, чуть не до утра шуршал страницами учебников, и Анфиса догадалась, что этот самый бином он не знает, а сейчас вот учит. «Паразит такой, мошенник!» – думала она тогда о сыне с раздражением.
– На тройку, видите ли, он знает, – повторила учительница. – И доволен. Безобразие! А способный парень. На фронт собираешься! Оценка тогда все-таки подозрительно появилась… А меня, Анфиса, простите, ради бога. Ну, оговорилась я. Я не хотела. Жив, жив ваш муж.
– Ох, не знаю, – проговорила Анфиса обессиленно, глаза ее опять были полны слез. – На сердце тяжко, так тяжко…
* * *
Кирьян Инютин был жив, только он в это раннее июльское утро лежал на узкой больничной койке новосибирского госпиталя без обеих ног и, как много дней уже подряд, смотрел не мигая в белый квадратный потолок и тупо размышлял о том, что все военные врачи сволочи и скоты, что они не должны были дать ему после наркоза прийти в сознание, ибо отрезать человеку по самый пах обе ноги – это хуже, чем отрезать голову.
– Ну что теперь, сынок… Судьбу, ее думой не пересилить, – тихонько произнесла рядом старая нянечка Глафира Дементьевна. – Уточку вот, сыночек…
– Пошла ты, старая телега! – Кирьян схватился обеими руками за спинку кровати над головой, подтянул свое обрубленное тело повыше на подушку, лицо его покрылось от бешенства испариной. – Уметайся!
Так происходило каждое утро. Всякий раз, когда Глафира Дементьевна предлагала ему утку, Кирьян, оскорбленный чем-то, кричал на нее в бешенстве, не выбирая слов, и всякий раз старая нянечка, тяжко вздохнув, сгибалась с трудом, ставила сосуд возле койки так, чтобы он, опустив руку, мог его достать, и уходила.
Ушла она и на этот раз, шаркая тапочками. Кирьян глядел в ее сутулую, согнутую временем спину, глаза его, переполненные слезами, горели зло.
Когда она вышла из палаты, он, держась теперь за спинку койки одной рукой, поднял с пола ненавистную посудину, холодную, чисто вымытую.
Через некоторое время та же Глафира Дементьевна принесла ему поесть, поставила завтрак на тумбочку, унесла утку, потом вернулась в крохотную палатку, где лежал в одиночестве Инютин, села на выкрашенную белой краской табуретку.
– Ешь, сыночек.
– Ишь ты… нашла сына, – буркнул Кирьян.
– Так что ж… Мне седьмой десяток, тебе пятый. А первого я принесла в шестнадцать годков. Ребенком, почитай, родила. Тогда ведь рано нас, девок, под мужиков клали. Сын же мой старше тебя на четыре али пять годков был. В сорок первом он еще где-то под матушкой-Москвой упал… Ешь, я не уйду, пока не поешь.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































