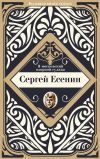Текст книги "Роман без вранья. Мой век, мои друзья и подруги"

Автор книги: Анатолий Мариенгоф
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
20
– Пропадает малый… Смотреть не могу – пла-а-а-а-кать хочется. Ведь люблю ж я его, стервеца… Понимаешь ты, всеми печенками своими люблю.
– Да кто пропадает, Сережа? О чем говоришь?
– О Мишуке тебе говорю. Почем-Соль наша пропадает… Пла-а-а-а-кать хочется…
Есенин стал пространно рассуждать о гибели нашего друга. И вправду без толку текла его жизнь. Волновался не своим волнением, радовался не своей радостью.
– Дрыхнет, сукин кот, до двенадцати… прохлаждается, пока мы тут стих точим… гонит за нами без чутья, как барбос за лисой: по типографиям, в лавку книжную за чужой славой… Ведь на же тебе – на Страстном монастыре тоже намалевал: Михаил Молабух…
Это когда мы своими богоборческими стихами расписали толстые монастырские стены. Есенин сокрушенно вздохнул:
– И ни в какую – разэнтакий – служить не хочет. Звез ды своей не понимает. Спрашиваю я его вчера: «Ведь ездил же ты, Почем-Соль, в отдельном своем вагоне на мягкой рессоре – значит, может тебе Советская Россия идти на пользу?» А он мне ни бе ни ме… Пла-а-а-акать хочется.
И, чтобы спасти Почем-Соль, Есенин предложил выделить его из нашего кармана.
Суровая была мера.
Больше всего в жизни любил Почем-Соль хорошее общество и хорошо покушать. То и другое – во всей Москве мог обрести он лишь за круглым столом очаровательнейшей Надежды Робертовны Адельгейм.
Как-то, с карандашом в руках прикинув скромную цену обеда, мы с Есениным порядком распечалились – вышло, что за один присест каждый из нас отправлял в свой желудок по 250 экземпляров брошюрки стихов в 48 страниц. Даже для взрослого слона это было бы не чересчур мало.
Часть, выделенная на обед Почем-Соли, равнялась 100 экземплярам. Приятное общество Надежды Робертовны было для него безвозвратно потеряно.
В пять, отправляясь обедать, добегали мы вместе до угла Газетного. Тут пути расходились. Каждый раз прощание было трагическим. У нашего друга, словно костяные мячики, прыгали скулы. Глядя с отчаянием на есенинскую калошу, он чуть слышно молил:
– Добавь, Сережа! Уж вот как хочется вместе… Последний раз – свиную котлетку у Надежды Робертовны…
– Нет!
– Нет?.. – Нет!
Вслед за желтыми мячиками скул у Почем-Соли начинала прыгать верхняя губа и зрачки – черные мячики. Ах, Почем-Соль!
Во время отступления из-под Риги со своим банным отрядом Земского союза он поспал ночь на мокрой земле под навесом телеги. С тех пор прыгают в лице эти мячики, путаются в голове имена шоферов, марки автомобилей, а в непогоду и ростепель ноют кости.
Милый Почем-Соль, давай же ненавидеть войну и обожать персонаж из анекдота. Ты знаешь, о чем я говорю. Мы же вместе с тобой задыхались от хохота.
Некий провизор крутил в аптеке пилюли и продавал клистиры. Война. Привезли его под Двинск и посадили в окоп. Сидит несолоно хлебавши. Бац! – разрыв. Бац! – другой. Бац! – третий. В воронке: мясо, камень, кость, тряпки, кровь и свинец. Вскакивает провизор и, размахивая руками, орет немцам: «Сумасшедшие, что вы делаете?! Здесь же люди сидят».
Но тебе, милый Почем-Соль, не до анекдотов. Тебе хочется плакать, а не смеяться.
Мы, «хамы», идем к Надежде Робертовне есть отбивные на косточке, а тебя («Тоже друзья!») посылаем из жадности («Объешь нас») глотать в подвальчике всякую пакость («У самих небось животы болели от той дряни»).
Почем-Соль говорит почти беззвучно – одними губами, глазами и сердцем:
– Ну, Сережа, последний раз… У Есенина расплеснулись руки:
– Н-н-н-е-т!
Тогда зеленая в бекеше спина Почем-Соли ныряла в ворота и быстро-быстро бежала к подвальчику, в котором рыжий с нимбом повар разводил фантасмагорию.
А мы сворачивали за угол.
– Пусть его… пусть… – И Есенин чесал затылок. – Про падает ведь парень… пла-а-а-кать хочется.
За круглым столом очаровательная Надежда Робертовна, как обычно, вела весьма тонкий для «хозяйки гостиницы» разговор об искусстве, угощала необыкновенными слоеными пирожками и такими свиными отбивными, от которых Почем-Соль чувствовал бы себя счастливейшим из смертных.
Я вернул свою тарелку Надежде Робертовне.
Она удивилась:
– Анатолий Борисович, вы больны?
Половина котлеты осталась нетронутой. Прошу помнить, что дело происходило в 1919 году.
– Нет… ничего…
Жорж Якулов даже оборвал тираду о своих «Скачках» и, вскинув на меня пушистые ресницы, сочувственно перевел глаз (похожий на косточку от чернослива) с моей тарелки на мой нос:
– Тебе… гхе, гхе… Анатолий, надо – либо… гхе, гхе… в постель лечь… либо водки выпить.
Есенин потрепал его по плечу:
– Съедим, Жорж, по второй?
– Можно, Сережа, гхе, гхе… можно. Вотя и говорю… когда они, сопляки, еще цветочки в вазочках рисовали, Серов, простояв час перед моими «Скачками», гхе, гхе, заявил…
– Я знаю, Жорж.
– Ну, так вот, милый мой, – я уж тебе раз пятьдесят… гхе, гхе… говорил и еще сто скажу… милый мой… гхе, гхе… что все эти французы… Пикассо ваш, Матисс… и режиссеры там разные… гхе… гхе… Таиров – с площадочками своими… гхе, гхе… «Саломеи» всякие… гхе, гхе… и гениальнейший Мейерхольд, милый мой, все это мои «Скачки»… «Скачки», да-с! Весь «Бубновый валет», милый мой…
У меня защемило сердце.
Ах, Почем-Соль! В эту трагическую минуту, когда голова твоя, как факел, пылает гневом на нас; когда весь мир для тебя окрашен в черный цвет вероломства, себялюбия и скаредности; когда померкло в твоих глазах сияние прекрасного слова «дружба», обратившегося в сальный огарок, чадящий изменами и хладнодушием, – в эту минуту тот, которого ты называл своим другом, уплетает вторую свиную котлету и ведет столь необыкновенные, столь неожиданные и столь «зернистые» (как любила говорить одна моя приятельница) разговоры о прекрасном!..
Прошло дней десять. Мы с Есениным, провожая Почем-Соль, стояли на платформе Казанского вокзала, серой – мешочниками и грустью. Наш друг уезжает в Туркестан, в отдельном вагоне на мягкой рессоре, в сопровождении пома с наганом в желтой кобуре и секретаря в шишаке с красной звездой величиной с ладонь Ивана Поддубного.
Обняв Молабуха, я говорю:
– Дурында, благодари Сергуна за то, что на рельсу тебя поставил.
Они целуются долго и смачно, сдабривая поцелуй теплым матерным словом и кряком, каким только крякают мясники, опуская топор в кровавую бычью тушу.
21
Тайна электрической грелки была раскрыта. Мы с Есениным несколько дней ходили подавленные. Часами обсуждали – какие кары обрушит революционная законность на наши головы. По ночам снилась Лубянка, следователь с ястребиными глазами, черная железная решетка. Когда комендант дома амнистировал наше преступление, мы устроили пиршество. Знакомые пожимали нам руки, возлюбленные плакали от радости, друзья обнимали, поздравляя с неожиданным исходом. Чай мы пили из самовара, вскипевшего на Николае-угоднике: не было у нас угля, не было лучины – пришлось нащипать старую икону, что смирнехонько висела в углу комнаты. Только Почем-Соль отказался пить божественный чай. Отодвинув соблазнительно дымящийся стакан, сидел хмурый, сердито пояснив, что дедушка у него был верующий, что дедушку он очень почитает и что за такой чай годика три тому назад погнали б нас по Владимирке.
Есенин в шутливом серьезе продолжил:
Не меня ль по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску…
А зима свирепела с каждой неделей.
После неудачи с электрической грелкой мы решили пожертвовать и письменным столом мореного дуба, и превосходным книжным шкафом с полными собраниями сочинений Карпа Карповича, и завидным простором нашего ледяного кабинета ради махонькой ванной комнаты.
Ванну мы закрыли матрацем – ложе; умывальник досками – письменный стол; колонку для согревания воды топили книгами.
Тепло от колонки вдохновляло на лирику.
Через несколько дней после переселения в ванную Есенин прочел мне:
Молча ухает звездная звонница,
Что ни лист, то свеча заре.
Никого не впущу я в горницу,
Никому не открою дверь.
Действительно: приходилось зубами и тяжелым замком отстаивать открытую нами «ванну обетованную». Вся квартира, с завистью глядя на наше теплое беспечное существование, устраивала собрания и выносила резолюции, требующие: установления очереди на житье под благосклонной эгидой колонки и на немедленное выселение нас, захвативших без соответствующего ордера общественную площадь.
Мы были неумолимы и твердокаменны.
После Нового года у меня завелась подруга. Есенин супил брови, когда исчезал я под вечер. Приходил Кусиков и подливал масла в огонь, намекая на измену в привязанности и дружбе, уверяя, что начинается так всегда – со склонности легкой, а кончается… И напевал приятным своим маленьким и будто сердечным голосом:
Обидно, досадно,
До слез, до мученья…
Есенин хорошо знал Кусикова, знал, что он вроде того чеховского мужика, который, встретив крестьянина, везущего бревно, говорил тому: «А ведь бревно-то из сухостоя, трухлявое»; рыбаку, сидящему с удочкой: «В такую погоду не будет клевать»; мужиков в засуху уверял, что «дождей не будет до самых морозов», а когда шли дожди, что «теперь все погниет в поле».
И все-таки Есенина нервило и дергало кусиковское «обидно, досадно».
Как-то я не ночевал дома. Вернулся в свою «ванну обетованную» часов в десять утра. Есенин спал. На умывальнике стояла пустая бутылка и стакан. Я понюхал – ударило в нос сивухой.
Растолкал Есенина. Он поднял на меня тяжелые красные веки.
– Что это, Сережа?.. Один водку пил?
– Да. Пил. И каждый день буду… ежели по ночам шляться станешь… С кем хочешь там хороводься, а чтобы ночевать дома.
Это было его правило: на легкую любовь он был падок, но хоть в четыре или в пять утра, а являлся спать домой. Мы смеялись:
– Бежит Вятка в свое стойло.
Основное в Есенине: страх одиночества.
А последние дни в «Англетере»? Он бежал из своего номера, сидел один до жидкого зимнего рассвета в вестибюле, потом стучал в дверь устиновской комнаты, умоляя впустить его.
22
«Ванны обетованной» мы все-таки не отстояли. Пришлось отступить в ледяные просторы нашей комнаты.
Стали спать с Есениным вдвоем на одной кровати. Наваливали на себя гору одеял и шуб. По четным дням я, а по нечетным Есенин первым корчился на ледяной простыне, согревая ее теплотой тела.
Одна поэтесса просила Есенина помочь устроиться ей на службу. У нее были розовые щеки, круглые бедра и пышные плечи.
Есенин предложил поэтессе жалованье советской машинистки с тем, чтобы она приходила к нам в час ночи, раздевалась, ложилась под одеяло и, согрев постель («пятнадцатиминутная работа!»), вылезала из нее, облекалась в свои одежды и уходила домой.
Дал слово, что во время всей церемонии мы будем сидеть к ней спинами, уткнувшись носами в рукописи.
Три дня мы ложились в теплую постель.
На четвертый день поэтесса ушла от нас, заявив, что она не намерена дольше продолжать своей службы. Когда она говорила, голос ее захлебывался от возмущения, а гнев расширил зрачки. Глаза из небесно-голубых стали черными, как пуговицы на наших лаковых ботинках.
– В чем дело?.. Мы свято блюли условия.
– Именно!.. Но я не нанималась греть простыни у святых.
– А!..
Но было уже поздно: перед моим лбом так бабахнула входная дверь, что все шесть винтов английского замка вылезли из своих нор.
23
В есенинском хулиганстве прежде всего повинна критика, а затем читатель и толпа Политехнического музея, Колонного зала, литературных кафе и клубов.
Еще до эпатажа имажинистов, во времена «Инонии» и «Преображения» печать бросила в него этим словом, потом прицепилась к нему, как к кличке, и стала повторять и вдалбливать с удивительной методичностью.
Критика надоумила Есенина создать свою хулиганскую биографию, пронести себя «хулиганом» в поэзии и в жизни.
Я помню критическую заметку, послужившую толчком для написания стихотворения «Дождик мокрыми метлами чистит», в котором он впервые в стихотворной форме воскликнул:
Плюйся, ветер, охапками листьев, —
Я такой же, как ты, хулиган.
Есенин читал эту вещь с огромным успехом. Когда выходил на эстраду, толпа орала:
– «Хулигана»!
Тогда совершенно трезво и холодно он решил, что это его дорога, его «рубашка».
Есенин вязал в один веник свои поэтические прутья и прутья быта. Он говорил:
– Такая метла здоровше.
И расчищал ею путь к славе.
Я не знаю, что чаще Есенин претворял: жизнь в стихи или стихи в жизнь.
Маска для него становилась лицом и лицо маской.
Вскоре появилась поэма «Исповедь хулигана», за нею книга того же названия, потом – «Москва кабацкая», «Любовь хулигана» и т. д., и т. д. во всевозможных вариациях и на бесчисленное число ладов.
Так Петр сделал Иисуса – Христом.
В окрестностях Кесарии Филипповой Иисус спросил учеников:
– За кого почитают меня люди?
Они заговорили о слухах, распространявшихся в галилейской стране: одни считали его воскресшим Иоанном Крестителем, другие – Илией, третьи – Иеремией или иным из воскресших пророков.
Иисус задал ученикам вопрос:
– А вы за кого меня почитаете? Петр ответил:
– Ты Христос.
И Иисус впервые не отверг этого наименования.
Убежденность простодушных учеников, на которых не раз сетовал Иисус за малую просвещенность, утвердила Иисуса в решении пронести себя как Христа.
Когда Есенин как-то грубо, в сердцах оттолкнул прижавшуюся к нему Изадору Дункан, она восторженно воскликнула:
– Ruska lubov!
Есенин, хитро пожевав бровями свои серые глазные яблоки, сразу хорошо понял – в чем была для Дункан лакомость его чувства.
Невероятнейшая чепуха, что искусство облагораживает душу.
Сыно-и женоубийца Ирод – правитель Иудеи и ученик по эллинской литературе Николая Дамасского – одна из самых жестокосердых фигур, которые только знает человечество. Однако архитектурные памятники Библоса, Баритоса, Триполиса, Птолемаиды, Дамаска и даже Афин и Спарты служили свидетелями его любви к красоте. Он украшал языческие храмы скульптурой. Выстроенные при Ироде Аскалонские фонтаны, бани и Антиохийские портики, шедшие вдоль всей главной улицы, приводили в восхищение. Ему обязан Иерусалим театром и гипподромом. Он вызвал неудовольствие Рима тем, что сделал Иудею спутником императорского солнца.
Ни в одних есенинских стихах не было столько лирического тепла, грусти и боли, как в тех, которые он писал в последние годы, годы сердечного распада и ожесточенности.
Как-то, не дочитав стихотворения, он схватил со стола тяжелую пивную кружку и опустил ее на голову Ивана Приблудного – своего верного Лепорелло. Повод был настолько мал, что даже не остался в памяти. Обливающегося кровью Приблудного увезли в больницу.
У кого-то вырвалось:
– А вдруг умрет?
Не поморщив носа, Есенин сказал:
– Меньше будет одной собакой!
24
Собственно говоря, зазря выдавали нам дивиденд наши компаньоны по книжной лавке.
Давид Самойлович Айзенштат – голова, сердце и золотые руки «предприятия» – рассерженно обращался к Есенину:
– Уж лучше, Сергей Александрович, совсем не заниматься с покупателем, чем так заниматься, как вы или Анатолий Борисович.
– Простите, Давид Самойлович, – душа взбурлила.
А дело заключалось в следующем: зайдет в лавку человек и спросит:
– Есть у вас Маяковского «Облако в штанах»?
Тогда отходил Есенин шага на два назад, узил в щелочки глаза и презрительно обмерял ими, как аршином, покупателя:
– А не прикажете ли, милостивый государь, отпустить вам Надсона?.. Роскошное имеется у нас издание в парчовом переплете и с золотым обрезом.
Покупатель обижался:
– Почему ж, товарищ, Надсона?
– А потому, что я так соображаю: одна дрянь!.. От замены того этим ни прибыли, ни убытку в достоинствах поэтических… переплетен, же у господина Надсона несравненно лучше.
Налившись румянцем, как анисовое яблоко, выкатывался покупатель из лавки.
Удовлетворенный Есенин, повернувшись носом к книжным полкам, вытаскивал из ряда поаппетитнее книгу, нежно постукивал двумя пальцами по корешку и отворачивал последнюю страницу:
– Триста двадцать.
Долго потом шевелил губой, что-то в уме прикидывая, и, расплывшись в улыбку, объявлял со счастливыми глазами:
– Если, значит, всю мою лирику в одну такую собрать, пожалуй что, на триста двадцать потяну.
– Что!
– Ну, на сто шестьдесят.
В цифрах Есенин был на прыжки горазд и легко уступчив. Говоря как-то о своих сердечных победах, махнул:
– А ведь у меня, Анатолий, женщин было тысячи три.
– Вятка, не бреши.
– Ну, триста. – Ого!
– Ну, тридцать.
– Вот это дело.
Вторым нашим компаньоном по лавке был Александр Мелентьевич Кожебаткин – человек, карандашом нарисованный остро отточенным и своего цвета.
В декадентские годы работал он в издательстве «Мусагет», потом завел собственную «Альциону», коллекционировал поэтов пушкинской поры и, вразрез всем библиофилам мира, зачастую читал не только заглавный лист книги и любил не одну лишь старенькую виньетку, вековой запах книжной пыли и сентябрьскую желтизну бумаги, но и самого старого автора.
Мелентьич приходил в лавку, вытаскивал из лысого портфеля бутылку красного вина и, оставив Досю (Давида Самойловича) разрываться с покупателями, распивал с нами вино в задней комнате.
После второго стакана цитирует какую-нибудь строку из Пушкина, Дельвига или Баратынского:
– Откуда сие, господа поэты?
Есенин глубокомысленно погружается в догадку:
– Из Кусикова!..
Мелентьич удовлетворен. Остаток вина разлит по стаканам.
Он произносит торжественно:
– Мы лени-и-вы и нелюбопы-ы-ытны!
Больше всего в жизни Кожебаткин не любил менять носки. Когда он приходил в лавку мрачным и не спрашивал нас: «Откуда сие, господа поэты?» – мы уже знали, что дома по этому поводу он дал баталию.
Его житейская мудрость была проста:
– Дело не уйдет, а хорошая беседа за бутылкой вина может не повториться.
Еще при существовании лавки стали уходить картины и редкие гравюры со стен квартиры Александра Мелентьевича. Вскоре начали редеть книги на полках.
Случилось, что я не был у него около года. Когда зашел, сердце у меня в груди поджало хвост и заскулило: покойник в доме то же, что пустой книжный шкаф в доме человека, который живет жизнью книги.
Теперь у Кожебаткина дышится легче: описанные судебным исполнителем и проданные с торгов шкафы вынесены из квартиры.
Когда мрачная процессия с гробом короля испанского подходит к каменному Эскуриалу и маршал стучит в ворота, монах спрашивает:
– Кто там?
– Тот, кто был королем Испании, – отвечает голос из похоронного шествия.
Тяжелые ворота открываются перед «говорившим» мертвым телом.
Монах в Эскуриале обязан верить собственному голосу короля. Этикет.
Когда Александру Мелентьевичу звонят из типографии с просьбой немедленно приехать и подписать к печати срочное издание, а Жорж Якулов предлагает распить бутылочку, милый романтический «этикет» обязывает Кожебаткина верить своей житейской мудрости, что «не уйдет дело», и свернуть в грузинский кабачок.
А назавтра удвоенный типографский счет «за простой машины».
25
В раннюю весну мы перебрались из Богословского в маленькую квартирку Семена Федоровича Быстрова в Георгиевском переулке у Патриарших прудов.
Быстров тоже работал в нашей лавке.
Началось беспечальное житье.
Крохотные комнатушки с низкими потолками, крохотные оконца, крохотная кухонька с огромной русской печью, дешевенькие обои, словно из деревенского ситца, пузатый комод, классики в издании приложения к «Ниве» в цветистых переплетах – какая прелесть!
Будто моя Пенза. Будто есенинская Рязань.
Милый и заботливый Семен Федорович, чтобы жить нам как у Христа за пазухой, раздобыл (ах, шутник!) – горняшку.
Красотке в феврале стукнуло девяносто три года.
– Барышня она, – сообщил нам из осторожности, – предупредить просила.
– Хорошо. Хорошо. Будем, Семен Федорович, к девичьему ее стыду без упрека.
– Вот, вот!
Звали мы барышню нашу «бабушкой-горняшкой», а она нас: одного – «черным», другого – «белым». Семену Федоровичу на нас жаловалась:
– Опять ноне привел белый…
– Да кого привел, бабушка?
– Тьфу! сказать стыдно.
– Должно, знакомую свою, бабушка.
– Тьфу! Тьфу!., к одинокому мужчине, бессовестная. Хоть бы меня, барышню, постыдилась.
Или:
– Уважь, батюшка, скажи ты черному, чтобы муку не сыпал.
– Какую муку, бабушка?
Знал, что разговор идет про пудру.
– Смотреть тошно: муку все на нос сыплет. И пол мне весь мукой испакостил. Метешь! Метешь!
Всякий раз, возвращаясь домой, мы с волнением нажимали пуговку звонка: а вдруг да и некому будет открыть двери – лежит наша бабушка-барышня бездыханным телом.
Глядь: нет, шлепает же кожаной пяткой, кряхтит, ключ поворачивая. И отляжет камешек от сердца до следующего дня.
Как-то здорово нас обчистили: и шубы вынесли, и костюмы, и штиблеты. Нешуточное дело было в те годы выправить себе одежку-обувку.
Лежим в кроватях чернее тучи.
Вдруг бабушкино кряхтенье на пороге.
Смотрит она на нас лицом трагическим:
– А у меня сало-о-оп украли. А Есенин в голос ей:
– Слышишь, Толька, из сундука приданое бабушкино выкрали.
И, перевернувшись на животы, уткнувшись носами в подушки, стали кататься мы в смехе, непристойнейшем для таких сугубо злокозненных обстоятельств.
Хозяйственность Семена Федоровича, наивность квартирки, тишина Георгиевского переулка и романтичность нашей домоуправительницы располагали к работе.
Помногу сидели мы за стихами, принялись оба за теорию имажинизма.
Не знаю, куда девалась неоконченная есенинская рукопись. Мой «Буян-Остров» был издан Кожебаткиным к осени.
Работа над теорией завела нас в фантастические дебри филологии.
Доморощенную развели науку – обнажая и обнаруживая диковинные подчас образные корни и стволы в слове.
Бывало, только продерешь со сна веки, а Есенин кричит:
– Анатолий, крыса! Отвечаешь заспанным голосом:
– Грызть.
– А ну: производи от зерна.
– Озеро, зрак.
– А вот тоже хорош образ в корню: рука – ручей – река – речь…
– Крыло – крыльцо…
– Око – окно…
Однажды, хитро поведя бровью, спросил:
– Валяй производи от сора.
И, не дав пораскинуть мозгами, проторжествовал:
– Сортир!..
– Эх, Вятка, да ведь sortir-то слово французское. Очень был обижен на меня за такой оборот дела. Весь вечер дулся.
Казалось нам, что, доказав образный рост языка в его младенчестве, сделаем мы нашу теорию неоспоримой навечно.
Поэзия что деревенское одеяло, сшитое из множества пестро-цветных лоскутов.
А мы прицепились к одному и знать больше ничего не желали.
Так, один сельский поп прилепился со всем пылом своего разума к йоду. Несокрушимую возымел веру в целительность и всеврачующую его благодать.
Однажды матушка, стирая пыль со шкафчика, сронила большую боржомную бутыль с йодом.
Словно расплавленная медь разлилась по полу.
Батюшка заголосил:
– Ах, Господи Иисусе! ах, Господи Иисусе! несчастие-то какое, Господи Иисусе!
И живым манером, скинув порты и задрав рясу, сел пышными своими ягодицами в лужу йода, приговаривая при этом:
– И чтоб добро такое, Господи Иисусе, не пропадало! Матушку тоже приглашал:
– Садись и ты, Марфа Петровна, органами благодать впитывать!
Смех смехом, а правота правотой.
Стою на Акуловой горе в Пушкине. На закорках у меня двухгодовалый пострел мой – Кирилка. Смотрим оба на пламенно-красное заходящее солнце.
Кирилл протягивает ручонку в закат и говорит:
– Мяять (мяч).
Еще посмотрел и, покачав головенкой, переменил решение:
– Саал (шар).
И наконец, ухватив меня пребольно за нос, очень, очень уверенный в своей догадке, произнес решительно:
– Неть. Неть… тисы (часы).
Каковы образы! Какова наглядность – нам в подтверждение – о словесных формированиях.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?