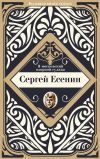Текст книги "Роман без вранья. Мой век, мои друзья и подруги"

Автор книги: Анатолий Мариенгоф
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
40
В дни отсутствия Есенина я познакомился в шершеневической книжной лавочке с актрисой Камерного театра Анной Никритиной (в будущем моей женой).
Как-то в мягкую апрельскую ночь мы сидели у Каменного моста. Купол храма Христа плыл по темной воде Москвы-реки, как огромная золотая лодка. Тараща глазища и шипя шинами, проносились по мосту редкие автомобили. Волны били свое холодное стеклянное тело о камень.
Хотелось говорить о необычном и необычными словами.
Я поднял камень и бросил в реку, в отражение купола храма.
Золотая лодка брызнула искрами, сверкающей щепой и черными щелями.
– Смотрите!
По реке вновь плыло твердое и ровное золото. А о булыжнике, рассекшем его, не было памяти и следа.
Я говорил о дружбе, сравнивая ее с тенью собора в реке, и о женщинах, которые у нас были, подобных камню.
Потом завязал узел на платке, окунул конец в воду, мокрым затянул еще и, подавая Никритиной, сказал:
– Теперь попробуйте… развяжите… Она подняла на меня глаза:
– Зачем?
– Будто каменным стал узел… вот и дружба наша с Есениным такая же…
И заговорил о годах радостей общих и печалей, надежд и разуверений.
Она улыбнулась:
– В рифму и ямбом у вас, пожалуй, лучше получится.
И мне самому стало немножко и смешно и неловко от слов, расхаживающих по-индючьи важно.
Мы разошлись с Есениным несколькими годами позже. Но теперь я знаю, что это случилось не в двадцать четвертом году, после возвращения его из-за границы, а гораздо раньше. Может быть, даже в лавочке Шершеневича, когда впервые я увидел Никритину. А может быть, в ту ночь, когда мне захотелось говорить о дружбе необычными словами.
41
Уже дымились серебряной пылью мостовые. По нашему Богословскому ходит ветхий седенький дворник, похожий на коненковского деревянного «старенького старичка». Будто не ноги передвигает он, а толстые березовые, низко подрубленные пни. В руках у дворника – маленькая зеленая леечка. Из нее он поливает дымящиеся пылью булыжники. Двигается медленно, склоняя узкую шею лейки, а та нехотя фыркает на горячий камень светлыми малюсенькими брызгами.
Когда-то «старенький старичок» был садовником и поливал из зеленой лейки нежные розовые левкои.
Тогда нужен был он и те цветы, пахнувшие хорошим французским мылом.
А булыжники, которые поливает, начинают дымиться наново раньше, чем он дойдет до конца своей мостовой длиной в десяток сажен.
Я с Никритиной возвращался с бегов.
Как по клавишам рояля, били по камню подковы рысака. Никритина еще ни разу не была у нас в доме. Я долго уговаривал, просил, соблазнял необыкновенным кулинарным искусством Эмилии.
А когда она согласилась, одним легким духом взбежал три этажа и вонзил палец в звонок. Вонзив же, забыл вытащить. Обалдевший звонок горланил так же громко, как мое сердце.
Когда распахнулась дверь и на меня глянули удивленные, перепуганные и любопытные глаза Эмилии, я мгновенно изобрел от них прикрытие и прозрачную ложь:
– Умираю от голода! есть! есть!
В коридоре мешки с мукой, кишмишем, рисом и урюком. Влетел в комнату. Чемоданы, корзины, мешки.
– Сергей Александрович приехали… вас побежали искать. Я по-ребячьи запрыгал, захлопал в ладоши и схватил Никритину за кисти рук.
А из них по капелькам вытекала теплота.
В окно било солнце, не по-весеннему жаркое.
– Я пойду…
И она высвободила из моих пальцев две маленькие враждебные льдинки.
Я проводил ее до дому. Прощаясь, ловил взгляд и не мог поймать – попадались стиснутые брови и ресницы, волочащиеся по щекам, как махры старомодной длинной юбки.
Есенина нашел в «Стойле Пегаса».
И почему-то, обнимая его, я тоже прятал глаза.
Вечером Почем-Соль сетовал:
– Не поеду, вот тебе слово, в жизни больше не поеду с Сергеем… Весь вагон забил мукой и кишмишем. По ночам, прохвост, погрузки устраивал… Я, можно сказать, гроза там… центральная власть, уполномоченный, а он кишмишников в вагон с базара таскает. Я им по два пуда с Левой разрешил, а они, мерзавцы, по шесть наперли.
Есенин нагибается к моему уху:
– По двенадцати!..
– Перед поэтишками тамошними мэтром ходит… деньгами швыряется, а из вагона уполномоченного гомельскую лавчонку устроил… с урючниками до седьмого пота торгуется… И какая же, можно сказать, я после этого гроза… уполномоченный…
– Скажи пожалуйста – «урюк, мука, кишмиш!»… А то, что я в твоем вагоне четвертую и пятую главу «Пугачева» написал, это что?.. Я тебя, сукина сына, обессмерчиваю, в вечность ввожу… а он – «урюк! урюк!».
При слове «вечность» замирали слова на губах Почем-Соли, и сам он начинал светиться ласково, умиротворенно, как в глухом пензенском переулке окошечко под кисейным ламбрикеном, озаренное керосиновой лампой с абажуром из розового стекла.
42
Когда Никритина уезжала в Киев, из какой-то теплой стесненности и смешной неудоби я не решился проводить ее на вокзал.
Она жила в Газетном переулке. Путь к Александровскому шел по Никитской мимо нашей книжной лавки.
Поезд уходил часа в три. Боясь опоздать, с половины одиннадцатого я стал собираться в магазин. Обычно никогда не приходили мы раньше часа-двух. А в лето «Пугачева» и «Заговора» заглядывали на час после обеда, и то не каждый день.
Есенин удивлялся:
– Одурел… в такую рань…
– Сегодня день бойкий… Уставившись на меня, ехидно спрашивал:
– Торговать, значит?.. Ну, иди, иди, поторгуй. И сам отправился со мной для проверки.
А как заявились, уселся я у окна и заерзал глазами по стеклу.
Когда заходил покупатель, Есенин толкал меня локтем в бок:
– Торгуй!., торгуй!..
Я смотрел на него жалостливо. А он:
– Достаньте, Анатолий Борисович, с верхней полки Шеллера-Михайлова.
Проклятый писателишка написал назло мне томов пятьдесят. Я скалил зубы и на покупателя, и на Есенина. А на зловредное обращение ко мне на «вы» и с именем-отчеством отвечал с дрожью в голосе:
– Товарищ Есенин…
И вот: когда я стоял на лесенке, балансируя кипою ростом в полтора аршина, увидел в окошко, сквозь серебряный кипень пыли, извозчика и в ногах у него знакомую мне корзинку.
Трудно балансировать в таком положении. А на извозчичьем сиденье – белая гамлетка, кофточка из батиста с длинным галстучком и коричневая юбочка. Будто не актриса эстетствующего в Гофмане, Клод еле и Уайльде театра, а гимназистка класса шестого ехала на каникулы в тихий Миргород.
Тут уж не от меня, а от судьбы – месть за то, что был Есенин неумолим и каменносердечен.
Вся полуторааршинная горка Шеллера-Михайлова низверглась вниз, тарабаня по есенинскому затылку жесткими нивскими переплетами.
Я же пробкой от сельтерской вылетел из магазина, навсегда обнажив сердце для каверзнейших стрел и ядовитейших шпилек.
43
На лето остались в Москве. Есенин работал над «Пугачевым», я – над «Заговором дураков». Чтоб моркотно не было от безалабери, до обеда закрыли наши двери и для друзей, и для есенинских подруг. У входа даже соответствующую вывесили записку.
А на тех, для кого записка наша была не указом, спускали Эмилию.
Она хоть за ляжки и не хватала, но Цербером была знаменитым.
Материал для своих исторических поэм я черпал из двух-трех старых книг, Есенин – из академического Пушкина.
Кроме «Истории Пугачевского бунта» да «Капитанской дочки», так почти ничего Есенин и не прочел, а когда начинала грызть совесть, успокаивал себя тем, что Покровский все равно лучше Пушкина не напишет.
Меня же частенько уговаривал приналечь на «Ледяной дом».
Я люблю «Пугачева». Есенин умудрился написать с чудесной наивностью лирического искусства суровые характеры.
Поэма Есенина вроде тех старинных православных икон, на которых образописцы изображали Бога отдыхающим после сотворения мира на полатях под лоскутным одеялом.
А на полу рисовали снятые валенки. Сам же Бог – рыжебородый новгородский мужик с желтыми мозолистыми пятками.
Петр I предавал такие иконы сожжению как противные вере. Римские папы и кардиналы лучше его чувствовали искусство. На иконах в соборах Италии – святые щеголяют модами эпохи Возрождения.
Свои поэмы по главам мы читали друзьям. Как-то собрались у нас Коненков, Мейерхольд, Густав Шпет, Якулов. После чтения Мейерхольд стал говорить о постановке «Пугачева» и «Заговора» у себя в театре.
– А вот художником пригласим Сергея Тимофеевича, – обратился Мейерхольд к Коненкову. – Он нам здоровеннейших этаких деревянных болванов вытешет.
У Коненкова вкось пошли глаза:
– Кого?..
– Я говорю, Сергей Тимофеевич, вы нам болванов деревянных…
– Болванов?..
И Коненков так стукнул о стол стаканом, что во все стороны брызнуло стекло мельчайшими брызгами.
– Статуи… из дерева… Сергей Тимофеевич…
– Для балагана вашего… – Коненков встал. – Ну, прости, Серега… прости, Анатолий… Я пойду… пойду от «болванов» подальше.
Обиделся он смертельно.
А Мейерхольд не понимал: чем разобидел, отчего заварилась такая безделица? Есенин говорил:
– Все оттого, Всеволод, что ты его не почуял… «Болваны»!.. Разве возможно!.. Ты вот бабу так нежно по брюху не гладишь, как он своих деревянных «мужичков болотных» и «стареньких старичков»… в мастерской у себя. Никогда не разденет их при чужом глазе… Заперемшись, холстяные чехлы снимает, как с невесты батистовую рубашечку в первую ночь… А ты – «болваны»!.. Разве возможно?..
Есенин нравоучал, а Якулов утешал Мейерхольда на свой якуловский неподражаемый манер:
– Он… гхе-гхе… Азия, Всеволод, Азия… Вот греческую королеву лепил… в смокинге из Афин приехал… из бородищи своей эспаньолку выкроил… Ну, думаю, – европейский художник… А он… гхе-гхе… пришел раз ко мне… ну… там шампанское было, фрукты, красивые женщины… гхе-гхе… Он говорит: «Поедемте ко мне на Пресню, здесь… гхе-гхе… скучно…» Чем, думаю, после архипелага греческого поди вит… А он в кухню к себе привез… водки выставил… две бутылки… гхе-гхе… огурцов соленых, лук головками… А сам на печь и… гхе-гхе… за гармошку… штиблеты снял… А по том… гхе-гхе… «Пойте, – говорит, – "Как мы просо сеяли, сеяли…"» Можно сказать, красивые женщины… гхе-гхе… жилет белый… художник европейский… гхе-гхе… Азия, Все волод, Азия!
44
Больше всего в жизни Есенин боялся сифилиса. Выскочит, бывало, на носу у него прыщик величиной с хлебную крошку, и уж ходит он от зеркала к зеркалу суров и мрачен.
На дню спросит раз пятьдесят:
– Люэс, может, а?., а?..
Однажды отправился даже в Румянцевку вычитывать признаки страшной хворобы.
После того стало еще хуже – чуть что:
– Венчик Венеры!
Когда вернулись они с Почем-Солью из Туркестана, у Есенина от беспрерывного жевания урюка стали слегка кровоточить десны.
Перед каждым встречным и поперечным он задирал губу:
– Вот, кровь идет… А?.. Не первая стадия?.. А?.. Как-то Кусиков устроил вечеринку. Есенин сидел рядом с Мейерхольдом.
Мейерхольд ему говорил:
– Знаешь, Сережа, я ведь в твою жену влюблен… в Зина иду Николаевну… Если поженимся, сердиться на меня не будешь?
Есенин шутливо кланялся Мейерхольду в ноги:
– Возьми ее, сделай милость… По гроб тебе благодарен буду.
А когда встали из-за стола, задрал перед Мейерхольдом губу:
– Вот… десна… тово…
Мейерхольд произнес многозначительно:
– Да-а…
И Есенин вылинял с лица, как ситец от июльского солнца. Потом он отвел в сторону Почем-Соль и трагическим шепотом сообщил ему на ухо:
– У меня сифилис… Всеволод сказал… А мы с тобой из одного стакана пили… значит…
У Почем-Соли подкосились ноги.
Есенин подвел его к дивану, усадил и налил стакан воды:
– Пей!
Почем-Соль выпил. Но скулы продолжали прыгать. Есенин спросил:
– Может, побрызгать? И побрызгал.
Почем-Соль глядел в ничто невидящими глазами.
Есенин сел рядом с ним на диван и, будто деревянный шарик из чашечки бильбоке, выронил голову с плеч на руки.
Так просидели они минут десять. Потом поднялись и, волоча ступни по паркету, вышли в прихожую.
Мы с Кусиковым догнали их у выходной двери.
– Куда вы?
– Мы домой… у нас сифилис… И ушли.
В шесть часов утра Есенин расталкивал Почем-Соль:
– Вставай… К врачу едем…
Почем-Соль мгновенно проснулся, сел на кровати и стал в одну штанину подштанников всовывать обе ноги. Я пробовал шутить:
– Мишук, у тебя уже начался паралич мозга!
Но когда он взъерошил на меня глаза, я горько пожалел о своей шутке.
Зрачки его в ужасе расползались, как чернильные капли, упавшие на промокашку.
Бедняга поверил.
Есенин с деланным спокойствием ледяными пальцами завязывал галстук.
Потом Почем-Соль, забыв надеть галифе, стал прямо на подштанники натягивать сапоги.
Я положил ему руку на плечо:
– Хоть ты теперь, Миша, и «полный генерал», но все-таки сенаторской формы тебе еще не полагается!
Есенин, не повернувшись, сказал, дрогнув плечами:
– А ты все остришь!.. Даже когда пахнет пулей «браунинга»… И это – друг… Друг!
Половина седьмого они обрывали звонок у тяжелой дубовой двери с медной дощечкой, начищенной кирпичом.
От горничной, не успевшей еще заревые сны и телесную рыхлость упрятать за крахмальный фартучек, шел теплый пар, как от утренней болотной речки. В щель через цепочку она буркнула что-то о раннем часе и старых костях профессора, которым нужен покой.
Есенин бил кулаками в дверь до тех пор, пока не услышал в дальней комнате кашель, сипы и охи.
Старые кости поднялись с постели, чтобы прописать одному зубной эликсир и мягкую зубную щетку, а другому:
– Бром, батенька мой, бром… Прощаясь, профессор кряхтел:
– Сорок пять лет практикую, батеньки мои, но такого, чтоб двери ломали… Нет, батеньки мои!.. И добро бы с делом пришли, а то… Большевики, что ли? То-то!.. Ну, будьте здоровы, батеньки мои.
45
«Эрмитаж». На скамьях ситцевая веселая толпа. На эстраде заграничные эксцентрики: синьор Везувио и дон Мадрид о. У синьора нос вологодской репкой, у дона – полтавской дулей.
Дон Мадридо ходит колесом по цветистому русскому ковру. Синьор ловит его за шароварину:
– Фи куцы пошель?
– Ми, синьор, до дому.
А в эрмитажном парке пахнет крепким белым грибом. Как-то около забора Есенин нашел две землянички.
Я давно не был в Ленинграде. Так же ли, как и в те чудесные годы, меж торцов Невского проспекта вихрявится милая нелепая травка?
Синьора Везувио и дона Мадридо сменила знаменитая русская балерина. Мы смотрим на молодые упругие икры. Носок – подобно копью – вонзен в дощатый пьедестал. А щеки мешочками и под глазами пятидесятилетняя одутловатость.
Чудесная штука искусство!
Из гнусавого равнодушного рояля человек с усталыми темными веками выколачивает «Лебединое озеро». К нам подошел Жорж Якулов. На нем был фиолетовый френч из старых драпри. Он бьет по желтым крагам тоненькой тросточкой. Шикарный человек. С этой же тросточкой, в белых перчатках водил свою роту в атаку на немцев. А потом звенел Георгиевскими крестами.
Смотрит Якулов на нас, загадочно прищуря одну маслину. Другая щедро полита провансальским маслом.
– А хотите, с Изадорой Дункан познакомлю?
Есенин даже привскочил со скамьи:
– Где она?., где?..
– Здесь… гхе-гхе… Ззамечательная женщина…
Есенин ухватил Якулова за рукав:
– Веди!
И понеслись от Зеркального зала к Зимнему, от Зимнего в Летний, от Летнего к оперетте, от оперетты обратно в парк шаркать глазами по скамьям.
Изадоры Дункан не было.
– Черт дери… гхе-гхе… нет… ушла… черт дери.
– Здесь, Жорж, здесь!
И снова от Зеркального к Зимнему, от Зимнего к оперетте, в Летний, в парк.
– Жорж, милый, здесь, здесь!..
Я говорю:
– Ты бы, Сережа, ноздрей след понюхал.
– И понюхаю. А ты – пиши в Киев цидульки два раза в день и помалкивай в тряпочку.
Пришлось помалкивать.
Изадоры Дункан не было. Есенин мрачнел и досадовал.
Теперь чудится что-то роковое в той необъяснимой и огромной жажде встречи с женщиной, которую он никогда не видал в лицо и которой суждено было сыграть в его жизни столь крупную, столь печальную и, скажу более, столь губительную роль.
Спешу оговориться: губительность Дункан для Есенина ни в какой степени не умаляет фигуры этой замечательной женщины, большого человека и гениальной актрисы.
46
Почем-Соль влюбился. Бреет голову, меняет пестрые туркестанские тюбетейки, начищает сапоги американским кремом и пудрит нос. Из бухарского белого шелка сшил рубашки, длинные, на грузинский фасон.
Собственно, я виновник этого несчастья. Ведь знал, что Почем-Соль любит хорошие вещи.
А та, с которой я его познакомил, именно хорошая Вещь. Ею приятно обставить квартиру.
У нашего друга нет квартиры, но зато есть вагон. Из-за вагона он обзавелся Левой в «инженерной» фуражке.
Очень страшно, если он возьмет Вещь в жены, чтобы украсить свое купе.
Я ему от сердца говорю:
– Уж лучше я тебе подарю ковер! А он сердится.
По вечерам мы с Есениным беспокоимся за его судьбу. Есенин, как в прошлые дни, говорит:
– Пропадает парень… пла-а-а-кать хочется!
47
Вернулась Никритина.
Холодные осенние вечера. Луна похожа на желток крутого яйца.
С одиннадцати часов вечера я сижу на скамейке Тверского бульвара против Камерного и жду. В театр мне войти нельзя. Я друг Мейерхольда и враг Таирова. Как это давно было! Теперь при встрече с Мейерхольдом еле касаюсь шляпы, а с Таировым даже немного больше, чем добрые знакомые.
Иногда репетиции затягиваются до часу, до двух, до трех ночи.
Когда возвращаюсь домой, Есенин и Почем-Соль надо мной издеваются. Обещают подарить теплый цилиндр с наушниками. Меня прозвали Брамбиллом. В Камерном был спектакль «Принцесса Брамбилла». А Никритину – Обезьянкой, Мартышкой, Мартыном, Мартышоном.
Есенин придумывает частушки.
Я считаю Никритину замечательной, а он поет:
Ах, мартышечка-душа,
Собой не больно хороша.
А когда она бывает у нас, ту же частушку Есенин поет на другой манер:
Ах, мартышечка-душа,
Собою очень хороша.
По ночам через стену слышу беспокойный шепот. Это Почем-Соль с Есениным тревожатся о моей судьбе.
Якулов устроил пирушку у себя в студии.
В первом часу ночи приехала Дункан.
Красный хитон, льющийся мягкими складками, красные, с отблеском меди, волосы, большое тело.
Ступает легко и мягко.
Она обвела комнату глазами, похожими на блюдца из синего фаянса, и остановила их на Есенине.
Маленький нежный рот ему улыбнулся.
Изадора легла на диван, а Есенин у ее ног.
Она окунула руку в его кудри и сказала:
– Solotaia golova!
Было неожиданно, что она, знающая не больше десятка русских слов, знала именно эти два.
Потом поцеловала его в губы.
И вторично ее рот, маленький и красный, как ранка от пули, приятно изломал русские буквы:
– Anguel!
Поцеловала еще раз и сказала:
– Tschort!
В четвертом часу утра Изадора Дункан и Есенин уехали. Почем-Соль подсел ко мне и стал с последним отчаянием набрасывать план «спасения Вятки»:
– Увезу его…
– Не поедет…
– В Персию…
– Разве что в Персию…
От Якулова ушли на заре. По пустынной улице шагали с грустными сердцами.
48
На другой день мы отправились к Дункан.
Пречистенка. Балашовский особняк. Тяжелые мраморные лестницы, комнаты в «стилях»: ампировские – похожи на залы московских ресторанов, излюбленных купечеством, мавританские – на Сандуновские бани. В зимнем саду – дохлые кактусы и унылые пальмы. Кактусы и пальмы так же несчастны и грустны, как тощие звери в железных клетках зоологического парка.
Мебель грузная, в золоте. Парча, штоф, бархат.
В комнате Изадоры Дункан на креслах, диванах, столах – французские легкие ткани, венецианские платки, русский пестрый ситец.
Из сундуков вытащено все, чем можно прикрыть дурной вкус, дурную роскошь.
Изадора нежно улыбнулась, собирая морщинки на носу:
– C’est Balachoff… ploho chambre… ploho… Isadora fichu chale achetra… mnogo, mnogo ruska chale…
На полу волосяные тюфяки, подушки, матрацы, покрытые коврами и мехами.
Люстры затянуты красным шелком. Изадора не любит белого электричества. Говорят, что ей больше пятидесяти лет.
На столике перед кроватью большой портрет Гордона Крэга.
Есенин берет его и пристально рассматривает. Потом будто выпивает свои сухие, слегка потрескавшиеся губы:
– Твой муж?
– Qu’est-ce que c’est mouje?
– Mari… epoux…
– Qui, mari… bil… Kreg ploho mouje, ploho mari… Kreg pichet, pichet, travaillait, travaillait… ploho mouje… Kreg genie.
Есенин тычет себя пальцем в грудь:
– И я гений!.. Есенин гений… Гений – я!.. Есенин – ге ний, а Крэг – дрянь!
И, скроив презрительную гримасу, он сует портрет Крэга под кипу нот и старых журналов:
– Адьу! Изадора в восторге:
– Adieu!
И делает мягкий прощальный жест.
– А теперь, Изадора, – и Есенин пригибает бровь, – танцуй… Понимаешь, Изадора?.. Нам танцуй!
Он чувствует себя Иродом, требующим танец у Саломеи.
– Tansoui?.. Bon!
Дункан надевает есенинские кепи и пиджак. Музыка чувственная, незнакомая, беспокоящая.
Апаш – Изадора Дункан. Женщина – шарф.
Страшный и прекрасный танец.
Узкое розовое тело шарфа извивается в ее руках. Она ломает ему хребет, судорожными пальцами сдавливает горло. Беспощадно и трагически свисает круглая шелковая голова ткани.
Дункан кончила танец, распластав на ковре судорожно вытянувшийся труп своего призрачного партнера.
Есенин впоследствии стал ее господином, ее повелителем. Она, как собака, целовала руку, которую он заносил для удара, и глаза, в которых чаще, чем любовь, горела ненависть к ней.
И все-таки он был только партнером, похожим на тот кусок розовой материи, – безвольный и трагический.
Она танцевала.
Она вела танец.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?