Текст книги "Политика авангарда"
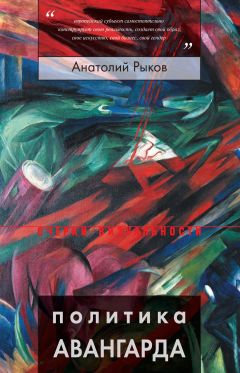
Автор книги: Анатолий Рыков
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Советский постмодерн. Борис Гройс
Борис Гройс известен своим утверждением, что сталинское искусство – это продолжение, а не разрушение авангарда. Рассматривая соцреализм сталинской эпохи как поставангард, Гройс создает настоящую пародию на постмодернизм, проблематизируя весь категориальный аппарат современной теории искусства. Авангард, по Гройсу, не говорит о «разрушительном» воздействии современной техники в позитивном ключе: авангардисты убеждены лишь в том, что этому «опустошению» невозможно противостоять традиционалистскими методами[49]49
Гройс Б. Искусство утопии. М., 2003. С. 34.
[Закрыть]. Рационализм, материализм и техницизм авангарда долгое время преувеличивали. Другим мифом, связанным с этим направлением, по мнению Гройса, является культ оригинальности и индивидуализма в авангардистской среде, в то время как «оригинальность» авангарда как раз и состояла в отказе от оригинального и индивидуального[50]50
Там же. С. 168.
[Закрыть].
Именно авангардисты первыми задумали тот «прыжок через прогресс», который был осуществлен в рамках сталинской культуры. В своей статье «Воля к отдыху» Гройс замечает, что авангард традиционно уподобляют воинскому подразделению, находящемуся далеко впереди остального войска на марше, имея в виду, что авангард всегда находится в движении. В действительности авангард, по словам Гройса, напоминает скорее воинское подразделение, которое победоносно достигло своей цели, расположилось лагерем и отдыхает, в то время как остальное войско все еще на марше и не знает, достигнет оно когда-нибудь цели или нет[51]51
Гройс Б. Комментарии к искусству. М., 2003. С. 53.
[Закрыть].
Сталинизм (как «победивший авангард», по Гройсу) был странным сочетанием «преодоления истории» и «веры в будущее», поскольку все «прогрессивное» в сталинской культуре наделялось надысторическим, универсальным значением[52]52
Гройс Б. Искусство утопии. С. 69.
[Закрыть]. Отречение авангарда от традиции имеет смысл, если традиция еще жива. Сталинская же эпоха чувствовала себя культурой после конца истории, когда все неожиданно стало «новым» и необходимость борьбы с традицией отпала сама собой[53]53
Там же. С. 61–62.
[Закрыть]. После провала сталинского утопического проекта, «когда советскому человеку больше всего захотелось прочь из утопии обратно в историю, он вдруг обнаружил, что истории больше нет и возвращаться некуда. На Западе, который следовало “догонять”, уже никто никуда более не спешил, и все надежды на перемены исчезли вследствие исчезновения самой исторической перспективы, самой ориентации на будущее»[54]54
Там же. С. 137.
[Закрыть].
В этой связи особый интерес представляет оценка Гройсом западного постмодерна. Она противоречива. С одной стороны, он говорит о том, что ориентация на «конец истории» (прогресса), «самодельный апокалипсис» атомного или экологического типа не свойственны западному постмодернизму и скорее характеризуют его поверхностную рецепцию как некоего антимодернизма, каковым он по существу не является[55]55
Гройс Б. Искусство утопии. С. 133.
[Закрыть]. С другой стороны, теории симулякра и дифференции (различания), утверждает Гройс, сами продолжают быть утопическими (а всякая современная утопия, отмечает теоретик двумя страницами ранее, как раз и хочет остановить прогресс его же собственными силами), ибо отрицают категории оригинальности и аутентичности, которые присущи нашему пониманию истории: «Действительно, постмодернизм представляется в этой перспективе чем-то принципиально новым и неслыханным, так как впервые и навсегда запрещает, делает невозможной аутентичность и провозглашает тысячелетний рейх дифференции, симуляции, цитации и эклектики»[56]56
Там же. С. 134, 132.
[Закрыть].
Гройс говорит о скрытом теологическом пафосе постмодернизма. Речь идет, как указывает теоретик, о вере в то, что мир сей принадлежит князю тьмы[57]57
Там же. С. 134.
[Закрыть] (именно такое впечатление создается при чтении, например, «Диалектики Просвещения» Хоркхаймера и Адорно) и в условиях тотальной коррумпированности сознания (когда любая «позитивная» программа оказывается изначально ориентированной на воспроизводство господствующей системы) сопротивление возможно лишь в виде негативной теологии, интеллектуальной аскезы. Гройс справедливо отмечает утопический характер этого мировоззрения, в котором критическое отношение к действительности трансформируется в некую смесь традиционной утопии и антиутопии. Таким образом, обращение теоретиков и практиков современного искусства к практикам цитации и симуляции в конечном счете, по мнению Гройса, объясняется их оппозиционностью, нежеланием обогащать действительность за счет своего творчества[58]58
Там же. С. 137–138.
[Закрыть]. Эту идею «дублирования реальности» как радикального и единственно возможного в настоящее время акта протеста Гройс заимствует у Адорно[59]59
Адорно Т.В. Указ. соч. С. 48–49.
[Закрыть].
Автор «Gesamtkunstwerk Сталин» проводит интересные параллели между советской идеологией и постмодернистским мышлением. Утопизм советской идеологии, по словам Гройса, как раз и заключается в ее «постмодерности», в запрете на всякое собственное слово как «одностороннее», «недиалектичное», изолированное от практики, что в целом создает тот же эффект, что и постмодернистская критика[60]60
Гройс Б. Искусство утопии. С. 135.
[Закрыть]. Со сталинского времени советская идеология становится эклектичной, цитатной, «постмодернистской». Разница между советской и западной (постмодернистской) ситуациями заключается лишь в том, что в первом случае апроприация художественного наследия осуществлялась централизованно и планово, во втором – индивидуально[61]61
Там же.
[Закрыть]. Подобное господство контекста над текстом, подсознания над сознанием, Другого («несказанного») над субъективным в советской идеологии, как и в постмодернизме, предупреждает Гройс, означает лишь господство того, кто говорит об этом контексте (Другом, несказанном), того, кто фактически работает над ними[62]62
Там же. С. 147.
[Закрыть].
В целом подход Гройса может быть обозначен как институциональный. Реальные контексты, которые якобы определяют искусство, – не более чем грезы, проецируемые самой художественной системой на внешний мир[63]63
Гройс Б. Комментарии к искусству. С. 12.
[Закрыть]. Развитие искусства автономно и определяется институциональной логикой (такую же, как у Гройса, апологию художественных институций, «системы искусства» мы находим, например, у Акилле Бонито Оливы). Авангард здесь не является исключением: институции не только присвоили в конечном счете все авангардные трансгрессии, но и инспирировали эти акты неповиновения, поскольку любая институция стремится к экспансии, расширяя собственные границы.
Важнейшая из этих институций для Гройса – художественный рынок. Как и Олива, Гройс много писал о его благотворном влиянии на искусство. «Рынок спасает искусство от него самого, от его абсолютных и потому саморазрушительных притязаний. Следовательно, если в искусстве и есть какая-то эмансипирующая сила, то этой силой является только коммерческий художественный рынок»[64]64
Гройс Б. Искусство утопии. С. 260.
[Закрыть]. Без рынка искусство было бы обречено на стагнацию в рамках той или иной тоталитарной утопии. Поэтому рынок – это константа истории искусства Гройса: «…нет никакого смысла производить искусство, если его не выставлять и не продавать ‹…› Искусство всегда было ориентировано на создание ценностей и на их сбыт»[65]65
Там же. С. 253.
[Закрыть]. Другой важной институцией является, конечно, музей. Интерес искусства к бедности и мусору, утверждает Гройс, можно объяснить страхом, внушенным ему прогрессивными теориями общественного развития. (Здесь у Гройса отчетливо звучат интонации Адорно.) Под угрозой «окончательного» торжества прогресса искусство хотело сохранить дорогой ему «мусор жизни» хотя бы в музеях. Таким образом, искусство, заключает Гройс, зависимое от механизмов музейного хранения, всегда инстинктивно консервативно.
Любопытно проследить, какую роль играет в системе Гройса такое понятие, как аура, с анализа которого и начинается, по гамбургскому счету, художественно-теоретический модерн. У Беньямина, как мы помним, авангард означал прежде всего разрушение ауры. У Гройса (как у Диди-Юбермана) «аура никуда не исчезает»: ведь мир, по его мнению, нельзя полностью деауратизировать, как нельзя его и полностью ауратизировать[66]66
Там же. С. 279.
[Закрыть]. Любые попытки уничтожения ауры в искусстве обречены на провал, поскольку, как известно еще из древнейших магических практик, сакральное всегда переходит на святотатца. В искусстве апроприации репродукция становится «картиной страдания» насильственно лишенного ауры оригинала, в результате чего аура не исчезает, а лишь переходит на саму копию. С этой точки зрения искусство сохраняет свой референт, репрезентируя целую систему общественных ценностей – некий аналог характерной для ХIХ века смеси социализма с христианством: сострадание к поруганному оригиналу с его аурой – сострадание к Христу и его жертвенному пути, сострадание к пролетарию, в котором «поруган» «образ Божий» или человеческое достоинство. Однако «репрезентация», о которой идет речь у Гройса, все равно оказывается запертой в художественном гетто.
Модернистское искусство, подчеркивает Гройс, находилось в плену мифологизированных романтических представлений о «новом», якобы преодолевающем все конвенции и правила в результате воздействия некой скрытой силы. Источниками этого «нового» объявлялись Бог, природа, история, жизнь, субъективность художника, бессознательное, «абсолютно Другое», желание, язык[67]67
Гройс Б. Комментарии к искусству. С. 29.
[Закрыть]. Таким образом, «новое» оказывается «старым» или первичным – тем, что скрывается позади культурных конвенций, а инновация понимается как переход от явления к сущности, от внешней конвенции к внутренней истине. Ситуация не изменилась, по мнению Гройса, и в постструктурализме: дискурс деконструкции описывает инновацию как действие скрытой силы (различания), находящейся по ту сторону художественной техники (поэтики) и исключающей сознательное отношение со стороны художника[68]68
Гройс Б. Комментарии к искусству. С. 30.
[Закрыть]. Гройс предлагает рационализировать категорию нового путем сведения инновации к чисто технической, не предполагающей никакого специфического содержания, манипулятивной операции: этот «единый для всех» технический метод инновации состоит в перемещении объектов из внешнего контекста в собственный контекст искусства.
2. Истоки. ХIХ век
Террор «чистого зрения»
Французская революция стала всего лишь одним из симптомов глобальных изменений в структуре западной ментальности, ее разворота в сторону проблематики негативного на рубеже ХVIII – ХIХ вв. Культуролог Михаил Ямпольский пишет об этом в связи с возникающей в то время новой концепцией пустоты (ипостаси негативного): «В случае Французской революции и Бог, и король становятся жертвами символической или физической казни. В результате в центре репрезентативного пространства (которое продолжает строиться вокруг центра) оказывается пустота, идентифицируемая с возвышенной неявленностью энтузиазма и свободы»[69]69
Ямпольский М. Физиология символического. Книга 1. Возвращение Левиафана. Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого режима. М., 2004. С. 649.
[Закрыть].
В дальнейшем эта мифология пустоты как «возвышенной неявленности» превратится в существенную часть идеологии современного искусства от Малевича до Уорхола. Ее истоки следует искать именно в эпохе Великой французской революции, к примеру, в архитектуре мегаломанов с их любовью к грандиозным пустым объемам, чистым поверхностям, простому геометрическому языку форм и отказу от «канонических» способов коммуникации в искусстве. Случай архитектуры мегаломанов ценен еще и демонстрацией тесной связи между двумя возможными прочтениями этой «новой пустоты» – как символа освобождения (с одной стороны) и как символа абсолютного нуля, ничто (с другой). Творчество двух ведущих живописцев рубежа ХVIII – ХIХ вв. Давида и Гойи также свидетельствует в пользу взаимосвязи принципа свободы и принципа негативного в двух параллельно развивавшихся в то время революциях – социальной и художественной.
У Давида «негативное измерение» связано с концептом «правды», «реального», оппозиционным к рококо. Критики Давида, называвшие его художественный мир «царством Террора» (определение викторианского историка искусства Чарльза Холмса[70]70
Чегодаев А.Д. Статьи об искусстве Франции, Англии, США 18–20 вв. М., 1978. С. 48.
[Закрыть]), нередко чувствовали это негативное начало в искусстве французского художника острее, чем его апологеты (хотя, разумеется, всей сложности тематических структур, которые у Давида включали негативное измерение, они не хотели и не могли понять). Парадоксальную диалектику искусства Давида, предвосхитившую логику современного искусства, гениально определил, характеризуя «Смерть Марата», Бодлер: «Вот истинная пища сильных духом, торжество духа; картина жестока, как сама природа, и в то же время в ней незримо присутствует идеал»[71]71
Бодлер Ш. Цветы зла. Обломки. Парижский сплин. Искусственный рай. Эссе, дневники. Статьи об искусстве. М., 1997. С. 511.
[Закрыть].
Ригоризм художественного языка Давида, символизировавший победу новой морали, показывает, что задолго до Ницше французский живописец выступил против «человеческого, слишком человеческого». Тема одержимости, которую мы находим в «Клятве Горациев», есть тема Иного, пугающего, демонического. Фанатизм, слепая готовность к подвигу означают, что чувства старого мира умерли.
Основанный на странной близости контраст «Клятвы в зале для игры в мяч» Давида и «Дома умалишенных в Сарагосе» Гойи может ввести в заблуждение. В действительности Давид не менее остро, чем Гойя, воспринимал «демонический», иррациональный компонент нового «рационального» мира. Оба художника открывают пугающую двойственность добра и зла, их взаимопроникновение: Давид исследует «нечеловеческое», неподвластное человеческому разумению «добро», Гойя – «нечеловеческое», «демоническое» зло, скрытое в самом человеке.
Из противостояния негативному рождается новый масштаб человеческой личности, новое чувство космического. По словам Валерия Прокофьева, живопись Дома Глухого рождает «граничащее со священным трепетом восхищение художником, который рискнул, очертя голову, броситься в самое средоточие беснующегося мрака и не только не утонул в нем, но осилил и подчинил его разнузданность энергии своей кисти ‹…›. Отсюда возникло глубоко впечатляющее ощущение титанического сражения живописца с им же самим вызванными к жизни стихиями. Отсюда рождался высокий пафос, пронизывающий эту своеобразную систему агрессивной и мучающейся живописи…»[72]72
Прокофьев В.Н. Гойя. Ансамбль росписей нижнего этажа Дома Глухого. 1820 // Мастера классического искусства Запада / Ред. и сост. В.Н. Прокофьев. М., 1983. С. 148.
[Закрыть].
Интерпретируя росписи Дома Глухого, Прокофьев воспроизводит логику классической немецкой философии, утверждавшей, что человек в безграничности своих духовных способностей подобен Богу и (более того) становится Богом в той степени, в которой он отрекается от конечности своего физического существования и осознает себя как бесконечность духа. Последнее возможно лишь в случае столкновения с негативным: бесконечность и враждебность материального мира заставляет индивидуума почувствовать другую бесконечность – собственного духа. Так, негативное, согласно Канту и Гегелю, служит росту духовных сил человека. Через испытания ужасом и хаосом формируется новый тип личности, опирающийся скорее на ощущение внутренней силы и свободы, чем на веру в рациональный порядок бытия.
Подобно Давиду, Гойя исследует негативное во имя принципа правды. Его привлекает открытая Кантом на теоретическом уровне «вещь в себе», неизвестная, непознаваемая сторона мироздания. В офорте «Столько и еще больше» (1810) из серии «Бедствия войны» мы наблюдаем то уничтожение различий (между живым и неживым, верхом и низом), тот отказ от привычной для человека системы координат, о котором много писали постмодернисты. Новая объективность ви́дения, несомненно, связана с шоковым эффектом и достигается ценой «отключения» сознания (самосознания), отказа от моральной и интеллектуальной оценки событий.
Так рождается «чистое зрение» модернизма, истоки которого лежат не в формалистических экспериментах узников башен из слоновой кости, а в новом шоковом опыте человека ХIХ в. Здесь же следует искать и истоки «новой живописности», романтического культа неясности (постепенное узнавание шокирующих деталей), тяги к пространственной неопределенности. В указанном офорте Гойи изображение максимально приближено к пространству зрителя и, более того, вторгается в него. Движение взгляда зрителя останавливается, вперяется в одну точку, мы не в силах искать некий скрытый порядок (смысл) в том бесформенном месиве, в которое превратилась гора трупов. У художника нет эмоционального отношения к происходящему, его (наш) взгляд уподобляется бесстрастной объективности фотокамеры.
Следы изящества и живописной незаконченности манеры ХVIII в. (связанные с проблематикой эстетизации ужасного) в серии «Бедствия войны» лишь оттеняют моменты отказа от художественного в старом его понимании (офорт «Хоронить и молчать»). Мир образов Гойи ненормален как с точки зрения его «содержания» (война как экстремальная, «пограничная» ситуация»), так и в силу используемых автором художественных приемов. Негативное показано у Гойи как иная реальность, в которой человеческая жизнь ничего не стоит и неотделима от смерти, странный мир без идеологии, героев, событий и истории (офорт «Груда мертвецов»).
Достаточно вспомнить ключевые произведения романтической живописи, чтобы понять, какую важную роль играло понятие негативного в искусстве этого направления. Особенно показателен в этом отношении иконологический анализ мотива «лодки в бурном море», выполненный Лоренцем Эйтнером (на материале «Плота “Медузы”», «Ладьи Данте», «Пожара на море» и «Корабля в снежную бурю» Тернера, «Зрелого возраста» Томаса Коула (из его цикла «Вояж жизни») и других произведений)[73]73
Эйтнер Л. Открытое окно и лодка в бурном море. Эссе по иконографии романтизма / Пер. А.А. Курбановского // Искусствознание 1/05. М., 2005. С. 267–281.
[Закрыть]. В то же время негативное – едва ли не главный элемент поэтики реализма ХIХ в. и творчества его крупнейшего представителя Гюстава Курбе. В искусстве последнего особенно ярко проявилась преемственность по отношению к основоположникам искусства ХIХ столетия.
Как указывает Валерий Прокофьев, «Гойю, несомненно, волновал и чрезвычайно трудный для передачи момент перехода из жизни в смерть, когда живое как бы смешивается с мертвым, образуя еще неведомое искусству и лишь в “Умирающем Марате” затронутое Давидом “третье состояние” – не предсмертное, но и не посмертное, уже не агонию, но еще и не мертвый покой»[74]74
Прокофьев В.Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. М., 1986. С. 146.
[Закрыть]. В этой связи можно вспомнить и историю «отложенной» смерти в блестяще проанализированной Роланом Бартом новелле Эдгара По «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром», где также присутствует момент «трансгрессии, нарушения границы»[75]75
Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Пер. под ред. Г.К. Косикова. М., 1994. С. 454.
[Закрыть]. Знаменательно, что (подобно Давиду, Гойе и По) Курбе также обращается к теме мгновения между жизнью и смертью в серии натюрмортов с форелью. Согласно Линде Нохлин, работы Курбе (в том числе и его знаменитые «Похороны в Орнане») отражают новое («нерелигиозное», «материалистическое») отношение к смерти как абсолютному ничто, когда «мертвый человек – ноль» (братья Гонкуры)[76]76
Nochlin L. Realism. Harmondsworth, 1971. P. 60.
[Закрыть].
В своем стремлении к чистой форме искусство Мане отказывается от «человеческого, слишком человеческого», представляя собой опыт отрицания привычного, устоявшегося мира, показанного в состоянии «овеществления», социальной катастрофы. В этом смысле «чистое зрение» Мане предвосхищает травматический реализм Уорхола, о котором писал Хэл Фостер[77]77
Foster H. The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the Century. Cambridge (Mass.); London, 1996. P. 130–136.
[Закрыть]. В творчестве этого художника удивительным образом сочетаются холодная отстраненность и человечность, поэзия и безжалостная правда, потеря смысла и его нежданное обретение. Сердцевиной искусства Мане оказывается новый социальный опыт современности. Как указывает Роберт Розенблюм, связанные с темой смерти работы Уорхола или такие произведения Эдуарда Мане, как «Самоубийца», «Казнь императора Максимилиана», более правдиво отражают атрофию морального и интеллектуального измерений современной жизни, чем риторика страстей в «Гернике»[78]78
Rosenblum R. Warhol as Art History // Andy Warhol: A Retrospective / Ed. by K. McShine. New York, 1989. P. 36.
[Закрыть]. Наиболее радикальным интерпретатором темы негативного у Мане был Жорж Батай, рассматривавший отказ от сообщения в качестве самого эффективного способа коммуникации. «Казнь императора Максимилиана» таким образом превращается в казнь смысла, отказ от лживых «вторых измерений» идеологического и религиозного плана, свидетельство трагической основы человеческого существования.
Поль Сезанн подвел итоги искусства ХIХ столетия, синтезировав в своем творчестве его ключевые проблемы и тенденции. Проблема негативного здесь не является исключением. Конечно, Сезанн – слишком сложный, полнокровный художник, слишком тесно связанный с классической традицией, чтобы тема негативного «возобладала» в его творчестве. Трудно согласиться с исследователями, трактовавшими искусство Сезанна как «внечеловеческое и далекое от жизни», свидетельство «крайней безучастности духа и души к опыту глаза»[79]79
Зедльмайр Х. Утрата середины / Пер. С.С. Ванеяна. М., 2008. С. 137.
[Закрыть].
Пресловутая натюрмортизация (термин весьма условный) образа человека у Сезанна несет в себе множество психологических оттенков, прежде всего – жертвенности (стертость, размывание образа – прощание, смерть, растворение в одушевленной материи; обездвиженные «заколдованные» образы – отчуждение, медленное умирание, героика, противостояние «большому миру», вернее, конденсация в фигуре человека сил самой природы, ее героического настроя).
Человеческое и нечеловеческое вступают у Сезанна в сложный диалог. Человек воспринимается в неразрывной связи с космосом, материей, краской, неким универсальным таинственным одушевленным субстратом, не поддающимся человеческому разумению. Но человек у Сезанна остается человеком. Отсюда те пронзительные, щемящие душу ноты, которые появляются в лучших портретах-картинах мастера. Новый «суровый» образ человека, элементы деиндивидуализации соответствуют представлениям о новом масштабе проблем, вставших перед человечеством. Человек как часть грандиозного природного мира, оставшийся один на один со вселенной и вечностью, жизнью и смертью, уже готов к вступлению в новую эпоху мировых войн и небывалого ценностного кризиса.
Фигура в эрмитажном «Курильщике» обладает поразительной внутренней силой, устойчивостью и вместе с тем подвижностью, скрывая в себе то художественное напряжение, ту трагедийную коллизию, которые являются отличительными чертами современного искусства. Человек здесь не более чем элемент сгустившейся космической энергии и в то же время ее средоточие, наиболее подлинное проявление. Ведь таинственную материю, несущую в себе нечто от эффекта внутреннего борения искусства средневековой романики, по Сезанну, необходимо заклясть, превратить в форму. Образ человека в «Курильщике» находится в процессе бесконечных трансформаций космического масштаба, величавых и медлительных как движение планет. Живая и дышащая цветоформа, формирующиеся и распадающиеся пластические массы осуществляют тектонические сдвиги колоссальной мощности.
В этом столкновении (и единстве) космического, универсального и человеческого, индивидуального и заключена специфика нового трагического гуманизма Сезанна, открывающего прямой путь в ХХ век. В его искусстве находит свое выражение очень важная для той эпохи тенденция к отказу от психологического, субъективистского восприятия личности, отказу от «человеческого, слишком человеческого». Образы людей у Сезанна приобретают черты суровой героики и обобщения, вызывая в памяти творчество Давида, Пикассо, раннесоветское искусство.
Мир Сезанна – это мир скрытой борьбы, колоссального напряжения сил, кристаллизации и растворения форм. Однако «негативные» (но необходимые) факторы бытия (категория времени, центробежные силы материи) должны быть уравновешены и преодолены, по мысли Сезанна, в рамках целостного и героического мировосприятия. Воля бытия к порядку или, вернее, своеобразному равновесию космоса и хаоса проявляется у французского художника как в образе человека, так и в образе одушевленной природы, символизирующей трагическое единство человека и мироздания.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































