Текст книги "За пределами любви"
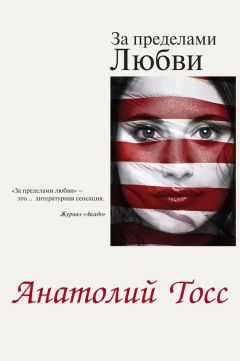
Автор книги: Анатолий Тосс
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Дверь поддалась почти без напора – на лестнице было темно, но глаза уже привыкли к темноте. Главное, чтобы не скрипели ступеньки, и она легонько, на цыпочках, едва касаясь носочками досок пола, так что те не успевали принять ее вес, перескакивая со ступеньки на ступеньку, наконец оказалась внизу. Остановилась, затаилась – где-то рядом глухо барабанило, как будто шаги, слишком торопливые, неестественно спешащие. Элизабет прислушалась: нет, не шаги, и тут же догадалась – это колотится ее собственное сердце.
Еще несколько шагов, и она уже в коридоре, дом – темный, пугающий, полный предательской угрозы, оставался позади, надо только отворить входную дверь. Только дверь… Но как же медленно она открывается! Как громко скрипят дверные петли! И уже непонятно, стучит ли это ее сердце или сзади действительно кто-то бежит мелкими, короткими шажками и вот-вот схватит ее за руку, вцепится в нее, потянет назад в темную неизбежность дома.
Надо успеть сделать один шаг туда, во влажную свежесть открытой ночи – свободной, спасительной, не ограниченной стенами и крышей, захлопнуть за собой дверь, отгородиться ею от дома, оставить его позади вместе со всеми страхами, со всеми, кто в нем остался.
Элизабет метнулась по лужайке, носки сразу пропитались влагой, отяжелив ноги, но она ухитрялась передвигать их внутри густой, плотной травы. Луна едва пробивалась сквозь низкие облака, и оттого темнота сглаживала тени, и надо было успеть добраться до коттеджа, пересечь лужайку, всего-то каких-то тридцать ярдов. Там Во-Во, он защитит, не даст в обиду, и тот, кто преследует ее, испугается, не посмеет приблизиться.
Дверь оказалась не заперта, она лишь скрипнула, легко поддавшись, и тут же затворилась позади, и Элизабет снова окунулась в полную, кромешную темноту. Она попыталась разобраться в контурах размытых во мраке предметов, но они были ей незнакомы, и она тут же наткнулась на что-то острое, вздрогнула от боли и лишь потом позвала сдавленным от страха голосом:
– Во-Во, ты где? – и потом снова, после короткой, наполненной напряжением паузы: – Во-Во!
И тут же увидела его слишком близко, слишком неожиданно. Почему-то он был одет – это Элизабет поняла, когда обхватила его руками, прижалась, пытаясь спрятаться на его груди.
– Что случилось, Лизи? – услышала она тихий шепот. – Ты почему не спишь? Что случилось?
– Мне страшно, – проговорила она куда-то внутрь его груди, отчего ее голос зазвучал еще глуше. – Я не могу спать. Там кто-то есть в доме. – Она еще крепче сцепила замок рук у него на спине. – Там наверняка кто-то есть. Мне страшно.
– Ну что ты, Лизонька… – Тяжелая, теплая рука легла на голову, медленно поглаживая по волосам. – Кто там может быть? Что ты, успокойся.
– Там кто-то есть, – повторила Элизабет. – Тот, кто убил маму, он теперь пришел за мной, он там, в доме. – Голос ее дрожал, она сама чувствовала, как мелко, тыкаясь в его рубашку, затряслась голова, сил хватало лишь на то, чтобы повиснуть на его твердом, широком теле.
– Не говори глупости. – Казалось, голос двигается по ее волосам вслед за рукой, поддерживая, успокаивая. – Никого там нет. Хочешь, я пойду с тобой и буду сидеть там рядом?
– Нет-нет, – проговорила Элизабет, – я не хочу туда, обратно. Я не хочу. – У нее совсем не оставалось сил. Она уже сама не знала, что произносят ее полностью намокшие соленой влагой губы. А потом, видимо, она заскользила вниз, даже руки не смогли ее удержать – она снова забылась то ли во сне, то ли в обмороке.
…Очнулась она от того, что ее била дрожь, скользкая, мелкая, зубы стучали, выбивая рубленный, дырявый ритм – видимо, именно этот каменный стук и привел ее в сознание. А еще было очень холодно – мокро, скользко и леденяще холодно. Она провела ладонями по плечам, пытаясь хоть как-то унять дрожь, хоть как-то согреться, но ничего не помогало. Пришлось открыть глаза…
Она лежала на кровати, а прямо над ней нависало лицо. Она и не разглядела его сразу, только глаза – казалось, в них отражается весь свет, который еще можно выделить из ночи, с такой печалью, с такой тоскливой, преданной заботой они глядели на нее. Не отрываясь.
Во-Во сидел на стуле чуть сбоку от изголовья, согнувшись, в самой его позе чувствовалось напряженная усталость.
– Мне холодно, – прошептала Элизабет, втискивая тело еще глубже внутрь постели. – Я замерзаю.
– Я тебя укрыл одеялом, – ответили ей глаза, она смотрела только в них. – Ты дрожала, и я тебя укрыл одеялом. Но я могу принести еще плед. – Он почти уже поднялся со стула.
– Не надо, – пробормотала Элизабет. – Мне холодно. Ляг рядом. – И она двинула плечами, бедрами, отодвигаясь, освобождая место.
– Рядом? – неуверенно переспросили глаза, и в них стало еще больше тоски, печали, даже испуга.
Но Элизабет не ответила, она только смотрела на него и молчала. А потом веки ее отяжелели, набухли, прикрылись и лишь на ощупь, не надеясь на ускользающее сознание, Элизабет ощутила рядом большое, мягкое, упругое тепло – к нему можно было прижаться, уткнуться в него, впитать в себя, а вместе с ним хоть какое-то спокойствие, хоть какую-то надежду. Его оказалось достаточно, чтобы дрожь затихла, и рассыпанное в беспорядке тело вновь собралось воедино и добровольно отдалось сну. Наконец-то она уснула, не потеряла сознание, а уснула. Сон был наполнен яркими, нервными вспышками света – они были белыми с вплетенной в белое желтизной, но попадались и цветные, и Элизабет каждый раз вздрагивала, ее руки судорожно цеплялись за единственную опору и снова расслаблялись, когда спазм отпускал.
Вскоре вспышки стали рождать тени, среди них тоже попадались цветные, а потом и формы, очертания. Сначала что-то наподобие геометрических фигур, как будто она смотрит в медленно вращающийся калейдоскоп, но потом появились овалы, можно было различить глаза, подбородок, щеки. Сначала вдалеке, на большом расстоянии, но потом расстояние стало сглаживаться, все сошлось, стало близко, знакомо, понятно. Первый раз за долгое время.
– Понимаешь, Элизабет, я долго ждала, но время наконец подошло.
– Мама, – прошептала Элизабет. – Ты вернулась, мама. Я ждала тебя, я знала, что ты вернешься.
– Ну конечно.
– А зачем же ты лежала там, на столе, под белой простыней? – снова произнесла Элизабет.
– Под какой простыней?
– Ну там, на столе, в белой комнате, куда нас привезли с Во-Во.
– Ах там… – Мама улыбнулась. – Да я просто спала. Знаешь, я так устала, что просто заснула, где пришлось.
– А они сказали, что ты мертва, – удивилась Элизабет.
– Вот глупые. – Мама улыбнулась. Ах, как сразу стало хорошо от ее улыбки! – А я просто устала и заснула. А они придумали всякую ерунду. Смешно, да?
– Так значит, ты не умерла? – спросила Элизабет, заведомо зная ответ. И от него, от его очевидной простоты по телу растеклась теплая, сладкая волна. Элизабет сразу поняла: это и есть «счастье». И ничто другое счастьем быть не может.
– Конечно, нет, – ответила мама. – Глупенькая, как я могла умереть, я ведь еще совсем молодая. И я люблю тебя. Пока я тебя люблю, я не умру.
Тут Элизабет вспомнила про коричневое пятно на мамином виске, про его рваные, неровные края, про такие же коричневые точки, ведущие к нему, и теплая волна тут же рассыпалась на мелкие, колкие куски, оголив беззащитное тело.
– А это коричневое пятно у тебя на лице, сбоку? – произнесла Элизабет. – Откуда оно взялось?
– Какое пятно? – снова удивилась мама и снова улыбнулась. Элизабет показалось, что она шутит с ней.
– Пятно… Они сказали, что это след от выстрела, что тебя убили выстрелом в висок.
Тут мама уже не смогла сдержаться от смеха – такого заразительного, что Элизабет сама не выдержала и стала хохотать вслед за ней. Сладкая волна снова собралась, склеилась из только что разрозненных кусков и снова укутала тело заботливой теплотой.
– Они так сказали? – смеялась мама. – Неужели именно так? – не могла успокоиться она. – От выстрела… – Ее глаза лучились смехом, а еще любовью. Любовью к ней, к Элизабет. – И ты поверила? Ничего глупее они придумать не могли.
– Наверное, нет, – согласилась Элизабет. Сейчас она любила маму, как никогда не любила, никогда в жизни. Никого она уже не будет так любить, как сейчас она любит свою маму.
– Да я просто поранилась, поцарапалась немного, – продолжала смеяться мама. – Там был осколок, маленький камушек, кусочек щебня, я им и поцарапалась. Подумаешь, немного крови. А они сказали тебе, что это след от выстрела? Надо же такое придумать.
– Так значит, все, что они говорили, – неправда? – снова повторила Элизабет.
– Конечно, – кивнула мама.
– И все теперь будет как прежде? Ты будешь ждать меня дома, когда я возвращаюсь со школы, Во-Во будет работать в доме, и все будет как всегда?
– Вот об этом я и хотела с тобой поговорить, Лизи.
– О чем? – не поняла Элизабет.
– О том, что так, как было прежде, уже не будет.
– Почему?
– Понимаешь, все немного изменилось. Как тебе объяснить… – Мама задумалась. Она все еще улыбалась, но теперь задумчиво. – Помнишь, я тебе говорила, что мы с тобой – по сути одно целое. Что ты и я – это одно и то же. Что ты – продолжение меня, но и я – продолжение тебя. Просто мы продолжаем друг друга в разные стороны – ты продолжение вперед…
– В будущее, – стала припоминать Элизабет. – Да, ты так говорила.
– Ну вот, видишь, умничка, ты все помнишь, Лизи. Можно назвать это будущим и прошлым, хотя это и упрощение. Скажем, что мы просто продолжаем друг друга в разные стороны, тогда ведь вообще неизвестно, кто кого продолжает.
– Ну и что?
– А то, что теперь, когда меня нет, ты должна продолжить меня.
– Я не понимаю, – удивилась Элизабет. – Ты же говорила, что с тобой ничего не произошло, что ты просто спала.
Мама снова рассмеялась:
– Так и есть, я просто сплю. И ничего не произошло. Но только ты знаешь об этом, это для тебя ничего не произошло, и именно потому, что ты продолжила меня. Иными словами, ты стала мной. Понимаешь, я заснула, а ты стала мной.
– Я не понимаю… Что это означает? – Элизабет покачала головой.
– Это означает… – сказала мама и погладила Элизабет по щеке. Касание было щекотным, но и нежным одновременно, а главное – абсолютно реальным. Элизабет даже почувствовала тепло маминой ладони. – Это означает, Лизи, что в твоей жизни ничего меняться не должно. Просто теперь ты должна жить не только за себя, но и за меня тоже. Понимаешь, теперь ты должна объединить в своей жизни две – свою и мою. Тогда и получится, что я продолжусь в тебе. Ты ведь часть меня, помнишь? Ведь не случайно мы так похожи, ты будто копия меня в молодости.
– Я должна? – переспросила Элизабет.
– Нет, не должна, конечно. Ты можешь делать, как считаешь нужным. Но так было бы правильно, понимаешь?
– Значит, я должна жить твоей жизнью? – повторила за мамой Элизабет, но повторила вопросом.
– Не только моей – своей тоже, – улыбнулась мама. – Но и моей, ты ведь уже взрослая, ты сможешь понять меня. И все тогда сойдется и будет правильно. Ты поняла?
Элизабет кивнула.
– Конечно, ты же умничка, Лизи. Ты сама во всем разберешься и все сможешь сама отобрать.
– Что отобрать?
– Ну, что взять из моей жизни, что – из своей. Ты же умничка, ты разберешься.
Мамин голос вдруг отдалился, хотя лицо все еще оставалось тут, рядом.
– Хочешь, я тебя поцелую? – раздалось уже едва слышно.
– Да, – ответила Элизабет.
А потом она увидела мамины глаза совсем близко и тут же ощутила прикосновение губ, нежных, мягких, – они трепетали, вот и оставили на щеке мягкий, нежный, трепещущий поцелуй. Он так и остался на коже, не рассыпался, даже когда мама стала отдаляться туда, в туман, в темноту, и последнее, что Элизабет еще смогла увидеть, – была мамина улыбка, все понимающая, все прощающая. Вообще все!
– Но ты вернешься? – произнесла Элизабет в почти уже полную темноту.
– Ну конечно, – едва расслышала она из уже не существующего далека. И оттого, наверное, Элизабет открыла глаза.
Она лежала, не понимая, где сон, а где реальность. Может быть, эта незнакомая комната, едва подернутая дымкой смутного, едва дышащего рассвета, и есть сон? А то, что произошло во сне, – есть единственная реальность? Элизабет лежала на кровати и не могла понять. Мамин поцелуй по-прежнему тлел на щеке, казалось, его можно было потрогать, только поднеси руку. И оттого, что она только что видела маму, говорила с ней, чувствовала ласку ее руки, ее поцелуй, – от всего этого Элизабет стало хорошо, легко, как давно уже не было. Может быть, никогда прежде.
Она лежала, потерявшись между реальностью и сном, все смешалось, да и какая разница, в конце концов? Надо просто принять и не задаваться вопросами, не спрашивать себя, не сомневаться, а просто принять.
Важно только одно – она, Элизабет, теперь стала Диной. Это главное! Все, чем занималась Дина: ее заботы, желания, привычки, – все теперь должно продолжиться в Элизабет, ничего не должно измениться. И тогда сама жизнь не изменится, снова станет прежней, понятной. Вот, оказывается, как просто.
Голова немного кружилась, она была затуманена, как дымка утреннего рассвета, неуверенно, смутно разбавляющего темный воздух, выделяя лишь очертания вокруг, лишь контуры. Так же контурами из размытой перепутанной реальности выплыло лицо спящего мужчины.
Элизабет не сразу узнала его, даже поморщилась от напряжения. Но постепенно что-то знакомое проступило сквозь мутный рассвет, сквозь мутную память. Ах да, это же Во-Во. Вернее, Влэд. Ну конечно, Влэд! И она как всегда – как прошлой ночью и ночью раньше – пришла сюда, чтобы заниматься с ним любовью. Ей, Дине, нужно заниматься с ним любовью, это часть ее жизни, большая, важная часть. А ведь ничего не должно измениться – вообще ничего.
«Ничего не должно измениться», – зашевелились дрожащие, запекшиеся губы, так что она сама услышала шепот. Ей вдруг захотелось пить, сразу мучительно пересохло в горле, казалось, что вспухли, потрескались губы, ей надо было бы встать, найти воду, но она не встала. Она не могла разрушать зыбкое, едва подрагивающее соединение нереальности и яви, это чуткое состояние забытья, неосознанности и одновременно ощущение живой, отчетливой осязаемости. Как будто все ее органы существуют, чувствуют, откликаются на окружающий мир, но сам мир не конкретен, нереален, размыт, покрыт скользкой, сглаживающей пеленой. И с ним не надо спорить, не надо ему возражать, надо просто принять его.
И единственное, что ей оставалось, – это придвинуться ближе к спящему рядом мужчине, подтянуть свое тело чуть выше, так что ее лицо оказалось на уровне его лица, губы – на уровне его губ, а потом и оставшееся, бессмысленное расстояние исчезло, было измельчено в труху, в ничто.
Какие же у нее все-таки горячие, болезненно чувствительные губы! Как их саднит, как они ноют, как тяжело, мучительно дается это касание. А он как спал, так и спит, только вздохнул тихонько. Но это даже хорошо, что он не проснулся, ведь в конце концов так и осталось непонятным, где настоящий мир – во сне или здесь, среди ощутимых вещей и движений? А может быть, смешение яви и сна и есть единственная правда?
Ее ладонь легла на его лицо, узкая кисть с длинными, тонкими пальцами очертилась на большой, широкой, неровной щеке. Их несоответствие даже в смутном, рассыпанном в воздухе рассвете поразило Элизабет, грубая, дубленая кожа резко контрастировала с ее кожей, тонкой, мраморной, почти прозрачной.
Губы стали настойчивее, несмотря на боль, несмотря на вспухшую, зудящую тяжесть, они пытались войти, проникнуть внутрь, разобрать его рот на части. Жажда не отпускала, она разрасталась, пыталась завладеть всем телом, она бы и завладела, если бы он вдруг не вздрогнул и не открыл глаза.
Прошло несколько мгновений, он тоже, видимо, пытался осознать реальность, разобраться в ней. Потом он дернулся, постарался отстраниться, глаза испуганно забегали, рот Элизабет наполнил плотный воздух – наверное, он пытался что-то произнести. И она тоже прошептала туда, внутрь, в его тяжелые, неловкие, неудобные губы:
– Влэд, это я, Дина. – И снова, то погружаясь глубже, то всплывая на поверхность, она повторила: – Это же я, Влэд, я вернулась, ты ведь узнаёшь меня. Все будет так, как всегда, ничего не должно измениться… – Она сбилась, дыхание, слишком неровное, глубокое, как будто оно поднималось прямо из легких, мешало словам. Навстречу она почувствовала его дыхание, такое же неровное, нервное, набитое упругим воздухом. – Все будет как всегда, я вернулась, слышишь…
Его губы тоже начали шевелиться, смешно, непривычно; их движения обратились в слова, казалось, их можно было проглотить, не выпускать наружу, но они все же вырывались. Они несли недоумение, страх, растекающийся по воздуху ужас.
– Лизонька, девочка, ты что? – Он упирался руками в ее плечо, пытаясь оттолкнуть, отодвинуть ее от себя. Удивительно, как мало сил оказалось у этого взрослого мужчины, его вялому напору было легко противостоять. – Ты что?! – повторял он, – Ты что?! Я не могу! – и так и не сумел от нее отстраниться ни губами, ни телом.
Она без труда сломила его, навалилась всем телом, придавила, смяла его лицо, рот, губы, которые все еще пытались шептать. Она переломила их, переборола своими губами, своими словами, тоже твердившими одно и то же:
– Я не Лизи, ты понимаешь? – Длинные паузы разделяли каждое слово, все размылось окончательно, грань реальности, беспомощно мотающаяся где-то поблизости, сжалась, отступила, погрузилась в липкую, тягучую паутину, из которой не было ни возможности, ни желания выкарабкаться. Оставалась лишь одна цель – продолжить прошлое, сделать его настоящим, – и она единственная имела хоть какой-то, пусть и исковерканный, смысл. – Я не Лизи, я Дина…
Я вернулась… Мы должны делать то, что делали раньше… Иначе все нарушится… А мы не должны нарушать…
Он отталкивал ее неуклюже, беспомощно и продолжал бормотать что-то про «невозможно», про «так нельзя», про «неправильно».
– Не надо… не надо… Что ты делаешь! – Шепот едва пробивался к ней.
Но она делала. Она уже сидела на нем и стаскивала, стягивала вниз его пижамные штаны, а он продолжал размахивать руками, но уже не отталкивая ее, даже не пытаясь.
– Ты не можешь, не должна. Это неправильно… – Он смотрел на нее снизу расширенными глазами, полными привычной жалостливой теплоты, и глаза противоречили словам, в них вперемешку со страхом читалось желание. Они хотели ее, не могли не хотеть. Даже приоткрытый рот, даже обычно узкие губы обрели выпуклость.
– Да что ты, не бойся, перестань, – бормотала она, возясь на нем. – Я же говорю, все должно продолжаться. И я не Лизи, я Дина, не смей называть меня Лизи.
Она так и чувствовала себя, именно своей матерью. Резкое беспрекословное чувство наполнило ее – она сейчас и есть Дина, сейчас особенно. Взрослая, опытная, уверенная, она намного сильнее этого жалкого, с трясущимися губами и руками мужчины. Который и хочет и боится, и пытается оттолкнуть и не может отказаться. Наконец-то она поняла, почему ее мать приходила сюда, – с ним она становилась хозяйкой, повелительницей. А он лишь податливый инструмент, лишь исполнитель.
И она зацепилась пальцами за подол тонкой майки и одним резким движением стянула ее с себя. Она возвышалась над ним, глядя в его полные жалкого ужаса глаза, и исступленно повторяла лишь одно:
– Посмотри, посмотри… Я и есть Дина… Только моложе… Посмотри, разве я не похожа, разве ты не узнаешь?.. Посмотри…
И наконец он сдался, закивал, перестал отмахиваться, зашептал в ответ:
– Да… Конечно… Моя девочка… – И глаза его, и без того растекающиеся, поплыли еще сильнее от очевидной набегающей влаги. – Конечно… Делай что хочешь… если ты так хочешь, если ты… – Он не договорил, и глаза закрылись, и только круглые капельки выдавились из-под ресниц.
…А потом произошло что-то совсем необъяснимое, непонятно, что творили ее неловкие, торопливые руки. Она и не чувствовала ничего, только необходимость, только предназначение, все окончательно закачалось и потеряло опору, она перестала сознавать себя в тонком, рвущемся то тут, то там рассвете, она стала частью его загрязненного света, его запахом, стала еще одной рассеянной, мутной частицей.
Что-то попалось под руку, что-то крепкое, будто освобожденный из-под земли корень дерева, только живее, теплее, оно горячило, обжигало непривычную, неподготовленную ладонь. Она знала, что делать, но знание это было не приобретенным, а врожденным, инстинктивным, будто вошло в нее вместе со знанием другой женщины. В нем не надо было разбираться, а просто следовать ему не переча.
Она отжалась коленками вверх и, отодвинув рукой сдавливающую материю под юбкой, оттуда, сверху, стала опускаться медленно, осторожно, будто делала это не раз, измеряя расстояние на ощупь. Нет, она не чувствовала ни прикосновения, ни теплоты, ни скользкой, стекающей с ног холодящей сырости – она ничего не могла чувствовать именно потому, что ее самой не было ни в этой комнате, ни вообще в мире – ни слуха, ни обоняния, ни зрения. Единственное, что она еще могла ощутить, – это боль, и она вскрикнула именно от резкой, корежащей изнутри боли, но недолгой, почти мгновенной, а потом сразу ушедшей внутрь и затаившейся там рваным жжением, которое должно было досаждать, но не досаждало. Потому что именно в это мгновение все вокруг вспыхнуло, разорвалось и разлетелось на горящие, ослепительные, палящие куски, которые взмывали вверх, разбивались там вдребезги, расщеплялись на множество переплетенных лучей и так, хаотично, без какой-либо системы отдалялись и не пытались возвращаться.
И она перестала существовать! Перестала быть!
Она стала этими искрящимися вспышками света, взметнувшимися вверх, стала каждой из них в отдельности и всеми вместе, она кружилась с ними завихряясь, устремляясь вверх. Да, она утратила плоть, трехмерный человеческий облик, примитивное свое сознание, у нее исчезли, пропали все земные, ничтожные чувства – она стала светом, сконцентрированными лучами, стремительно, без труда пробивающими легкий, податливый воздух, и лучи, не сдерживаемые ничем, вырывались сначала за пределы комнаты, потом за пределы лужайки, за пределы рассвета, ночи, космоса. Она была именно там, «за пределами», и несла лучами, их перемешанным цветовым сочетанием зашифрованный смысл, мысль, идею, которые сама не могла, не умела разгадать.
И только когда мысль была распространена, передана, лучи стали терять скорость, стали затихать вместе со вспышками и в конце концов осыпались горячим, дотла прогоревшим пеплом. Из которого у нее не было сил составлять себя заново.
Потом, когда Элизабет очнулась и зрение, слух, осязание снова стали частью ее, и окружающий мир начал вмещаться в реальность, и вернулась возможность его принять и оценить, она вдруг ощутила спокойствие и уверенность. Все подтвердилось, все, что говорила мама, оказалось доказанным. Она действительно стала ее продолжением, потому что та, прежняя Элизабет не могла, не умела так глубоко чувствовать, так тонко переживать, так легко подчинять себе мужчину, так умело срывать завесу с окружающего мира, обнажать его до мякоти, до нервов, до полного отсутствия смысла. Та, прежняя Элизабет, не наделенная женским даром, не умела ничего – ведь она пробовала, но у нее не получилось.
Зато получилось у новой Элизабет. И так теперь будет во всем, она станет контролировать жизнь со знанием и умением взрослой женщины, которой стала. Но и прежнюю, девичью жизнь она тоже проживет полностью. Она нашла баланс. Все уметь, знать, подчинять себе, но и не упустить ничего – кто еще может добиться такого баланса?
Элизабет попыталась сосредоточиться, выйти за пределы расплывшихся, набегающих друг на друга теней. Оказалось, что она лежит, придавив головой руку, прямо перед ней – подушка, с ее выпуклой линейной расцветки смотрят глаза, внимательные, как всегда, полные печали, тоски и главное – чувства. Но нет никакого желания разбираться в нем.
«Мама его никогда не любила, – вдруг догадалась Элизабет. – Она просто использовала его, он был нужен ей для физического удовлетворения. По сути, она использовала его, но никогда не любила, поэтому он и не переехал в дом, а продолжал жить в коттедже. Она так и не смогла сделать его равным себе. И я не смогу. Я, как и она, буду получать от него то, что мне надо, он будет доставлять мне удовольствие, но не более того. Я, как и она, никогда не полюблю его».
Элизабет снова задумалась, все так же не произнося ни слова, все так же вглядываясь в глаза, которые молчаливо вглядывались в нее.
«Но мне было хорошо с ним. Я и не знала, что бывает так хорошо. Мне открылось запредельное, суть вещей, устройство мироздания. Можно ли получить удовольствие от мужчины и не любить его?»
Она снова задумалась, не отводя своего взгляда от его глаз.
«Наверное, можно, – ответила она. – Это мама наделила меня умением его чувствовать, наделила своей привычкой. Поэтому так и получилось».
Взгляды сцепились, переплелись, входя один в другой.
«Интересно, о чем он сейчас думает? Похоже, я никогда не узнаю, как и он никогда не узнает, о чем думаю я».
Элизабет закрыла глаза, потом открыла, снова поймала его взгляд.
«Все продолжится и будет, как при маме: он будет жить здесь, а я буду к нему приходить, как это делала мама, – не каждый день, а только когда мне потребуется. Он будет работать в доме, и ничего не изменится, вообще ничего».
– Девочка, моя бедная, несчастная девочка, – прошептали близкие губы на подушке и тяжело вздохнули.
Элизабет промолчала, она не чувствовала себя ни бедной, ни несчастной – все стало правильно, все заняло свои места.
– Ты и вправду, как твоя мама, – глаза моргнули, – как Дина. – Губы замолчали, потом проговорили вновь: – Я всегда любил твою маму, я боготворил ее. – Снова пауза. – Я всегда любил тебя. И всегда буду.
Элизабет не знала, что ответить, и не ответила ничего. И только когда рука его, опустившись откуда-то сверху, мелькнула перед глазами и слишком большими, жесткими пальцами дотронулась до ее щеки, она вздрогнула и скорее инстинктивно, чем умышленно, покачала головой.
– Не надо, – сказала она и как бы в подтверждение слов отстранила его руку. Движение окончательно вернуло ее в действительность, в тихую комнату, наполненную уже окрепшим, побелевшим рассветом, и тут она почувствовала зудящее жжение вверху ног, от него сразу стало болезненно неприятно. Она опустила руку вниз, там было скользко и липко, настолько противоестественно липко, что пальцы отдернулись непроизвольно.
Элизабет поднесла руку к глазам, посмотрела. И пальцы и сама ладонь были измазаны темно-красным, как будто краской, она четко выделялась на белизне ладони. Ничего не понимая, не в силах сдержать мгновенно накативший испуг, Элизабет резко поднялась, села на кровати, раздвинула ноги, согнулась дугой, чтобы лучше разглядеть. Там все было в крови – белые, все еще сдвинутые трусики уже не были белыми, и внутренняя сторона бедер, и даже ниже, почти у колен, – все было замазано темно-красным, как будто небрежно провели кистью с неровными, рваными краями.
Испуг разросся, перешел в мгновенный ужас: «Откуда, почему?.. Неужели меня тоже, как маму? И я сейчас умру, как она?» Сразу стало подташнивать, закружилась голова.
– Так у тебя никого не было, – раздался близкий, щекочущий дыханием голос, и тут же ужас рассеялся, разлетелся на мелкие, ничего не значащие кусочки. Элизабет рухнула вниз, на кровать, повернулась спиной к голосу, закрыла глаза. Лежала без мыслей, без движения, прислушивалась к себе.
«Вот видишь, я тебе обещала, – прозвучал теперь внутри ее женский голос. – Теперь ты женщина. И с тобой произошло то, что происходит всегда, когда девочка становится женщиной».
– Так я у тебя был первым, – продолжал мужской голос с усиленной заботой. – Почему ты не сказала, не предупредила? Я бы тогда…
Но она перебила его:
– Да совсем ты не первый. У меня уже было.
– Откуда же тогда кровь?
– Да просто так получилось, – ответила она сначала ему, а потом себе. – Просто так получилось. Подумаешь, еще не такое бывает.
Потом она встала, там же, в комнате, сняла трусики, оставила их на полу, прямо на середине, не притрагиваясь к ним больше, и пошла в ванну, где сначала долго отмывала себя, а потом просто стояла под напором теплой воды.
Струи били сверху пытаясь окутать и согреть, а Элизабет все повторяла: «Надо же, как получилось…» – и не могла согреться.
Когда она вернулась, Влэд по-прежнему лежал на диване, трусиков на полу почему-то не было. Элизабет остановилась в ярде от кровати.
– Все остается как прежде, – проговорила она и удивилась уверенности своего голоса. – Ты, Влэд, продолжаешь работу, я занимаюсь своими делами, ты в них не вмешивайся. Я буду приходить к тебе, когда нужно будет.
Она постояла, соображая, что бы сказать еще, но ничего не придумала. Он тоже молчал, только смотрел на нее, ей даже стало неприятно от его пристального, проникающего внутрь взгляда. Она повернулась и вышла, и входная дверь, мягко пружиня, захлопнулась за ней.
Дину похоронили на следующий день. Несмотря на тихую, незаметную жизнь, которую она вела, на кладбище собралось много народу – весть о том, что Дину Бреман, приветливую, симпатичную, молодую женщину, нашли в лесу в собственной машине с простреленной головой, взбудоражила весь городок. Люди подходили к овдовевшему супругу, выражали соболезнования, вздыхали. «Как несправедливо повернулась к ней судьба, – говорили они, – только жизнь стала налаживаться, только Дина обрела долгожданное счастье, и вдруг такая трагедия. Ужасно! И надо же, в нашем городе, где ничего подобного никогда не происходило!»
Влэд кивал, вздыхал в ответ, опускал тихие, полные печали глаза, снова вздыхал.
Подходили и к Элизабет, жалели, пытались поддержать, говорили, что если понадобится помощь, чтобы она не стеснялась, обращалась. Элизабет тоже кивала, благодарила тихим, полным скорби голосом, заглядывала в глаза каждому из присутствующих. Она была уверена, что тот, кто убил маму непременно должен быть здесь, на кладбище. Когда ее оставляли в покое, она начинала пристально осматривать толпу, выделяя по отдельности каждого из присутствующих, особенно мужчин, всматриваясь в лица, пытаясь найти что-нибудь подозрительное – улыбку или скользкий, бегающий взгляд, а может быть, и потаенный интерес к ней самой. Но ничего подозрительного она так и не обнаружила – многие смотрели на нее, в глазах читалось сочувствие, а отличить искренность от фальши Элизабет не умела.
Церемония заняла час-полтора, не более. Разные люди по очереди говорили приблизительно одно и то же – что Дина была очень приятной, положительной женщиной, что ее жизнь была посвящена дочери и семье и как обидно, что судьба обернулась к ней трагически несправедливо. «Но главное, – заканчивали они на оптимистической ноте, – что жизнь продолжается и Дина тоже продолжается в своей дочери. Посмотрите на Элизабет, она достойна своей матери – чудесная, замечательная девушка растет, и красивая, и умная, и воспитанная».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































