Текст книги "Гарвардская площадь"
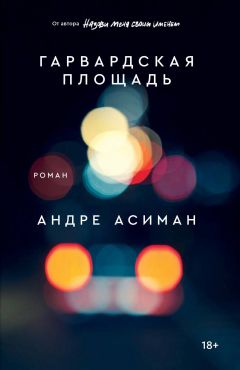
Автор книги: Андре Асиман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Обычно, досидев на крыше до часу дня, я достаточно заряжался энергией, чтобы почитать этак часик у себя в квартире. Мне нравилось, что внутри темно и попрохладнее. Потом я отправлялся в библиотечку, где работал, – и там читал дальше. После бродил вокруг Гарвардской площади в поисках еще какого-нибудь места, лучше всего – зала в кафе, за ним следовало еще одно место, иногда и еще, а потом я ложился спать.
Прямо сейчас от стихий меня отделял вентилятор в кафе «Алжир» – так же как от моего лишенного кормила лета меня отделяли два тома «Опытов» Монтеня, которые я обещал Ллойд-Гревилю прошерстить, опыт за опытом. А после этого перечитать Паскаля. Что до новелл, вышедших из-под пера самых недалеких лавочников Европы, я решил применить к ним ими же задекларированный метод: как придется.
В кафе «Алжир» можно было проваландаться хоть целый день. То было крошечное тесное полуподвальное заведение на Гарвардской площади, куда вмещалось не больше дюжины колченогих столиков – выглядело оно как миниатюрная касба, что вот-вот прольется на пол. Как они умудрились втиснуть столько узких шатких столиков, стульев, гигантский старомодный автомат для эспрессо плюс кухню в одну десятую необходимого для этого пространства, постигнуть я был не в силах. Видимо, владелец был инженером по образованию, успевшим потрудиться еще и поваром, кассиром, официантом и посудомойкой. Здесь подавали кофе, соки, лепешки с начинкой, пирожные. В хорошую погоду «Алжир» развертывал еще и крошечную зону alfresco, на такой с виду как бы террасе, которая на самом деле была узким проходом между Брэттл-стрит и баром «Касабланка», на пути к Маунт-Оберн-стрит. Люди часто ставили свои машины прямо за баром.
За все выходные я ни словом не перекинулся ни с единой душой. На дворе воскресенье, все закрыто, я блуждал из одной кофейни в другую. Уже давно перевалило за полдень. Еще один такой же знойный уик-энд – и я увяну, и никто меня не хватится, никто и знать-то не будет. Я поймал себя на том, что думаю про парочку из Квартиры 43. Она сказала: к ним придут гости на ужин. Гаспачо, бараньи отбивные и бог ведает что еще – вино, вечное вино. Он любит готовить. Она любит британских прозаиков. После ужина они будут мыть и вытирать посуду на кухне, он игриво толкнет ее бедром в бедро – я однажды уже видел, как он это проделывает внизу: он стоял с ней рядом, а она страшно копалась, опустошая почтовый ящик. Зачем он ее толкнул – в шутку или просто чтобы сказать: «Давай поживее!»? На их почтовом ящике значились две фамилии. Скоро будет одна.
В тот день я читал «Апологию Раймунда Сабундского» Мишеля Монтеня, сидел в относительно тихом уголке кафе «Алжир» и пил кофе со льдом, которое рассчитывал растянуть как минимум на два с половиной часа. Смаковать напиток – это одно. Смотреть, как тают кубики льда и он, разжижаясь, превращается в бесцветный суп, а ты при этом делаешь вид, что у тебя все еще осталось полстакана, – это все равно что пытаться сохранить снег на полярных вершинах с помощью бумажного веера.
И тут я услышал его голос. Он сидел за столиком неподалеку и говорил по-французски. Поправка: не говорил. Он не умел говорить: он строчил из пулемета, выпускал то короткие очереди, то подлиннее. Тра-та-та. Дерганые, прерывистые, безумные, перескакивающие с предмета на предмет – неважно какой, главное – не останавливаться. Тра-та-та, будто блендер перемалывает осколки стекла. Тра-та-та, как отбойный молоток, бензопила, электродрель – каждый слог напитан ядом, яростью, неприятием.
Я понятия не имел, кто он такой, о чем именно говорит, почему говорит все громче, но в этом полуподвальном кафе тихим воскресным днем середины лета это был единственный голос, который было слышно.
– Oui, oui, oui – тра-та-та. Bien sûr, bien sûr – тра-та, тра-та-та. Et pourquoi pas?[1]1
Да, да, да… Конечно, конечно… А чего нет-то? (франц.)
[Закрыть] – тра-та-та-та?
Длинные фразы, произнесенные с точностью выстрелов в цель; вокруг него расположились сигареты, салфетки, спички, дешевая зажигалка, ключи от квартиры, ключи от машины, мелочь, оставшаяся от предыдущей чашки кофе, прежде чем он надумал заказать вторую, а потом и третью, – мусор, беспорядочно раскиданный по столу, точно гильзы, выплюнутые его истерическим автоматом. Тра-та-та, которыми он ниспровергал цивилизации, западную и восточную, без разбора, обе терпеть не могу, капиталистов и коммунистов, либералов и консерваторов, Старый Свет, Новый Свет, Лигу Наций, Арабскую лигу, Лигу женщин-избирательниц, Католическую лигу, Великую китайскую стену, Берлинскую стену – все на снос! Белых, черных, мужчин, женщин, евреев, геев, лесбиянок, богатеев, бедняков, кошек, собак – песчаная буря проклятий на явственно североафриканском французском: так в сонный средиземноморский полдень цикады топят все прочие звуки в шершавом трении своих задних лап.
В данный момент он бушевал по поводу белых американцев – les amerloques, как он их называл. Зажравшимся американцам все подавай в виде эрзаца, говорил он. Ни одна белая американская домохозяйка не устоит, если ей предложат нечто искусственное за половинную цену при условии, что покупаешь в пять раз больше, чем тебе надо. Их континентальный завтрак – эрзац для зажравшихся, их безразмерный стейк на ужин с этими ешь-сколько-влезет салатами – эрзац для зажравшихся, их кофейные кружки – пей-сколько-хочешь, доливай бесплатно, их ополаскиватель для рта из искусственной мяты, к которому бесплатно прилагается несколько зубных щеток, их машины, торговые центры, университеты, даже эти их монструозные телевизоры и выпендрежные широкоэкранные эпосы – все это эрзацы для зажравшихся. Американки с их грудными имплантами, переделанными носами и круглогодичным загаром – зажравшиеся эрзацы. Американки с грудями поменьше, контактными линзами, аэрозолями для рта, аэрозолями для волос, аэрозолями для носа, аэрозолями для ног, аэрозолями-одеколонами, вагинальными аэрозолями – такой же эрзац, что и их зажравшиеся сестры. Американки, у которых вся радость – подыскать мужчину, с которым можно поговорить в переполненном кафе в середине летнего дня в Кембридже, штат Массачусетс, тоже рано или поздно оказываются зажравшимися эрзацами. Их тощие веснушчатые отпрыски-трехлетки, которых кормят пресным, эрзац-безвкусным эрзац-белым хлебом и укутывают в синтетическую, безразмерную, нелиняющую одежду массового, поточного, конвейерного производства, – такой же безвкусный эрзац, как и их дебелые, рослые, откормленные на фастфуде здоровенные мужики-футболисты в огромных ботинках, с увеличенными пенисами и мощными восьмикубиковыми, похожими на стиральную доску брюшными прессами, в которых воплощена сущность всего, что есть зажравшегося и синтетического на этой богом забытой планетке.
Это, как я вскоре убедился, представляло собой его стандартный репертуар во всех случаях, когда ему удавалось заарканить слушателя. Он начинал с Первого мира, добирался до Второго, потом до Третьего, пока не изничтожит всех находящихся в виду голозадых дикарей из тропического леса и не бросит уцелевших на растерзание гуннам, где им, собственно, самое место, или османам, которые уж придумают, как с ними поступить, или, хуже того, иезуитам, которые пропоют молитву, прежде чем сжечь их заживо и превратить их детишек в миссионеров.
Ему вряд ли кто дал бы больше тридцати четырех: на нем была линялая камуфляжная куртка со множеством карманов, и он с магрибским акцентом обращался к бородатому студенту-американцу, явственно пытавшемуся закосить под Хемингуэя. Американец время от времени решался вставить какую-нибудь блеклую банальность на приемлемом французском, пока Рот-Пулемет переводил дух и неспешно отхлебывал из кофейной чашки, которую держал за бортик, ибо ручка на ней отсутствовала.
– Не следует обобщать всех американцев, – заметил Молодой Хемингуэй, – равно как и утверждать, что все женщины такие или вот такие. Каждый человек уникален и самобытен. А еще я не согласен с тем, что вы говорите про Ближний Восток.
Пулемет откинулся на спинку стула, сворачивая дцатую самокрутку, облизал пропитанный клеем край завертки, прежде насыпав в середину табака, и, точно ковбой, только что прокрутивший барабан револьвера, после того как тщательно его зарядил, ткнул в опешившего юного американца вытянутым указательным пальцем, едва не коснувшись его виска: того еще явно никогда не тыкали в голову пальцем, а уж заряженным револьвером и тем более.
– Вы только то и знаете, что несется из ваших газет и вашего сыраного телевизора. А у меня свои источники.
– Какие источники? – понаведался бородатый американец, который начинал напоминать оробевшего пророка, надумавшего пререкаться с Самим Господом Богом.
– Другие источники, – отрубил североафриканец. Возможности переспросить молодому человеку не выпало – снова, будто в первый раз, раздалось хорошо смазанное, пригнанное, заново собранное и заряженное, громче и отчетливее прежнего: тра-та-та-та-та-та-та-та.
Я и раньше не раз слышал его голос в кафе «Алжир», но в это воскресенье, сильно за полдень, отрывистую дробь его речи просто невозможно было игнорировать. Я понял: он сознает, что на него смотрят. Он делал вид, что не замечает, но было ясно, что он тщательно подбирает слова и старательно разыгрывает спектакль, точно человек, который, беседуя с вами, поглядывает через ваше плечо в зеркало у вас за спиной, чтобы удостовериться, что у него волосы не растрепались. Речь его сделалась чуточку слишком старательной, такими же были и жесты, и форсированные раскаты взрывного несдерживаемого смеха. Ему явно льстило, когда окружающие гадали, кто он такой. Я в жизни еще не видел ничего подобного. Примитивный – и при этом полностью цивилизованный. Он в аристократической манере закинул ногу на ногу – при этом вид, одежда, волосы выдавали этакого бандюгана.
Вдруг голос его зазвучал снова. Тра-та-та.
– Американки как прекрасные поместья с прелестными интерьерами и дивными произведениями искусства, но только там свет погашен. Американцы не рождаются, их производят. Форд-эрзац, крайслер-эрзац, бьюик-эрзац. Я всегда знаю заранее, что скажет американец, потому что они мыслят одинаково, говорят одинаково, трахаются одинаково.
Молодой Хемингуэй выслушивал эту тираду, пытаясь тут и там ввернуть словечко, дабы придать диатрибе осмысленность, однако остановить поток инвектив, вылетавших, будто пули из автоматного магазина, представлялось невозможным. Скорострельный автомат Калашникова, Солдат Джо прячется за бруствер, пули свистят над головой, под ногами рвутся закопанные в землю мины, вокруг повсюду – бессмысленные разрывы и очереди. Отволтузив слабый пол, он переключился на человеческую алчность, мормонов, официантов-мексиканцев, которые по причине нищенской зарплаты воруют еду, стоит владельцу заведения отвернуться, потом досталось НАТО, ЮНЕСКО, Набиско, Чаушеску, Табаско, Ламбруско и еще невесть кому – все они бесспорные и бесстыдные признаки того, что мир обезумел и превратился в полный эрзац. В жизни своей не слышал столь оголтелого агитпропа. Американского президента он обозвал le Boy Scout.
– Итальянцы все бессовестные хапуги. Французы готовы продать своих матерей с женами и сестрами в придачу, но первым делом они вам продадут своих дочерей. Что до арабов, нам куда слаще жилось под колонизаторами. Единственный, кто хоть что-то понимал в истории, это Нострадамус.
– Кто?
– Нострадамус. – За именем последовала литания из катренов, предрекающих одну катастрофу за другой. – Нострадамус и миф о вечном возвращении.
– Вы имеете в виду Ницше.
– Я же сказал: Нострадамус.
– А откуда вы знаете про Нострадамуса?
– Откуда я знаю! – возмутился он риторически. – Знаю – и все, oké? Или научить вас всему, что я знаю?
Я так и не понял, что это: дружеское подначивание или комическая перепалка, готовая перерасти в настоящую свару, то ли высокооктановый Макбет, то ли сомнамбулическое бормотание Владимира и Эстрагона.
Настал момент, когда я не выдержал. Встал и подошел к их столику.
– Простите, невольно вас подслушал. Вы здесь учитесь? – спросил я по-французски.
Никакого ответа. Лишь неприветливое качание головой, а сразу следом – этот его зловеще буравящий взгляд, в котором кроется вопрос: «А если и да, оно тебя вообще касается?».
Я хотел пояснить, что уже двое суток не говорил ни с одним человеком, тем более по-французски, а с Квартирами 42, 21 и 43 обменивался лишь взглядами издалека, и, если честно, сидеть каждый день на крыше губительно для души, а есть в одиночестве ничем не лучше, не говоря уж об этой водянистой жиже, которую они тут называют кофе. Но сносить повисшее молчание было тяжело, потому что сопровождалось оно откровенно враждебным взглядом. Я приготовился было извиниться и откланяться, сказав, что не хотел прерывать их разговор, думая про себя, что нужно было соображать, прежде чем кидаться к совершенно незнакомым людям и рассчитывать на непринужденную беседу с бандюганом и его приспешником.
Прежде чем вернуться к своему столику, я неожиданно обронил:
– Простите, что побеспокоил. Просто очень хотелось поговорить с французом.
Еще один взгляд.
– Это я-то француз? Ты чего? Совсем ослеп? Или оглох? С моей-то берберской шкурой? Сюда смотри, – с этими словами он ущипнул себя за предплечье. – Это, друг любезный, не французская шкура. – Можно подумать, я его обидел. Он явно гордился своей берберской кожей. – Это тебе цвет золота и пшеницы.
– Простите, ошибся.
Я твердо решил вернуться к своему столику и взяться за Монтеня, которого оставил лежать корешком кверху.
– А сам-то ты француз? – осведомился он.
Я не сдержался.
– С моим-то носом?
Он со мною явно забавлялся. Я знал, что он не француз, как и он наверняка с первых же слов догадался, что я не француз. Мы оба вроде как давали друг другу возможность подумать, что способны сойти за французов. Невысказанный комплимент, который в обоих случаях достиг цели.
– Ежели не француз, чего же по-французски говоришь?
Ответ на этот вопрос знает каждый человек, родившийся в колониях. Он явно забавлялся.
– По той же причине, по какой вы говорите по-французски, – ответил я.
Он расхохотался. Мы прекрасно друг друга поняли.
– Еще один из наших, – пояснил он Молодому Эрнесту, который все пытался допетрить, в чем может состоять роль Нострадамуса в сложных современных геополитических конфликтах.
– Это вы про что – «один из наших»?
– Il ne comprend rien du tout celui-là, этот тип вообще ни во что не врубается, – заметил он, и в голосе потрескивала привычная насмешливая враждебность.
Мы представились.
– Меня можешь звать Калаж, – сказал он, как будто соглашаясь на общепризнанное прозвище, которое и сам предпочитает собственному имени, однако в голосе его был скрытый намек на то, что Калажем его можно звать «пока» – то есть до того, как он узнает тебя поближе.
Он здесь всего полгода. До того жил в Милане. А теперь дом здесь.
Он швырнул в меня слово по-арабски.
Я швырнул обратно другое.
Мы расхохотались. Мы не испытывали друг друга, скорее прощупывали почву, получится ли перекинуть по ней хлипкий понтонный мостик.
– Выговор безупречный, – прокомментировал он. – Пусть и как у араба-египтянина.
– А ваш определить непросто.
– Я редко говорю по-арабски, – пояснил он, а потом спросил: – Еврей?
– Мусульманин? – откликнулся я.
– Все вы, евреи, такие: вместо ответа – вопрос.
– Все вы, мусульмане, такие: отвечаете на вопрос, но не тот.
Мы оба покатывались со смеху, а Молодой Хемингуэй растерянно на нас таращился, явно ошалев от наших подначек и псевдорелигиозных оскорблений.
– Зачем лавочник-араб купил у еврея пятьдесят пар джинсов?
– Понятия не имею.
– Потому что Исаак пообещал Абдулу купить их обратно за более высокую цену.
Хохот.
– А с какой стати Исааку покупать их обратно?
Ответа на это я тоже не знал.
– Потому что араб согласился продать их за полцены.
– И что, араб потом еще покупал джинсы у еврея? – осведомился я.
– Всю дорогу! Джинсы, видишь ли, были египетского производства и обходились арабу в малую долю того, что еврей заплатил за них изначально.
Мы покатились со смеху.
– Ближний Восток! – заявил он.
– В каком смысле «Ближний Восток»? – поинтересовался сбитый с толку Хемингуэй.
Калаж сделал вид, что не услышал вопроса.
– Ты тут ждал кого? – понаведался он.
– Нет, просто читал.
– Сколько вон уже часов читаешь. Давай, присаживайся к нам, поболтаем. И книги свои тащи.
Выходит, он давным-давно обратил на меня внимание. Рассказал мне про свое такси. Я рассказал про грядущие экзамены. Мы беседовали. Беседа – это то, чем у людей принято заниматься в обществе друг друга, это естественный процесс. По воскресеньям в середине дня люди беседуют, смеются, пьют кофе. Я почти позабыл, как это делается. Я и оглянуться не успел, а он уже заказал нам всем троим по кофе.
– Беседа – дело хорошее, но должен же кто-то заказать кофе, – заметил он.
Этими тремя чашками – а произошло это так быстро, что я и заметить-то не успел, – он, похоже, меня поприветствовал. А это феерическое существо не лишено доброты, подумал я. При этом он лукавый, вздорный и ненормальный. Держись от него подальше.
А я вот совсем не такой. Интерес к другим людям рождался у меня вполне естественным образом, однако окольным путем, с таким количеством поворотов, препятствий, сомнений и отступлений, что на полдороге к дружбе во мне неизменно поселялись растерянность и разочарование, и какая-то часть души попросту говорила: хватит.
Калаж продолжал громить американок. Рассказал неприличный анекдот про араба, которого арестовали и отмутузили в полиции за то, что он взгромоздился на обнаженную блондинку, загоравшую на пустом пляже в Северной Африке. Его заковали в наручники, накостыляли ему еще и обвинили в осквернении трупа: «Ты что, не видел, что она мертвая?» – орет один из полицейских, а араб только тем и может оправдаться, что орет в ответ: «Гражданин начальник, я думал, она американка».
Калаж указывал пальцем на посетительниц кафе. Вон та с ним больше не разговаривает, потому что он отказался предохраняться. Вон та, которая со своим ухажером, однажды его отшила так: «Пожалуй, к вам я недостаточно расположена». Он в жизни еще не слышал подобной эрзац-говорильни и нам эти слова повторил так, будто выпевал какое-то инопланетное ритуальное заклинание: «Пожалуй, к вам я недостаточно расположена». На его зачаточном английском в этой фразе вдруг всплыло то, что она содержит на самом деле: паточная пустота, искусственность, в которой подлинной страсти и эротики – как в куске клеенки или пластмассовой столешнице. Он указал на высокую стройную красотку со сногсшибательной фигурой.
– Она думает, я с ней сейчас заговорю, но я за ней следил: то и дело шастает в сортир. Жить не может, не посещая туалета. Нужна мне такая!
– В каком смысле «нужна мне такая»? – вмешался Молодой Хемингуэй, которого эта беспардонная мизогиния, похоже, ввергла в ярость.
– А в таком, что я бы ее не стал никать даже твоим зебом[2]2
Зеб – мужской половой член (вульг. араб.). Со вторым словом все ясно по контексту.
[Закрыть].
Он, как всегда, успел рассмотреть всех женщин в кафе.
– Они тут по одной-единственной причине, и причина эта – мы трое. – Молодой Хемингуэй осведомился, чего ж он ни одну не подсечет, раз так в этом уверен. – Рановато пока.
Такие разговоры я слышал только от рыбаков. Они смотрят на небо, прикидывают, чего там с ветром и облачностью, у них на все есть шестое чувство, а потом, в самый для вас неожиданный момент, они говорят: «Пора!» Стройная красавица как раз бросила взгляд на наш столик. Калаж захихикал в голос, с полной беспардонностью.
– Поглядела!
Мы отметили, что по лицу ее прошла рябь улыбки.
Во Франции существует два вида женолюбивых праздношатающихся: flâneurs и dragueurs. Как делается понятно почти сразу, la drague – перемещение туда-сюда – это не хобби, не наука, не искусство, даже не вопрос везения или невезения. В случае Калажа речь шла о точнейшем совмещении воли с желанием. Женщин он желал с такой напористостью, что ему и в голову не приходило, что кто-то из них может и не испытывать ответного желания. Все испытывают. Спроси его лично – все женщины хотят всех мужчин. И наоборот. Единственной преградой между любым мужчиной и любой женщиной в кафе «Алжир» являются пяток стульев, столик, возможно, дверь – материальная дистанция. Все, что мужчине нужно, – это воля, а главное – умение переждать женские капризы или помочь ей от них отделаться. Как и в игре в пенни-покер, объяснял он, главное тут – очень простая вещь: постоянно повышать ставки на один пенни: на один, не на два; один пенни – безделица, вы ничего даже и не почувствуете. При этом нужно дождаться, когда и она начнет повышать на пенни и ваши ставки, – а тогда ставьте еще пенни, она поставит свой и так далее. Соблазнять – не значит заставлять человека делать то, чего он делать не хочет. Соблазнять – значит подкидывать один пенни за другим. Если они у вас закончились, то вы, точно фокусник, щелкаете пальцем и вытаскиваете следующий из ее левого уха, с элементом комизма, добавляя смеха в общий котел. Однажды утром я лично наблюдал, как на протяжении четверти часа он предложил женщине cinquante-quatre – чашку кофе за пятьдесят четыре цента, включая налоги, – после этого обнимал ее за талию всякий раз, как она прыскала от смеха, а потом ушел с ней вместе.
– Только не поймите меня неправильно. В итоге все равно женщина вас выбирает, а не наоборот, – женщина всегда делает первый шаг.
– А что там про ставки по одному пенни раз за разом? – не сообразил Молодой Хемингуэй.
– А это полная ахинея, – поведал Калаж.
– А Нострадамус?
– Такая же ахинея.
Приятель его встал и направился в уборную, фыркнув:
– Ишь ты, Нострадамус!
Едва он отошел от столика, как Калаж объявил:
– Терпеть не могу этого типа.
– А я думал, вы друзья.
Он снова презрительно фыркнул.
– С его-то мордой? Ты серьезно?
Тут Калаж вдруг надул губы, вгляделся в свою чашку, явно оценивая ее форму, а потом начал медленно крутить ее на блюдечке. Я не сразу сообразил, что он делает. Он передразнивал манеру Молодого Хемингуэя осмыслять каждый изреченный им, Калажем, слог. Я расхохотался. Засмеялся и он.
В кафе «Алжир» его прозвали Че Геварой или el révolutionnaire, но чаще всего называли Калаж – кстати, это было сокращенное от «Калашников». «Калажа видали?» Или: «Калаж поносит мужское братство в “Касабланке”». Имелось в виду, что он ругает политиков в самом популярном кембриджском баре. Или: «Калаж скоро должен прийти, уже почти l’heure du thé, время пить чай», – язвил кто-то из завсегдатаев, насмехаясь над тем, что в этом типе нет ну ничегошеньки от ритуальной цивильности английского файв-о-клока. Иногда было слышно, как он с кем-то препирается еще по дороге в кафе – неизменно громко и задиристо. «Наш солдатик идет», – откликалась на это одна из официанток. Если ему сказать, что не стоит столько скандалить, он немедленно обижался и рявкал: «А я не скандалил».
– А как это называется?
– Я так разговариваю. По-другому не умею, и все. Такой уж я человек.
После чего он начинал изрыгать еще более громогласные возражения: он вам не какой-нибудь долбанутый эрзац-американец, которому вынь да положь его личное пространство. И не слабодушный мямля из разряда «ты занимайся своим делом, я своим, и давайте все жить дружно»: таких в барах и кофейнях на Гарвардской площади пруд пруди. «Я не такой», – повторял он с напором, как будто произнося упрощенный вариант сложного силлогизма, который подцепил много лет назад по ходу краткого курса самоподачи, самовыражения и злословия в каком-нибудь кофеюшнике для работяг на рю Муфтар в Париже, где прозвище твое проставлено у тебя на лбу, на одежде и на пятках. «Все, что я есть, все, что я чувствую, написано у меня на лице. Я – мужик, понял?»
Он был большим мастером на безвкусную экзистенциальную чушь и старомодные клише, которые раздавал, точно бессмысленные листовки, в которых блеска довольно только на то, чтобы воодушевить очередное поколение прожженных вояк с бог ведает какого поля боя: готов на все, чтобы произвести впечатление на женщину, которая в данный момент прислушивается к разговору.
К разговорам его большинство женщин действительно прислушивались. Даже в тот первый день, когда я увидел его в кафе «Алжир», они прислушивались изо всех углов. У меня же ушло много недель на то, чтобы сообразить: все, чем он являлся, что говорил и делал, было направлено на достижение одной цели – возбудить интерес в женщине, в какой – неважно. Это был чистый спектакль, все об этом знали и все ему подыгрывали. Самоподача через представление, спасибо за ваши уроки, кафе «Муфтар». Случалось, для самоподачи хватало одного лишь костюма. А что касается ярости, то она, как и страстность, как и смех, как и самые твердые его убеждения, оставалась в итоге чистым спектаклем.
Иногда.
Иногда, предотвратив едва ли не потасовку между ним и Муму, алжирским завсегдатаем кафе «Алжир», я подсаживался к нему поближе и пытался разрулить ситуацию всякими незамысловатыми фразами вроде: «Он ничего такого не имел в виду». «А я имел в виду все до последнего слова», – отзывался он, возвышая голос, будто чтобы начать препираться и со мною. С ним нужно было проявлять терпение, тут слегка уступил, там слегка урезонил, оставил ему пространство для маневра, чтобы он выпустил пар, потому что пар, газ и дым в нем скапливались в изобилии. Зейнаб, официантка, тоже из Туниса и тоже с тем еще темпераментом, особенно в отношении клиентов, которые скупились на чаевые, или просили слишком часто наполнять им посуду заново, или требовали от скудного местного меню разнообразия за пределами того, что она в состоянии была упомнить, превращалась в саму любезность, когда видела, что он затевает очередную свару с очередным завсегдатаем. «Oui, mon trésor, oui, mon ange, да, мое сокровище, да, мой ангел», – нашептывала она снова и снова, будто приглаживая загривок ощетинившегося кота, только что увидевшего злую собаку. Когда на него находил такой стих, спорить с ним было бессмысленно, оставалось только увещевать и любезничать. «Я понимаю, что ты чувствуешь, прекрасно понимаю, – твердил я, пока не наступал момент, когда уже можно было воззвать к разуму. – Но с чего ты взял, что он имеет в виду то, что говорит?» – нашептывал я. «Знаю, и точка, оке?» «Окей», которое он произносил так: «Оке», означало: «Спор окончен. Больше ни слова. Врубился?» Я не всегда знал, как его укротить. С помощью своего «оке» он порой пресекал то, что могло закончиться потасовкой между нами. «Почему ты так уверен?» – нашептывал я, пытаясь все-таки донести до него свою мысль и показать, что мы-то с ним точно не станем препираться, а одновременно подталкивая его к тому, чтобы взглянуть на вопрос (как это называют во всем остальном мире) «с другой точки зрения» – понятие ему решительно чуждое. В его мире не было, да и не могло быть другой точки зрения. Если нам не удавалось прийти к консенсусу, он отворачивался и говорил: «Брось ты это дело, я сказал». Молчание. Он уходил заказывать пятую чашку кофе. «Брось. Я. Сказал», – повторял он снова.
Дабы подчеркнуть молчание, которое уронил между нами подобно гире, он тихонько брал стоявшую перед ним пустую чашку, извлекал оттуда ложку – ее он всегда оставлял внутри, пока пил кофе, – и аккуратным, просчитанным движением опускал на блюдечко, как бы расставляя все по ранжиру и привнося порядок в свою жизнь. Тем самым он будто бы говорил: «Я пытаюсь взять себя в руки. Не следовало тебе говорить то, что ты сказал». А через миг опять сыпал смехом и шутками. Значит, в кафе вошла женщина.
В кафе «Алжир» Калаж всегда садился на одно и то же место. За центральный столик – не только чтобы его видели, но и чтобы и самому наблюдать, кто входит, а кто выходит. Ему нравилось внутри, он никогда не устраивался снаружи и, как почти все уроженцы Средиземноморья, предпочитал тень солнцу. «Вот тут у нас Калашников занимает позицию, целится и стреляет», – пояснял Муму, который, как и Калаж, был водителем такси и любил его поддразнивать: алжирцы и тунисцы вообще любят подначивать друг друга, пока эти издевки не опустятся до полномасштабной словесной перепалки – а это происходит неизменно, если один, или другой, или оба взбесятся. «Он либо сидит здесь со своим “калашом” между ног и выжидает, пока ты сделаешь неверное движение, и тогда он тебя выкурит, выдворит, а потом, когда ты этого уж вовсе не ждешь, заморочит до полусмерти жалобами на своих женщин, свою визу, свои зубы, свою астму, свою монашескую келью на Арлингтон-стрит, где квартирная хозяйка не позволяет ему приводить женщин наверх, потому что они у него кричат, – я что-то пропустил? “Калашников” с безотказным ночным прицелом. Скажи, куда стрелять, – и он выстрелит». Скандалы между ними разгорались легендарные, эпические, оперные. «У меня глаза как у рыси, память как у слона, чутье как у волка…» – «…и мозги как у тапира», – присовокупляла его алжирская Немезида. «Ты же, напротив, – рявкал в ответ Калаж, – невзрачный и кусачий как скорпион, вот только ты бесхвостый скорпион, нет у тебя ядовитого хвоста: колчан без стрел, скрипка без струн – продолжать или ты усек общую идею?» – этими словами он намекал на всем известную неспособность алжирца добиться эрекции. «Этот скорпион, по крайней мере, способен кого угодно вознести на вершину горы – можешь сам поспрашивать, – а с тобой им только и светит, что перевалить через какую кротовину, взвизгнуть для приличия, чтобы смутить мирный сон квартирной хозяйки, – и по второму разу на то же самое не напрашиваться. Если хочешь, могу продолжить…» – в этих словах алжирца содержался весьма прозрачный намек на брак Калажа, который развалился за пару недель. «Верно, однако в эти несколько мгновений подъема на крошечную кротовину я проделываю вещи, которые ты, вспомни-ка, ни разу не проделывал лет с двенадцати, несмотря на все эти лошадиные пилюли, которые, как я слышал, ты принимаешь четырежды в день, вот только помогают они тебе разве что от натоптышей и никак не влияют на этот самый отросточек, который благой Господь даровал тебе, а ты так и не придумал, что с ним делать, кроме как пихать себе в ухо». «Всем молчать! – прерывал его алжирец, если в кафе было относительно пусто ранним утром и их свара не мешала посетителям. – Месье Калашников затеял хулить мое мужское достоинство – возразите ему, если посмеете, но не забудьте прежде надеть пуленепробиваемый жилет». «А, наш арабский комедиант вылез из своей волшебной лампы пердушницей поперед», – парировал Калаж, опуская на стол вчерашнюю «Монд», которую ежедневно забирал бесплатно из торговавшего иностранными газетами киоска на Гарвардской площади, потому что она была суточной давности и никому уже не требовалась.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































