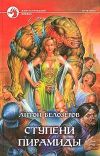Текст книги "Жизнь Александра Флеминга"

Автор книги: Андре Моруа
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Через полтора месяца диагноз подтвердился – Джон Уэллс умер от сапа, неизлечимой в те времена болезни.
Второй случай произошел с могучим краснощеким ирландцем, доктором Мэем, которого все называли Мэзи. Мэй, как и другие, давал кровь для контрольных опытов – в лаборатории всегда был запас нормальной крови. Кто-то поинтересовался, соответствует ли эта смешанная кровь в среднем крови каждого сотрудника? Тогда установили опсонический индекс смешанной крови и крови каждого донора. Мэй заметил, что его кровь больше, чем у остальных, отличается от смешанной крови. Райт объявил ему:
– Вашу кровь мы больше не будем брать, вы больны.
Мэзи продолжал регулярно определять свой опсонический индекс и заметил, что тот все больше отклонялся от нормы. Райт сказал ему:
– Послушайте, вам придется покинуть лабораторию. Видимо, у вас какая-то скрытая форма туберкулеза.
Мэзи рассмеялся, он чувствовал себя совершенно здоровым, но все же уехал в Южную Африку, где ему предложили более легкую работу. Когда этот случай стал известен в медицинском мире, многие патологи говорили: «Райт совершенно сошел с ума! У него в лаборатории парень – воплощенное здоровье, и только потому, что у того изменен опсонический индекс, Райт утверждает, будто он болен туберкулезом. Никогда еще ничего более смешного не приходилось слышать...» Не пробыл Мэй в Африке и двух месяцев, как врачи нашли в его мокроте палочки Коха. Таким образом, благодаря опсоническому индексу бактериологический диагноз был поставлен на много недель раньше клинического.
Итак, судя по всему, эта огромная работа велась не напрасно, но она обрекала учеников Райта трудиться ночи напролет. Студенты Сент-Мэри знали, что, уйдя с какой-нибудь вечеринки в два часа ночи, они могли еще выпить кружку пива у Флеминга, который даже в этот поздний час работал, склонившись над своим микроскопом. Им доставляло удовольствие видеть здесь Флеминга: спокойного, невозмутимого, с аккуратно завязанным галстуком-бабочкой, с прилипшей к нижней губе неизменной сигаретой, которую он не вынимал, даже когда говорил, отчего его еще труднее было понять; радушного, всегда готового терпеливо выслушать все, что ему скажут.
Флеминг обладал еще одним даром: он умел излагать факты с удивительной последовательностью... Даже первые его сообщения поражают своим великолепным и ясным научным языком. Райт, человек высокообразованный, требовательный и с большим вкусом, признавал, что Флеминг писал хорошо и его манера письма отличалась сдержанностью и точностью. «Мой коллега, доктор Александр Флеминг, в этой работе, к которой и пишется данное предисловие, превосходно изложил результаты, достигнутые отделением вакцинотерапии Сент-Мэри...» Райт перешел теперь от вакцинопрофилактики к вакцинотерапии. Следует объяснить, чем он руководствовался.
Иммунизировать – означает еще до всякой угрозы заболевания дать организму средства борьбы против возможной болезни. Прививки Дженнера и Пастера были профилактическими (предохранительными). Однако сам Пастер взялся лечить уже зараженных бешенством больных и добился успеха. Почему? Потому что человек, после того как его укусила бешеная собака, заболевает не сразу. Организм в ответ на введение вакцины в инкубационный период вырабатывает защитные антитела для борьбы в период, когда инфекция активизируется. Но это опять-таки разновидность предохранительной прививки.
Райт с этого и начал. Нельзя ли пойти дальше? До сих пор «иммунизаторы» рассматривали зараженный организм как нечто единое, нераздельное. Правильно ли это? Наблюдалось немало местных инфекций, которые не распространялись на весь организм, не генерализировались. При туберкулезе коленного сустава болезнь может не распространиться на другие органы больного. Что это значит? А то, что лишь местные естественные защитные силы, и только они одни были побеждены врагом, что микробы овладели плацдармом, но ничем больше. При этом общие защитные силы организма не были приведены в боевую готовность.
Можно ли поднять их на борьбу? Да, отвечал Райт, при помощи аутовакцины. В случае местной инфекции следует точно установить природу возбудителя болезни, приготовить из убитых микробов культуру, ввести ее человеку и проследить за его опсонический индексом, с тем чтобы проверить действие вакцины. Райт считал, что это только первый шаг на пути исследования огромных областей медицины, что вакцинотерапию можно будет применять шире, например при сепсисе и инфекциях, сопровождающих рак. Человек, воодушевленный какой-нибудь идеей, преданный ей, всюду видит возможность применить ее.
Несомненно, Флеминг, как и его коллеги, верил в вакцинотерапию. И действительно, в Сент-Мэри наблюдалось немало случаев излечения больных. Этот новый метод наделал много шуму. Бактериологи всего мира приезжали к Райту, чтобы познакомиться с аутовакцинами и опсоническим индексом. В двух небольших комнатах лаборатории, где находилось шесть или семь помощников Райта, с трудом удавалось разместить человек пять-шесть гостей – иностранных ученых. Больные, прослышав о новом успешном способе лечения, все прибывали. Надо было брать у них мазки, находить возбудителя, готовить вакцину, делать прививки, наблюдать за кровью, подсчитывая число микробов, поглощенных лейкоцитами. Это был тяжелый, изнурительный труд. Ко всему еще не было ни подходящего помещения, ни денег.
В 1907 году дирекция больницы за неимением средств на оборудование верхних этажей недавно построенного флигеля (Кларенс Винг) предложила их Райту при условии, что он достанет субсидию. У Райта были состоятельные и весьма влиятельные почитатели; он обратился за помощью к таким людям, как лорд Айвиг, Артур Джемс Бальфур, лорд Флетчер Мултон, сэр Макс Бонн, и они очень быстро собрали необходимую сумму. Кроме того, как только закончилось оборудование лабораторий, крупная фармацевтическая фирма «Парк, Дэвис и компания» предложила Бактериологическому отделению поставлять ей вакцины, сыворотки, опсонины и антитоксины. Таким образом, начиная с этого времени отделение имело регулярный доход, но все средства шли на расширение клиники, а сотрудники лаборатории по-прежнему оплачивались так же низко, как в наше время – подметальщики улиц.
Структура Бактериологического отделения была окончательно утверждена в 1909 году на заседании палаты общин под председательством Бальфура. Отделение приобретало полную самостоятельность. Оно управлялось комитетом, который собирался только тогда, когда это находил нужным Райт. Для кворума достаточно было присутствия Райта и еще двух членов комитета. Благожелательная тирания Старика отныне стала узаконенной.
Женщины в лаборатории почти не бывали, за исключением тех дней, когда Райт подготовлял, как говорил его друг Эрлих, «программу для дам». Эти программы при помощи эффектных опытов знакомили леди Хорнер, миссис Бернард Шоу и других привилегированных дам с последними открытиями. Райт не скрывал своего полного презрения к женскому интеллекту, и нередко ночные чаепития бывали посвящены его женоненавистническим памфлетам. «Большей частью повышенное мнение о женском уме, – говорил Райт, – должно быть приписано свойственному мужьям пристрастному отношению к своим женам. На самом же деле всем известно, что любящая своего мужа жена слепо принимает его убеждения... Я слышал, как одна женщина говорила о своей дочери: „Она настолько привязана к своему мужу, что, если завтра он станет магометанином, она последует его примеру“.
Райт утверждал, что любовь почти всегда вызывается бактериальными токсинами. Его увлечение греческой терминологией привело его к тому, что он объяснял стремление женщин и мужчин обнять друг друга, обхватить любимого человека руками, положить ему голову на плечо «стереотропическим» инстинктом, то есть желанием опереться на что-то надежное. Он написал целую книгу против избирательных прав женщин, прав, которых яростно добивались тогда суфражистки. Он собирал язвительные высказывания лучших писателей о слабом поле, начиная с афоризмов Мишле: «Мужчина любит бога, женщина любит мужчину», кончая Мередитом: «Я полагаю, что цивилизация женщин будет последней задачей, которую поставит перед собой мужчина», и доктором Джонсоном: «Всегда найдется что-то такое, что женщина предпочтет истине».
Человек, который хочет осуществить свой великий замысел и работать не покладая рук, должен жить совершенно обособленно от женщин, учил Райт и сам строго соблюдал это правило. Свою семью он поселил за городом, а сам жил в Лондоне. Его семейным очагом была лаборатория. «Прежде чем принять решение по какому бы то ни было вопросу, человек должен внимательно обсудить его со сведущими людьми», – говорил Райт. Вот почему он окружил себя учениками. Одни, как Фримен, своими блестящими возражениями вдохновляли его. Другие, как Флеминг, помогали ему безошибочностью своих суждений, совершенной техникой, своим непоколебимым здравым смыслом, а иногда и молчаливым бунтом.
Очень скоро Флеминг полностью освоил этот новый мир, куда он попал совершенно случайно. Труд здесь превосходил границы человеческих возможностей. Утром – работа в больничных палатах, так как Райт по-прежнему требовал, чтобы исследователи были и клиницистами. Во вторую половину дня шел прием в консультации, куда приходили больные, которых обычные доктора причисляли к «безнадежным». У них брали кровь и исследовали ее. Флеминг торопился покончить с приемом, чтобы бежать в лабораторию и заняться своими предметными стеклами. После ужина все снова возвращались в лабораторию и принимались изучать бесчисленные пробы крови. Для контроля исследователи брали свою собственную кровь. «Наши пальцы напоминали подушечки для иголок», – вспоминает Кольбрук. Все это было еще сопряжено с опасностью заражения.
Флеминг, не прекращая этой изнурительной работы, готовился к выпускным экзаменам. Он держал их в 1908 году, как всегда, занял первое место и получил золотую медаль Лондонского университета. Вспоминают, что одновременно он без всякой подготовки принял участие в конкурсе на звание члена Королевского хирургического колледжа и добился его. Наконец он написал работу «Острые микробные инфекции» на факультетский конкурс Сент-Мэри и тоже получил золотую медаль. В редакционной статье газеты, которую выпускали в Сент-Мэри, сообщалось об одержанной им победе, и, в частности, было сказано: «Мистер Флеминг, недавно награжденный золотой медалью и, казалось, без всякого усилия завоевавший звание члена Королевского хирургического колледжа, – один из самых преданных учеников сэра Алмрота Райта, и мы думаем, что его ждет славное будущее». Прозорливым автором этой статьи был Захари Копе, в дальнейшем получивший титул баронета и ставший известным хирургом.
Работа Флеминга о микробных инфекциях и способах борьбы с ними как бы предвосхищала дальнейшую его исследовательскую деятельность, которой он посвятил всю жизнь. Он дал описание всего имевшегося тогда у врачей оружия для борьбы против микробов: хирургическое вмешательство в случаях, когда очаг инфекции доступен; антисептики, общеукрепляющие средства; препараты, воздействующие на определенные микробы: хинин при малярии, ртутные препараты при сифилисе и т. д.; и, естественно, сыворотки и вакцины.
В своей работе Флеминг отводил почетное место вакцинотерапии Райта. Враги ученого иронически спрашивали: «Какой смысл вводить убитые микробы в организм, который борется против живых микробов?» И ссылались на инфекционный эндокардит. При этом заболевании поражены клапаны сердца, и микробы беспрерывно поступают в кровь. По теории Райта, должна была бы происходить естественная, вакцинация, на самом же деле ничего подобного не наблюдалось и организм не вырабатывал никаких антител.
Флеминг, натолкнувшись на это препятствие, выдвинул следующую гипотезу: видимо, циркуляция микроба в крови не соответствует впрыскиванию вакцины. Но это требовало экспериментального подтверждения. Он не мог, да и не хотел, проделать этот опыт на одном из больных и решил произвести его на себе. По его просьбе ему ввели внутривенно стафилококковую вакцину. В те времена внутривенные вливания считались опасными, еще не известно было, какие последствия они могут вызвать, и Флеминг своим поступком выказал немало мужества. В субботу ему ввели в вену сто пятьдесят миллионов убитых стафилококков. В воскресенье у него появилась рвота, головная боль, повысилась температура. При таких симптомах можно было ожидать, что возрастет сопротивляемость крови – появятся антитела. Их вообще не оказалось. Если же те же сто пятьдесят миллионов стафилококков вводились под кожу, сопротивляемость организма резко повышалась. Значит, инокуляция непосредственно в кровеносное русло (а при эндокардите микробы циркулируют в крови) – неправильный метод лечения, дающий максимум токсического действия и минимум иммунитета. Результат опыта подтвердил предположения молодого врача.
Работа Флеминга об инфекциях очень важна и тем, что она в самом начале его жизни дает общую картину всей дальнейшей деятельности ученого. Во всех своих исследованиях Флеминг стремился к одному: найти способ борьбы против инфекций, которые были тогда одним из самых страшных бедствий человечества. Он чувствовал себя хорошо вооруженным для этих поисков. Он был прирожденным естествоиспытателем и вполне отдавал себе отчет в своих преимуществах. Поэтому было бы заблуждением считать, будто в этой изысканной и литературно более образованной среде он испытывал неловкость или раздражение. Он презирал озлобленных и вечно жалующихся людей. «Алек всегда был в веселом настроении и работал очень искусно, – пишет доктор Холлис, один из его товарищей. – В нем никогда не чувствовалось ни горечи, ни усталости... К своим исследованиям он, казалось, относился с юмором и в то же время серьезно». Профессор Крукшенк свидетельствует: «Видимо, его забавляли философские рассуждения Алмрота Райта. Хотя Флеминг почти не участвовал в этих дискуссиях, создавалось впечатление, что своими редкими высказываниями он с первых же дней внушил к себе уважение». Его отнюдь не огорчало, что сам он так мало говорит. Ему доставляло удовольствие слушать. И в этом была его сила. Райт своей яркой индивидуальностью затмевал остальных, но и спокойный Флеминг сумел заставить себя любить и уважать.
V. Годы ученичества
Наука – оружие и доспехи разума, и разум найдет свое спасение, не взывая к самому себе– что равносильно погоне за призраком, – а избрав себе определенную цель, которая станет для него опорой.
Ален
Райт и его ученики верили в вакцины, в опсонический индекс и доказывали это, посвящая им дни и ночи. Другие ученые в других странах надеялись победить опасные микробы совсем иными способами. Немец Пауль Эрлих, друг Райта, ученый в очках в черепашьей оправе, человек с лучистыми глазами, шумным и веселым голосом, страстно, с твердым убеждением, что достигнет цели, искал «магическую пулю», которая способна была бы убить вторгшегося врага, не нанеся вреда организму хозяина.
Эрлих родился в 1854 году и учился в эпоху бурного роста огромных немецких заводов красителей. В такой же мере химик, как и врач, он с ранней юности заинтересовался окраской тканей человека и животных. Он установил, что окрашивание происходит избирательно, другими словами, определенный краситель фиксируется только определенными тканями. Например, нервную ткань окрашивала метиленовая синька и только она. Эта особенность давала возможность исследовать расположение нервных клеток. Эрлих также заметил, что болезнетворные паразиты «впитывают» в себя некоторые красители лучше, чем клетки организма, в котором эти паразиты поселились.
Почему? По той же причине, объяснял Эрлих, привыкший рассуждать, как химик, по которой дифтерийный токсин поражает исключительно сердечную мышцу, а столбнячный токсин – нервные клетки; словом, потому, что между молекулами существует химическое сродство. Значит, если какие-нибудь молекулы, обнаружив химическое сродство к токсинам, будут соединяться с ними, нейтрализовать их, то это и будут целебные антитоксины.
В 1904 году Эрлих, руководивший тогда Франкфуртским институтом серотерапии, со своим ассистентом, японским врачом Шига, поставил огромное количество опытов. В борьбе против опасного паразита, трипаносомы, он испробовал всевозможные красители. Вслед за Морисом Николем и Менилем он применил особенно активные красители – трипановый красный и трипановый синий – и получил довольно обнадеживающие результаты. Несколько позже Эрлих одержал самую свою крупную победу, но не над трипаносомами, а над бледными трепонемами, или спирохетами, – возбудителями сифилиса, и не при помощи красителей, а при помощи соединений мышьяка. Тому, кто упорно ищет, часто удается что-нибудь обнаружить, хотя и не всегда именно то, чего он ищет. Эрлих попал в цель, но не в ту, в которую целился.
Парацельс уже в XVI веке пробовал применить мышьяк в борьбе против сифилиса, но, видимо, не очень успешно, так как вскоре и надолго врачи перешли на лечение ртутью. В 1905—1907 годах химики выпустили препарат мышьяка – атоксил, который оказывал эффективное действие и на трипаносому и на спирохету. К сожалению, препарат, несмотря на его название, оказался токсичным. Эрлих решил преобразовать атоксил и создать из него новую «магическую пулю». Эта работа потребовала невероятного терпения. Для каждого производного атоксила, которое получали химики под руководством Эрлиха, прежде всего нужно было определить С – минимальную дозу, способную уничтожить микроб; затем Т – максимальную переносимую организмом дозу. По соотношению С/Т можно было судить об эффективности или токсичности медикамента. В случаях, когда С было больше Т, новый препарат, естественно, нельзя было применять. Во время этой битвы были принесены в жертву тысячи мышей и морских свинок. В 1909 году препарат «418» обнадежил искателей, но только обнадежил. Эрлих, измученный, но полный энтузиазма, рьяно продолжал истреблять мышей. И, наконец, в мае 1909 года состав «606» уничтожил все трипаносомы, не убив при этом ни мышей, ни морских свинок. Несколько позже препарат был испробован на зараженных сифилисом кроликах. Через три недели животные были совершенно излечены. Итак, «магическая пуля» против одного из злейших врагов человечества отныне была найдена. И эта пуля била прямо по цели, уничтожая паразита, не нанося вреда тканям хозяина. Эрлих назвал этот препарат «сальварсаном» (спасающий мышьяком).
Райта привлекала в Эрлихе его неистощимая фантазия, общительный характер и любовь поговорить. Немецкий ученый стал большим другом всей лаборатории. Когда он приехал в Лондон, чтобы сделать доклад о химиотерапии (которую Райт, как педантичный лингвист, тщетно пытался назвать «фармакотерапией»), он подарил немного сальварсана молодым ученым Сент-Мэри. Флеминг сразу же овладел способом применения этого препарата. Лечение сальварсаном было сопряжено с большими трудностями. Препарат очень быстро окислялся на воздухе. Внутримышечное введение сопровождалось острой болью. Новый ассистент Эрлиха, японец Хата, поразительно искусно вводил сальварсан кроликам внутривенно, но в 1909 году еще мало кто умел делать внутривенные вливания.
Доктор Дж. У. Б, Джеймс вспоминает, что в 1909 году он с товарищем присутствовал при том, как Флем вводил больному препарат «606». Джеймс и его друг, оба студенты Сент-Мэри, знали Флеминга и восторгались им, потому что он получил золотую медаль. «Я отчетливо вижу его у постели в белом халате, он ставит сосуд, наполненный желтой жидкостью, ловко вводит иглу в вену больного, с тем чтобы препарат попал непосредственно в кровь. Надо полагать, что для студента того времени внутривенные вливания были чем-то новым и странным. Может быть, поэтому образ Флема навсегда запечатлелся в моей памяти с такой драматической силой. Эффект, произведенный на нас самим методом лечения, еще усилился благодаря скорому действию препарата „606“, так выгодно отличавшемуся от медленно действовавших ртутных препаратов, которые мы наблюдали в остальных отделениях больницы.
Помню, осмелев, я принялся расспрашивать Флема и захотел узнать, что это за желтая жидкость. Манеры у него были резковатые, взглянув на меня своими голубыми глазами, он коротко бросил:
– Солянокислая соль диоксидиаминоарсенобензола.
Это мне ничего не сказало. Затем он спросил меня:
– Чего вы хотите?
– Нам хотелось бы посмотреть...
– Что у него, по-вашему? – спросил Флеминг, указывая на больного с ужасными сифилитическими язвами.
Мы с товарищем ответили:
– Сифилис.
– Ну, и что бы вы сделали? Лечили бы ртутью да? Так вот, вы увидите, этот препарат действует гораздо быстрее.
Позже, узнав Флема поближе, я понял, что его леденящий лаконизм не был вызван неприязненным к нам отношением, просто таков был «стиль Флеминга». Кстати, он тут же доказал свою доброжелательность, пригласив нас с товарищем в свою маленькую лабораторию около лестницы и рассказав нам всю историю изобретения сальварсана, при этом он проявил энциклопедические, с нашей точки зрения, знания. Он был всего года на четыре старше нас, но в таком возрасте это большая разница. Нам казалось, что мы открыли какого-то не известного никому Флеминга. И сейчас еще, возвращаясь мысленно к нашей встрече, я думаю, что он действительно проявил большое радушие к двум жаждущим знаний юношам. Прощаясь с нами, он сказал: «Приходите завтра посмотреть на этого больного». Мы пришли. Язвы совершенно очистились. Мы были поражены, и Флем наслаждался нашим изумлением.
После этого, когда бы мы ни приходили, он всегда приветливо встречал нас. Его рабочий день, казалось, никогда не кончался. Если порой среди ночи нам вдруг хотелось выпить, – как это бывает в юные годы, – но в этот поздний час все кабачки и гостиницы были уже закрыты, мы знали, что у Флеминга нас всегда ждет кружка пива и интересная беседа. Флем любил поспорить. Он ненавидел громкие слова и тотчас же пресекал всякое проявление тщеславия и зазнайства. Нам доставляло удовольствие часами наблюдать, как он для работы, а то и ради развлечения мастерил разные предметы из стеклянных трубок. Размягчив на огне стекло, он делал пипетки и забавных зверюшек. Особенно запомнилась кошка, которая внезапно возникла из раскаленного докрасна стекла и, когда остыла, уставилась на нас совершенно живыми глазами. Потом он смастерил множество каких-то маленьких животных, в испуге убегавших от кошки.
Мы на всю жизнь остались друзьями. Флем был очень постоянен в своей дружбе. Его невозможно было оскорбить. Прямые и резкие слова, которые задели бы любого, его не трогали. Он не был обидчив. Позже, когда я специализировался по психиатрии, у нас с ним бывало немало стычек. В медицине он придерживался материалистических взглядов. Одно из двух – либо бактерии налицо, либо их нет. Чувствовалось, что он твердо решил считаться только с видимыми и измеримыми фактами. Помню, как я пытался объяснить ему роль подсознательного. «К чему говорить о бессознательном мышлении? – ответил он. – Оно не существует. Действуя бессознательно, вы не думаете».
Как-то, когда он упорно отстаивал это положение, я спросил его, какая часть айсберга видна над морем? Он ответил, что не знает. «Одна восьмая, – сказал я, – а семь восьмых айсберга не видны. Вот так же и с бессознательным мышлением». Флем лукаво взглянул на меня. Вы никогда не знали, переубедили вы его или нет; он спорил из удовольствия поспорить. По своему складу характера он способен был бросить вызов своему идеологическому противнику и при этом оставаться с ним в наилучших дружеских отношениях. В своей области он был непобедим. Его бактериологические познания были невероятно обширны и основательны».
Действительно, Флеминг не мог отказать себе в удовольствии вернуть на землю собеседника, воспарившего в «высшие» области, недосягаемые, с его точки зрения. Одному другу после спора о вселенной, о пространстве и времени он указал на свои часы и сказал: «Меня вполне устраивает вот это время». Его лицо всегда оставалось непроницаемым, и никогда нельзя было понять, относится ли он к своим доводам всерьез. Только люди, хорошо изучившие его, угадывали по его смеющимся голубым глазам, что он шутит.
Флеминг и его коллега Кольбрук опубликовали в «Ланцете» статью – «Применение сальварсана при сифилисе». Препарат дал поразительные результаты, и с этого времени Флеминг стал возлагать большие надежды на химиотерапию. Райт же был настроен скептически. В начале своей карьеры он как-то сказал: «Врач будущего будет иммунизатором». И он от этого не отступился. «Мои предсказания уже сбываются. Насколько мне известно, каждый, кто при местных бактериальных инфекциях прибегал к вакцинотерапии, всегда добивался успеха. Явно приближается день, когда врач будет иммунизатором». И Райт, несмотря на свой честный ум и длительную дружбу с Эрлихом, недоверчиво относился к лечению химическими препаратами. В Клубе медиков он выступил с утверждением, что «химиотерапия инфекционных заболеваний человека невозможна и никогда не будет осуществлена».
Его ученики были менее догматичны. Они уже стали признавать, что опсонический индекс, хотя и представляет большой интерес, практически неприменим, так как для его определения требовался сверхчеловеческий труд. Только личное обаяние и авторитет Райта способны были заставить этих талантливых молодых ученых ежедневно до поздней ночи сидеть в лаборатории и подсчитывать микробы. Многие из них, придя утром в больницу, с трудом боролись со сном. Но Флем даже после бессонной ночи, проведенной над микроскопом, сохранял работоспособность. Он являлся первым, всегда такой свежий и бодрый, словно только что провел отпуск в деревне. Некоторые из исследователей, и в частности Флеминг, Нун и Бринтон, вынуждены были, помимо работы в лаборатории, заниматься частной практикой, чтобы заработать на жизнь. Фримен, снимавший дом на Девоншир-плейс, 30, предоставлял в распоряжение своих коллег кабинеты, где они могли принимать пациентов.
Тогда в Англии Флеминг и Кольбрук были чуть ли не единственными, кто применял сальварсан, и они благодаря Эрлиху приобрели очень скоро большую популярность как врачи. В те времена препарат вводили, растворив его в большом количестве воды. Флеминг сконструировал простое приспособление, состоящее из двух флаконов, шприца, двух резиновых трубок и двух кранов с двумя патрубками. При помощи этою аппарата он успевал ввести сальварсан четырем больным за то время, которое требовалось другим на одно вливание. В Лондонском шотландском полку, где он спас немало жертв бледной спирохеты, его прозвали «рядовой 606», и какой-то карикатурист изобразил его со шприцем в руке вместо ружья. Ему нравилось, что сальварсан дает такие эффективные результаты.
Он был хорошим диагностом. Профессор Ньюкомб приводит характерный случай: один больной с язвой на губе в течение шести месяцев лежал в клинике университетского колледжа с диагнозом туберкулеза. Были испробованы все методы лечения, но безуспешно, и больного перевели в Сент-Мэри для вакцинотерапии. Язва продолжала увеличиваться. Как-то Флеминг в течение суток заменял лечащего врача. Врачебная этика требует, чтобы заменяющий врач не менял назначенное лечение. Но Флеминг отнюдь, не был ортодоксом и немедленно принял три преступные меры: взял у больного кровь, ввел ему сальварсан и послал Ньюкомбу срез ткани с запиской: «Язва губы... Туберкул?»
«Ну что ж, – рассказывает Ньюкомб, – я подумал: раз Флеминг пишет – туберкул, значит, так оно и есть... Однако я обнаружил множество плазмоцитов и в ответ написал: „Туберкулезное поражение губы. Многочисленные плазмоциты объясняются, видимо, вторичной инфекцией“. На следующий день за завтраком Флем торжествующе посмотрел на меня и сказал: „Странную туберкулезную язву я вам послал, не так ли?“ – Я ответил: „Да, необычную“. – „Да, – подтвердил Флеминг, – очень необычную. Я ввел больному сальварсан, и он выздоровел. Какой странный туберкулез“. Он мне часто напоминал об этой истории. Стоило мне в споре с ним повести себя вызывающе, как он говорил: „Не побеседовать ли нам о туберкулезных язвах, а?“
«Лучшим свидетельством хорошего характера Флеминга, – рассказывает доктор Фрай, – было то, что все его любили, хотя он неизменно оказывался прав. Обычно не любят людей, которые никогда не ошибаются. Но у него это получалось так мило, что на него нельзя было сердиться. Конечно, он не мог удержаться от соблазна и не сказать: „Я же вам говорил“, – но у него это звучало как-то по-детски. В лаборатории, к счастью, мало было людей, лишенных чувства юмора, иначе они не смогли бы работать с Райтом и Флемингом, любившими подтрунивать каждый на свой лад».
Иногда во время очередного чаепития в библиотеке Флеминг наслаждался, лукаво объявляя вдруг о каком-нибудь факте, а его жертва, заикаясь и краснея, оправдывалась. «Знаете, Старик, – говорил он, например, – ведь Джилес влюблен». Эти слова, сказанные в присутствии патрона и всех сотрудников лаборатории, производили такое же действие, как камень, брошенный в лужу. Флем испытывал удовольствие, наблюдая за реакцией аудитории. Его шутки никогда не бывали злыми, его просто забавляли замешательство товарища и оправдания, которые тот приводил.
Никто не обижался на Флеминга, хотя его остроты бывали довольно язвительны. «Мы все были очень привязаны к Флему, – рассказывает Фримен. – Он был сдержанным человеком, но приветливым. Отвечал он односложно и, как только в разговор включались другие, замолкал. Мы говорили, что он типичный шотландец и что он не разговаривает, а ворчит. Конечно, это не совсем верно. Это была наша „семейная“ шутка».
Он всегда готов был помочь товарищу. У Хайдена, одного из врачей Сент-Мэри, был паралич после полиомиелита. Он не мог больше работать в больнице и впал в отчаяние, тем более что должен был содержать семью. «Ноги не играют никакой роли в науке, – сказал ему Флеминг. – Если хотите заняться настоящей научной деятельностью, поступайте в нашу лабораторию». Флеминг без труда уговорил Райта взять к себе этого замечательного исследователя, который до самой смерти передвигался по лаборатории в коляске. Они жили все дружно, одной сплоченной счастливой семьей и всегда выручали друг друга. Когда Хайден умер, лаборатория, несмотря на свою бедность, приняла решение дать образование обоим его сыновьям.
Товарищеские отношения как в работе, так и в развлечениях придавали всему очаровательную непринужденность. По мнению доктора Портеуса, который поступил в Бактериологическое отделение в 1911 году и был самым младшим членом этого коллектива, обстановка в лаборатории была очень благоприятной. «Некоторые изображали мне Флеминга человеком замкнутым и сухим, но я этого не нашел. Меня встретил радушный коллега, готовый прийти на помощь новичку. Он не прочь был посмеяться и даже сыграть какую-нибудь шутку над товарищем, например, положить ему под микроскоп кусочек „пластицина“ и насладиться произведенным эффектом. Он действительно был застенчив, но его застенчивость не была вызвана неуверенностью в себе. Он знал, что он знает, и это давало ему душевное спокойствие. Однако старые тормозящие рефлексы мешали ему проявлять свои чувства. А вот когда речь заходила о практической проблеме, он обсуждал ее с легкостью, без обиняков. Если товарищ или даже сам Райт отстаивал какую-нибудь техническую нелепость, Флеминг возражал, выдвигая очень убедительные доводы. Но делиться своими переживаниями он не мог, и ему становилось не по себе, когда это делали другие. Он находил напыщенными и слишком преувеличенными чувства, которые менее строгий судья нашел бы просто человеческими».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?