Текст книги "Вирус подлости"
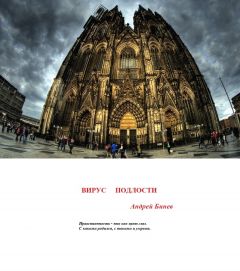
Автор книги: Андрей Бинев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Первый опыт
Много лет назад, когда еще юный Вадик Постышев поступил в московский институт международных отношений, на факультет журналистики, к нему сразу присмотрелась хорошенькая второкурсница из экономического факультета – Люда Савинкова.
Самое время рассказать об этом скоротечном романе, закончившемся свадьбой и рождением маленького светлоокого мальчика Коленьки. Впрочем, новорожденные все светлоокие и лишь часть из них сохраняет в жизни это свойство. Коленька сохранил – он так и остался ангелочком с голубыми глазами, светлой, нервной кожей и желтыми, с рыжинкой, густыми волосами. Молодые родители души в нем не чаяли, особенно, отец – Вадим Постышев.
И Вадим, и Люда родились в солидных семьях, детям которых был не заказан путь в престижные высшие учебные заведения, да и все проблемы, которые по обыкновению касались подавляющего большинства их сверстников, им самим не грозили. Отец Людмилы был дипломатом средней руки, работал в Европейском отделе МИД, часто выезжал в зарубежные командировки и был заслуженно причислен к надежным, кадровым специалистам внешнеполитического ведомства. Звезд с неба не хватал, но вполне соответствовал требованиям системы и времени. Да и знал свое место, что высоко ценилось в его ведомстве.
Батюшка же Вадима Постышева, дальний родственник другого, очень известного, Постышева, служил личным фотографом в свите генерального секретаря партии. Он относился к престижной когорте аттестованных в КГБ сотрудников аппарата ЦК, но это была лишь приятная формальность, потому что за всю свою жизнь, до смерти от инсульта, он не только ни разу не выполнял оперативных заданий, но и бывал-то в служебных помещениях комитета государственной безопасности лишь раз в год – для оформления каких-то хозяйственных, рутинных дел.
Так что, молодая семья Постышевых – Вадим, Людмила, а в дальнейшем и маленький Коленька, числилась среди проверенных, надежных и перспективных: с одной стороны из кадровых дипломатов (дед у Люды был даже когда-то дипкурьером, что считалось почему-то в Советах профессией героической), а с другой – профессиональный журналист, фотокорреспондент из высшего, «международного», сословия и к тому же, пусть и формально, но – чекист.
Двухкомнатную квартиру молодая семья получила по секретному ведомству Постышева-старшего, почти сразу после свадьбы, на юго-западной, престижной ее оконечности, в десяти минутах ходьбы от станции метро. О молодом поколении в ведомстве заботились всерьез, потому что, как известно из слов усопшего вождя, «кадры решают всё», и их, проверенных, следовало беречь и лелеять.
Остальная же, непроверенная публика, уже с самого начала должна была знать свой шесток и даже мысли не допускать о каком-либо сходстве с теми, другими, в своем значении для государства, для будущего, для высшей политики. Такие мысли о равенстве прав и возможностей были крамольны, политически незрелы. Они пресекались немедленно, без предупреждений и объяснений причин. Чаще всего документы таких амбициозных людей не достигали заветной цели – например, отдела кадров или какой-нибудь приемной комиссии, а в особенных случаях, когда «товарищ не понимал» сути проблемы, его документы вдруг терялись и находились лишь по окончании вступительного или конкурсного процесса. Если и тут не понимал, то находился уже более жесткий способ привести его в требуемое чувство.
Эта практика брала свое начало в незапамятные революционные годы, когда личные перспективы враждебных пролетариату и крестьянству классов подвергались искусственному усечению, а полуграмотные дети «трудовых классов» вполне открыто продвигались вверх, к тому рубежу, с которого государством могла управлять «каждая кухарка», по словам Ленина. Однако изначальный смысл классового гнета был забыт, сохранив лишь саму технологию. Теперь важно было определить, кто должен был поддерживаться, а кто, напротив, сдерживаться всеми государственными оперативными силами. Вырабатывались иные, порой прямо противоположные начальным, понятия, и серьезно укреплялись. Тогда же и появилось новое слово «амбициозный». Если за границами страны, откуда оно и пришло, его значение имело чаще всего положительный смысл, то есть означало стремление к совершенствованию и к честолюбию, то внутри советского государства амбициозность ставилась в ряд наитяжелейших грехов, искупление которых, порой, возможно лишь в аду советской пенитенциарной системы. Амбициозные люди, игнорировавшие свои родовые анкеты, были опасней открытых врагов, и для борьбы с ними формировались стройные ряды специалистов-кадровиков, а те, в свою очередь, связывались с оперативными подразделениями государственной безопасности. Тут как на границе – даже тень врага не должна была пройти. Железный занавес внутри советского пространства был столь же непроницаемым, как и на его внешних рубежах.
Росту же утвержденного властью «кадрового резерва», проверенного и обласканного с рождения, ничто не должно было мешать – никакой нездоровой конкуренции, никаких амбициозных сравнений! Поэтому все взлеты молодых семей из советских проверенных чиновничьих родов происходили буднично, уверенно и вполне предсказуемо. Взлеты эти осуществлялись как на бытовом, так и на карьерном уровне. Ничего, казалось бы, не изменилось и теперь, однако в сравнении с прошлым нынешний потенциал молодых карьеристов необыкновенно расширился. Цепями, сдерживающими его, являлись и являются до наших дней, секретные инструкции органов безопасности, как бы они ни называли себя. Чем больше их значение, тем провереннее «кадры» и тем они больше подвержены деградации. Но, как известно, принц-идот все же остается принцем, а уж потом он – идиот. И то, если кто-то отважится его таковым признать. Отпрыски чиновничьих фамилий высшего и среднего разряда всегда могут рассчитывать на поддержку в силах государственной безопасности. Почему-то там считается, что заведомый бездарь из именитой фамилии менее опасен государству, чем талантливый чужак. На этом строится вся методика работы секретных ведомств. Главное, полагают там, следует дать мощный толчок на первой же ступени, задать инерцию полёту. Приложенные силы должны быть адекватными весу объекта и его значению в будущем. Не больше, но и не меньше! Найти золотую середину, уметь определить этот самый вес и составляет до сих пор главную стратегическую задачу сил безопасности. Имеет ли это прямое отношение к реальным государственным интересам или, не дай Бог, к правам человека, вопрос, скорее, теоретический, чем практический. Во всяком случае, советская кадровая система формировалась без оглядки на это. Главное, задать инерцию в нужном направлении: кому вверх, а кому и вниз.
В семье Постышевых всё так и складывалось: Вадим сразу попал по окончании факультета на работу в крупнейшее «телеграфное агентство», в североевропейский отдел, а Люда – в научный институт, занимавшийся намеренным искажением экономической науки в угоду идеологии, причем, в названии института присутствовали такие слова, как международные отношения и экономика. Люда сдала «кандидатский минимум» и, подстрекаемая мужем, очень быстро защитилась. Институт, в котором она делала свои первые научные ходы, в основном как раз занимался тем, о чем уже упоминалось: прикрытием разного рода разведывательных, диверсионных и сомнительных финансовых операций. Это научное учреждение, жившее под щедрой дланью Академии Наук СССР официально, и под густой тенью советских специальных служб неофициально, имело свои абсолютные аналоги на Западе. Там тоже существовали научные общества, которые, скорее занимались разведывательными изысканиями, нежели научными. Такие учреждения постепенно становились независимыми цитаделями с собственными системами защиты и нападения. Директора этих институтов были вхожи в кабинеты руководителей разведок, как их равные коллеги, а в некоторых случаях даже со временем возглавляли такие ведомства. Поэтому подбор кадрового научного потенциала подобных исследовательских учреждений в СССР (прежде всего, в области «международных отношений, мировой экономики» и «рабочего движения») был особенно тщательным. Здесь не было места срывам или даже шатаниям. Люда Постышева по всем статьям отвечала строжайшим требованиям времени и пространства.
Всё это сообщается не во имя того, чтобы в очередной раз констатировать примитивное значение кадровой политики того времени, и не для того, чтобы показать близость времен, прошедших и нынешних, а исключительно ради того, чтобы понять, насколько дальнейшая, очень скорая судьба всей семьи Постышевых вошла в противоречие с согласованной системой государственной безопасности, и постараться найти хоть какое-то оправдание деятельности ее проверенных поборников. Например, таких, как полковник Полевой.
По большому счету, предстояло столкновение не чуждых друг другу систем, а внутренних, противоречащих на клеточном уровне, и в то же время единоутробных плодов. В таких случаях природа не находит иного выхода, как взаимное уничтожение, независимо от сил сторон. Организм, если не произвести вовремя ампутации или оперативного изъятия взбунтовавшейся ткани, непременно погибнет от острой формы сепсиса. То есть сгниет на корню. Любое промедление смерти подобно! Полевой, если и не мог обосновать это теоретически, то практическую сторону знал хорошо. Он был великолепным рубакой, блестящим «ампутантом», мясником высшего разряда. Терапию не признавал, как вреднейшее заблуждение интеллигентных теоретиков. Их бы самих, считал он, ампутировать вместе с отторгающейся тканью. Но к таким, как он, не всегда прислушивались, хотя их ценили и ценят до сих пор, как людей решительных, бескомпромиссных и результативных. Однако же иной раз наступает их время – время грубой полевой хирургии, когда не до сантиментов, не до микробиологических исследований, не до соплей. Вон терапию! Тут следует хорошенько рубануть или резануть! И желательно, больнее, чтобы убедиться, что больной не сдох на операционном столе под ножом иди ампутационной пилой. Потом, в палате, уж как получится. Но хирургическую статистику портить никому не позволено.
И все же болезнь заводится в теле незаметно для коновалов, они для этого недостаточно внимательны, не достаточно тонки, чтобы заметить такое. Клетка, чаще всего, уже изначально подпорчена, поражена внутренними, невидимыми глазу, изменениями. Чтобы понять это, нужно изучить весь ход ее развития, присмотреться к ее тайной, тихой жизни.
…Подошла первая зарубежная командировка на год: Вадима отправляли в Швецию. Именно этого языка он как раз и не знал, но с него взяли слово, что он устроится на какие-то очень скорые курсы и овладеет им в нужном объеме. За четыре месяца курсов (пять дней в неделю) молодая постышевская память поглотила такое количество шведских слов, что этого вполне хватало на прочтение шведских газет, на несложные интервью с использованием стандартной политической лексики и даже на развернутые отчеты об этом в Москву.
К изучению иностранных языков он был подготовлен всей своей предыдущей учебой – немецкий, английский и факультативно итальянский он постигал еще на факультете, и при этом весьма успешно, весьма продуктивно. Поэтому и здесь он не встретился со сложностями в одолении шведской грамматики, в постижении ее логики, а уделял большее внимание лексике языка, то есть своему словарному запасу.
Уехали втроем – с Людой и с сыном. Это были самые счастливые дни в их жизни, своего рода, апогей их брачного периода.
Пока жили в Стокгольме, Люда стала писать уже докторскую диссертацию, которая развивала мысль предыдущей ее научной работы о том, что «шведская модель» ни в коей мерей социалистической не является, а самая что ни на есть империалистическая, лживая и опасная, оппортунистичная выдумка. В первые же полгода Люда тоже довольно сносно освоилась с языком и теперь просиживала часами подряд в королевской библиотеке, в роскошном читальном зале и заказывала копии современных документов с искренностью говорящих о том, что не всё ладно в местном королевстве. Делалось это скандинавами не для того, чтобы причинить себе вред, а ради научной, теоретической истины, без которой они поему-то не мыслили практического успеха. Им и в голову не приходило, что их незасекреченная искренность (как, например, у соседей – в СССР) способна принести им вред. Они, по своей северной наивности, не видели в этом опасного для них же оружия пропаганды, чего не скажешь о молодой советской ученой из института, исследующего особенности мировой экономики и международных отношений. Люда мысленно потирала руки и хищно ухмылялась. Диссертация явно ладилась. Ведь вот как хорошо у них, у шведов, с практикой, но как плохо, как неосмотрительно плохо – с теорией! У нас не все в порядке с практикой, рассуждала в те годы Люда Постышева, зато теоретическая мысль ясно изложена в многотомниках вождей, в современных политических документах. Эта теоретическая мысль рождалась в свое время в головах некоторых наших вождей в том числе и на их национальных территориях. Что из того, что практика и теория разошлись в разные стороны по строгой разновекторной прямой! Научные докторские звания даются не за это.
Люда пыталась объяснить это мужу, Вадиму, человеку, по большей части, практического ума, нежели научного, но он только посмеивался и кивал в окно, за которым ездили по убранным улицам хорошие машины, в том числе и эффектные шведские «вольво», светились огнями рестораны, магазины, ходили с рутинными протестами мирные, согласованные группы демонстрантов. Он мягко напоминал о том, что и парламент, и правительство, и королевская семья не смеют нарушать права людей в этой стране, и в доказательство этого принимают удивительно гуманные социальные законы. Вадим спрашивал у Люды, усмехаясь, так ли это у нас. Но она краснела, сердилась, говорила о том, что теория это – одно, а практика, мол, совсем другое, и не следует их путать. Вадим удивлялся ее упрямству, но и стал побаиваться его. Это вдруг начало пугать его, как что-то непонятное, увиденное в жутковатом сне.
По окончании года Постышеву предложили задержаться здесь с семьей еще на полгода, пока ему не подготовят замену. Люда расстроилась, потому что ей не терпелось вновь заявить о себе в аспирантуре и, наконец, обратиться к профессору Павлу Георгиевичу Ковалевскому за помощью и научной поддержкой.
Вообще-то связь с профессором Ковалевским у Люды Постышевой была трепетной и нежной, хотя в это время она еще не переросла свои научные границы. Они симпатизировали друг другу и иной раз даже боялись поднять друг на друга глаза. Профессор был совершеннейшей противоположностью ее мужу: невысокий, с благородным серебром в густых, черных волосах, с брюшком, что в сорок пять лет его нисколько не портило, а даже придавало некоторую солидность, с черными глубокими глазами, в очках с дымкой. Он был стильным, впечатляющим мужчиной с неизменным запахом дорогих итальянских духов. Тяжелые, с хищным изломом, веки профессора убедительно говорили о том, что в его жилах течет и диковатая азиатская кровь. Люда чувствовала исходящий от этого человека неугасаемый, повелевающий ее воображением, жар. Она нередко видела Ковалевского в своих сладостных снах и после того, как тяжело дыша просыпалась, долго смотрела в потолок, заново переживая то, что лишь привиделось ей.
Поэтому-то известие о том, что придется задержаться еще на полгода, ее нисколько не обрадовало. Профессор Ковалевский к тому же написал ей два письма, из которых следовало, что он решился наконец развестись с женой, с которой «у них с первого дня не было ни малейшего взаимопонимания» (таковы его слова), и теперь, намекал профессор, он останется одиноким стареющим мужчиной, в котором его мужское начало способно испепелить всё – даже «научную страсть». Люда настолько увлеклась уже этим человеком, особенно на расстоянии, в отдалении от него, что не была способна заметить примитивность его торопливых писем, их неискренность и недалекость. Скорее всего, профессор Ковалевский делал это намеренно, чтобы облегчить себе задачу с мечтательной аспиранткой. Он рассчитывал на то, что она поймет условный характер его намеков и сама определит нужный обоим, безопасный режим их общения. Ему, по-видимому, и в голову не приходило, что всё это можно воспринимать серьезнее, чем традиционный букет цветов на праздник.
Письма совершенно нечаянно попали в руки к Вадиму. Он не удержался и несколько раз перечитал их. Люда, которой в тот же вечер, краснея и извиняясь, Вадим сообщил о том, что знает о ее переписке с этим «старым научным козлом», впервые всерьез рассердилась на мужа.
– Да как ты смеешь читать чужие письма! – в сердцах крикнула она, – Это все равно что подглядывать за человеком в уборной!
– Да что ты! – попытался отшутиться Вадим, все еще пунцовый, – Это не так приятно.
– Тебе видней! – резко ответила Люда и ушла, хлопнув дверью.
Она до часу ночи гуляла по старому Стокгольму, прячась сначала то в одном, то в другом ресторанчике, а потом, когда всё закрылось, просто кружила по узким улочкам, над которыми, по святому убеждению их четырехлетнего Коленьки, непременно должен был летать Карлсон. Обычно, заслышав винт полицейского вертолета, он чуть ли ни выпадал из окна, ища беспокойным взглядом в небе маленького в «меру упитанного» человечка с озорными глазенками.
Сидя на скамье на окованной в тяжелый камень набережной, рядом с горбатым, причудливой формы, мостом, Людмила решила все же не уезжать теперь в Москву раньше мужа, сославшись якобы на необходимость приступить к оформлению диссертации. Если бы он не наткнулся на письмо Ковалевского, всё могло бы выглядеть вполне серьезно и, в этом смысле, невинно, но теперь ее отъезд может быть истолкован так, как она этого пока не хотела. Досадная случайность нарушила ее планы.
Людмила осталась с Вадимом в Стокгольме и продолжала еще полгода регулярно ходить в читальный зал и собирать там «неопровержимые доказательства» скорого крушения скандинавской экономической системы. Она написала о своей теме профессору Ковалевскому, и тот с радостью принял ее предложение стать в очередной раз научным руководителем столь «прозорливой ученой дамы». Так и написал – «прозорливой ученой дамы», чем доставил ей и минуту тщеславного удовольствия, и разъедающие сознание молодой женщины беспокойные часы сомнений, так ли уж правилен ее интимный выбор, стоит ли ради него поколебать устои семьи Постышевых. Впрочем, успокаивала она себя, «колебать» какие-либо устои она не намерена, даже если профессор разойдется со своей женой. Просто ей нужно что-то личное, что-то интимное, теплое для души. Что делать, если от Вадима этого не получить! Они и на практическую сторону жизни смотрят разными глазами, и оценки научных теорий у них не совпадают. Такие мысли уравновешивали ее сомнения, несколько ее успокаивали. Хотя она в глубине души понимала, что это всего лишь уловки, оправдывающие ее взбунтовавшееся либидо.
Прочитанные письма почти забылись Вадимом, и он искренне стал думать, что время, проведенное в Швеции, станет их скрепляющей силой. С глаз долой, думал с надеждой он, из сердца вон. Это хорошо, размышлял Вадим, что нас тут задержали. Свою диссертацию Людочка всегда напишет, а вот интересы семьи сберечь можно лишь при подходящих обстоятельствах, благоразумно рассуждал Постышев. Но время пролетело быстро. В Москву вернулись к новогодним праздникам. Тут всё и началось… Сразу, без проволочек.
Опыт не удался
Накануне бессонной новогодней ночи, когда в доме Постышевых уже собрались гости, среди которых были родители Вадима и Людмилы, два его институтских приятеля и закадычный друг детства, Людмила неожиданно исчезла. По небольшой их квартирке, в которой было тесно от гостей, ходил маленький Коленька и недоумевал, куда пропала мама. Ударили полночные часы, все, пряча глаза и тайком пожимая плечами, с подавленными возгласами о наступающем годе воздели кверху пенящиеся бокалы, а спустя полчаса тихо появилась Людмила.
Попытка сделать вид, что ее отсутствие было вызвано не очень уместной новогодней шуткой, никому не удалась. Отец Людмилы схватил ее за рукав измятого платья и грубо потащил на кухню, откуда мгновенно сбежали собравшиеся там покурить гости, и стал ей выговаривать. Как ни включали телевизор на полную мощь, к гостям пробивались слова: «безумие!», «мерзость!», «стыд!», «предательство!», «семья!», «муж!», «ребенок!».
Что касается мужа и ребенка, то они растерянно сидели обнявшись в одном кресле в гостиной, перед телевизионным экраном и молча, затравленно глазели в него. Мальчик не понимал всей сути скандала, но видел, что мама в чем-то сильно провинилась и что ее новогодняя шутка, от которой он ожидал много веселья, провалилась. Ему было обидно и стыдно за маму и очень жалко папу, который тоже не дождался веселой развязки маминого волшебного исчезновения. Ну как же! Она же была до прихода гостей дома! И готовила, и даже подарки им раздавала, правда, почему-то раньше времени (!), но все же от имени Деда Мороза! А потом, пока папа примерял в маленькой комнате себе белую бороду, парик и красный стеганый халат, а Коленьке синие штанишки, голубенькую рубашечку и островерхий колпачок с четырьмя циферками наступающего года в виде склеенных серебреных ленточек, мама неожиданно хлопнула дверью, и вот появилась только теперь, раскрасневшаяся, помятая и растерянная.
Гости тоже стали исчезать один за другим, не прощаясь. Родители Вадима и Людмилы, не разговаривая и даже не глядя друг на друга, разъехались по своим домам. В наступающем утреннем похмелье столь неудачной ночи, в холодной постели, отвернувшись друг от друга, лежали бессонные Постышевы. Коленька все же заснул у себя на диване и ему снился Дед Мороз, похожий на его отца, который тащил по млечному пути упирающуюся маму. Она кричала: «Семья! Муж! Ребенок!» А он хохотал и неумолимо делал свое дело. Коленька хотел проснуться, но Дед Мороз с лицом папы нажимал пальцами ему на веки, и глаза никак не открывались. Так и проспал всё на свете Коленька Постышев до позднего утра.
Прежде всего, он проспал уход с чемоданом папы. Остались только его ватная борода, смятый парик и халат, который никто так и не одел, не считая сна. Во-вторых, Коля проспал мамин разговор по телефону с каким-то Павлом Георгиевичем, которого называли то так, то просто Пашенькой. А в-третьих, Николай так и не понял, как в квартире опять оказались бабушка и дедушка – мамины папа с мамой. Когда он, наконец, проснулся, здесь всё словно перевернулось. Он вдруг ощутил, что жизнь, к которой он привык и которая не была ни скучна, ни весела для него, куда-то безвозвратно исчезла, а вместо нее пришло что-то растрепанное, ненастное, одинокое и нервное.
Беспокойные изменения начали сказываться уже на следующей, после новогоднего скандала, неделе: его увезли к маминым папе и маме, а потом перевезли к папиным папе и маме, где почему-то теперь жил папа, а потом опять вернули к маминым, потом неожиданно доставили домой, там набрали из нераспакованного чемодана чистые вещи и вновь потащили по бабушкам и дедушкам. За всё это время он не более пяти раз видел маму и всего лишь три раза папу, поздними вечерами. Они мелькали перед ним раздраженные, виноватые, измотанные чем-то, с влажными глазами и сжатыми губами.
Коленька понимал только одно – больше не будет той жизни, из которой их вытолкнула последняя прошлогодняя ночь, а какая жизнь предстоит – не хотелось и думать. Неужели так и станут его таскать из одного дома в другой, а потом привозить туда, где тогда новогодней ночью не было мамы, и торопливо доставать из чемоданов какие-то его вещи, которые он помнил по другому дому – в каменном городе с влажным климатом, где живет смешной человечек с пропеллером на спине!
В самом начале весны в квартиру родителей Людмилы ввалился запыхавшийся Вадим, с двумя букетами цветов, а за ним следом прибежала, словно ждала этого, и сама Людмила. В тот же день, за час до появления Вадима, с работы пришел крепко подвыпивший дед и виновато ухмылялся жене, объясняя, почему он в канун женского мартовского праздника позволил себе расслабиться в обществе министерских дам и веселых коллег мужского пола. Супруга, смертельно уставшая от семейных проблем, горько рыдала, представляя себе, что жизнь рушится во всех ее проявлениях, и вот, мол, теперь и муж-дипломат запил. Где это видано – кадровый дипломат и пьяница! Скажите, впервые? Ну, так с чего-то же начинается! Вот и не один пил, а в обществе женщин, ухоженных и перспективных, потому что другие в МИДе не работали. А тут еще ворвался Вадим с двумя букетами цветов – и Люде, и ее матери, по случаю завтрашнего праздника. Людмила же, краснея, вошла почти следом. Странное, однако, показалось всем, совпадение. Она как знала, что он придет, и пряталась, должно быть, где-то поблизости. Она надеялась, что он появится в этот день, по давней своей привычке и в соответствии со своим воспитанием. Людмила не ошиблась. Осознавать это ей было особенно приятно, потому что такая осведомленность о характере противника давала ей много преимуществ, и поднимала ее в собственных глазах.
Коленька никем всерьез не воспринимался, никому и в голову не приходило как-то ему всё объяснить, о чем-то его самого спросить. Мысль о том, что всё, что происходит в беспокойной семье, в конце концов острием должно упереться именно в его судьбу, как в единственного носителя ее будущего, почему-то не возникала.
Однако все эти события – крепко выпивший дед, опечаленная бабка, тяжело дышащий папа и взволнованная мама – надавили на маленького Николая так, словно к этому всё дело и шло. Сердечко бойко билось и от внимательных, страдающих глаз ничего не укрывалось. Вокруг него бушевали страсти, словно закручивался смерч, а он, маленький, беззащитный таился в его эпицентре, ожидая каждое мгновение сильнейшего удара от безжалостной человеческой природы.
Цветы устало, почти мертво развалились на полированной поверхности стола в гостиной, а Вадим стоял посреди комнаты и, не внимая испуганным уговорам тещи с тестем, бросал в пунцовое лицо Людмилы обидные слова:
– Ты загубила семью! Ты исковеркала жизнь мне…и ребенку! И всё ради старого дурака Ковалевского, который врал тебе с самого начала! Он не развелся и даже, более того, мой шеф только сегодня сообщил мне, что был вчера на его с женой новоселье! А тебе он что говорил? Что он тебе говорил? Ведь вы живете на его даче! А знаешь, чья эта дача? Это его жены дача! У него же самого ни кола, ни двора в прямом смысле! И диссертации его – результат того же брака! Тесть-то в ЦК семнадцать лет просидел! Завотделом… А твой Паша – при этом круглый идиот, бездарь, хоть и профессор! И ты рядом с ним!
– Сам ты идиот! – визжала Людмила, – Он – гений! Его душит эта стерва! Пользуется силой своего папаши! И братца своего!
– Ах, еще и братец! Ну, да! Он ведь в КГБ чего-то там делает! Куда же денешься от такой родни? Ты-то, дура, готова с ними скрестить свое оружие? А какое оно у тебя? Неужели, из любви соткано? Тогда уж точно их дело швах! Где им всем с вашей любовью-то справиться! А новоселье! Новоселье, я тебя спрашиваю! Это что такое! Смех, да и только!
Вадим громко, невесело гоготал, а тесть с тещей хватались за голову. Причем голова у тестя явно кружилась, потому что он чуть было не упал на Коленьку, который вертелся у всех под ногами и со страхом и любопытством задирал голову кверху. Коленьке двинули по затылку, чтобы не мешал выяснять отношения и, расплакавшись от обиды, он убежал на кухню. Здесь его догнала рыдающая бабушка, у нее из рук Колю вырвала мама, а у той его стал рвать папа. Было не больно, но страшно, потому что Коля не знал в каких руках он в конце концов окажется.
Потом все неожиданно прервалось. Все сели на диван и на стулья, пришедшие в полный беспорядок, все разом расплакались, а Людмила упала встрепанной головой на колени к Вадиму и стала причитать о том, что она чувствует себя бессердечной дрянью, что запуталась окончательно и что ей самой противен обман Ковалевского, особенно, когда он ей сказал, что едет в больницу к умирающему другу, а сам в это время веселился на собственном новоселье.
Смена ее позиции даже маленькому Коленьке показалась слишком уж скорой – только что защищала себя и Ковалевского, а теперь уж и сама готова его в порошок стереть. Но всё равно это его радовало и даже слезы просохли.
Людмила скороговоркой, заливаясь слезами, ныла, что мол, это она все только теперь поняла. Ковалевский оказывается не вернулся ночевать на дачу, зато туда «прискакал» тот самый брат его жены, пьяный и немногословный, и стал ей ломать руки, тащить в постель. Людмила с отчаянием кричала ему, что пожалуется отцу, но тот смеялся и цедил сквозь зубы: «Его самого, старого дурака, если надо, заломают! И не таких видали!» Она сбежала, хотела найти Ковалевского, но он по телефону, шепотом, попросил ее временно, так и сказал «временно», вернуться к себе домой, …не на дачу, а именно – «к себе домой», …и ждать там от него звонка. И вот теперь она знает, где он был прошедшим вечером и ночью! Но он всё равно талантлив, умен и обоятелен. Он сам жертва обстоятельств, жертва общества! Он вынужден играть свою роль в отвратительном для него самого спектакле, как они все! Ей жаль его, жаль себя, жаль Вадима и родителей тоже жаль! Коленьку больно кольнуло, что о нем мама и не вспомнила. Его, оказывается, жалеть не за что! Как чемоданы, брошенные в их осиротевшей квартире на юго-западе Москвы. Но мама продолжала рыдать о своей несчастной любви к профессору Ковалевскому, с которой оно борется из-за всех своих сил, хотя борьба явно неравная. Так и сказала – «неравная»! Поэтому она пока ничего не может с собой поделать! Но она попытается, и если Вадим даст ей шанс, то многое еще можно будет исправить. Время разберется со всем и со всеми!
Людмила даже не подозревала, до какой степени ее слова окажутся вещими, и до какой степени драматичными для всех участников этой истории, старой, как мир.
Но тут всё стало возвращаться как будто назад, к той последней, доновогодней ночи, когда они втроем ездили по магазинам на новой папиной машине – синей «шестерке» (она терпеливо ждала их приезда из Швеции и бережно охранялась отцом Вадима в его гараже), и покупали разные вкусные вещи и подарки друг другу и гостям, от имени Деда Мороза, конечно. Втроем, иссушая тем самым горькие слезы бабушки и даже пьяного дедушки, они вернулись в свою квартиру, в которой до сих пор не были разобраны вещи, привезенные из Стокгольма, и стали опять жить вместе. Сначала тихо, почти не разговаривая друг с другом, потом всё теплее и теплее, и, наконец, совсем тепло. Николай, догадавшись, что тот «цыганский» (как, печально вздыхая, говорили между собой обе бабушки) период его кочевой жизни окончательно канул в лета, даже стал по нему тосковать. Ведь и у этого были свои преимущества, хотя его ни о чем не спрашивали, и вообще в расчет жизни не брали. Однако тогда все, чувствуя свою вину либо бессилие, в чем тоже были виноваты, старались ему как будто угодить, преподнося дорогие подарки и позволяя не спать днем, нервно бодрствовать по ночам, глазеть безудержно в телевизор, есть один лишь десерт, а от остального капризно отказываться. Он мог громко, противно орать и не получать за это подзатыльников, подолгу ходить в одной и той же одежде, и вообще творить всё, что пожелает. Как взрослый, самостоятельный член размытой, развалившейся семьи! Он распоряжался совестью этой семьи, распыленной на несколько домов – ему всё спускалось с рук. Хотя это происходило лишь потому, что именно руки ни до чего не доходили. Разобраться в таких тонкостях Коленька не мог, но урожай, щедрый, полновесный, и ядовитый, диковатый, одновременно, он собирал самостоятельно.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































