Текст книги "Вирус подлости"
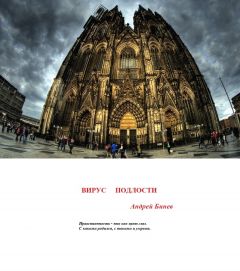
Автор книги: Андрей Бинев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Потеря этой воли была обидна ему, но приобрести ее заново, думал он, почему-то тоже не хотелось.
Вот тут бы всему этому забыться окончательно! Но оно вернулось, да только теперь с другой стороны. Из дома однажды ушел и теперь уже навсегда Вадим. На этот раз не было перемещения уже достаточно повзрослевшего Коленьки из дома в дом, никто не навязывал подарков, но и не диктовал, когда ложиться в постель, какие телевизионные программы смотреть и можно ли включать, когда угодно, только-только появившийся видеомагнитофон. Люда ходила хмурая, нервная, стала попивать, безудержно курить. Она потеряла работу, о защите докторской диссертации после разрыва с Ковалевским вообще с тех пор и речи не было, и теперь ждала какого-то предложения из академии наук. Но оно так и не поступило, тем более, что к этому времени ее отец разболелся и вышел на пенсию. Его как-то сразу позабыли друзья, и обращаться за помощью было уже не к кому. Однако помощь пришла неожиданно от отца Вадима. Все еще обладая каким-то влиянием, он выпросил для неудавшейся невестки работу в Интуристе, гидом.
В квартире стало весело. Это даже понравилось Николаю. Появились иностранные гости с разными своими веселыми напитками и кассетами для видеомагнитофона, они оставались ночевать, шумели, тяжело дышали, потом оставляли какие-то подарки и исчезали. Людмила подолгу после таких налетов не могла придти в себя, срывалась на сына и, когда уж совсем была издергана, кричала ему, что он копия отца.
Время шло, год разменивал год, что-то сжималось и старело, что-то росло и взрослело. Открытых ран уже и не осталось – затянулись нежной плёночкой, перестали кровоточить.
Казалось, дорога в прошлое со временем сузилась, превратилась в узкую, извилистую тропинку и, наконец, заросла непроходимой, густой порослью. По ней уже невозможно было идти назад, невозможно было и разглядеть что-то. Некому было ее почистить, выполоть, некому было за ней присмотреть. Николай, взрослея, именно так это и понимал.
А отец, Вадим, появлялся всё реже и реже – чаще к праздникам. Он, как казалось Николаю, не то с брезгливостью, не то с сожалением оглядывал их казавшуюся теперь такой крошечной квартиру.
Сын, который «не причем»
Николай заметно вырос, почти догнал отца, и низкие потолки буквально давили ему на плечи. Вадим как-то раз, в отсутствие Николая, когда только-только с работы приехала Людмила, ввалился с какими-то кульками из служебного продуктового заказа (в стране было уже довольно голодно, бедно, а прилавки в магазинах выглядели все более сиротливо и серо), осмотрелся и опустил глаза.
– Что, дружок! – ехидно усмехнулась Людмила, – Не нравится? У вас, поди, лучше? А тут – жалкая эклектика советского быта: что урвали, тем и живем. Времена, видишь ли, такие! То ли еще будет! Смута…, по всему видно. Но ты, пожалуйста, любуйся! Здесь живет твой сын! Твой сын!
Последнее она сказала особенно ясно, выделяя из всего.
Вадим хотел было ответить ей, что силы надо бы черпать из диссертации, которую она в Швеции писала об их тупиковом «псевдосоциализме» и которую так нахваливал пройдоха профессор Ковалевский, но осекся, боясь показаться неоправданно жестоким, и лишь поставив на пол кульки, пробурчал:
– Тут кое-что съестное… Нам стали вторые заказы давать…, по профсоюзной линии. Так я их вам буду носить…
– Носи! – крикнула из кухни Людмила каким-то очень уж бодрым голосом. Обычно за таким голосом она либо скрывала слезы, либо издевку, презрение.
– Я еще и деньги принес…, – мрачно, как будто виновато сказал Вадим, – Вот, на тумбочку, около телефона положу, я их алфавитной книжкой придавлю, чтобы не разлетелись.
– Придави, – уже тише ответила Людмила, всё еще прячась от Вадима на кухне, между раковиной и холодильником.
Вадим еще постоял, топчась на месте и не зная, как уйти. В замке звонкой пилкой резанул ключ и в прихожую ввалился разгоряченный, высоченный Николай.
– О! Батя! – воскликнул он, – Ты чего! В гости, что ли?
– Вот, – смутился Постышев, – Продукты принес и деньги…
Николай, не снимая обуви, прошел в квартиру:
– Чего ты их носишь-то! Нам с матерью и так хватает! Верно, мать? – он крикнул это громче, чем следовало – квартира была маленькой и здесь не нужен был сильный голос, чтобы тебя услышали. Прозвучало это с вызовом, с обидой. Оголенная, острая, как бритва, мысль об этом, раня, заворочалась в голове у Вадима, и еще унизительно, горько подумалось, что сын не позвал его в комнату, а на продукты и деньги даже не взглянул, …и вообще сразу исчез с глаз, как и Людмила.
– Пусть носит, – вдруг ледяным голосом ответила сыну, через голову, буквально прошивая холодом тело Вадима, Людмила, – Родить родил, и всё, что ли?
Вадим, не прощаясь, вышел, и еще долго сидел около подъезда, поднимая кверху глаза и глядя на светящиеся окна, за которыми кусала губы и глотала слезы его бывшая жена, и хмурился, рассматривая, наконец, папины съестные подарки, подросший, так похожий на него, сын.
Однажды Николай, учась уже в девятом классе, болтался с тремя приятелями на Новом Арбате, который тогда еще звался Калининским проспектом, и вдруг увидел, как из незнакомой серебристой «шестерки», по тем временам, престижной, вышел его отец, стройный, высокий, легкий, а к нему прижималась такая же высокая, и такая же стройная, с длинными, тонкими кистями рук, женщина. Николай видел ее впервые, хотя знал от матери, что ее зовут Таней, и что она отняла у них отца и мужа.
Мальчик смотрел со стороны на отца и его вторую жену с любопытством. Он хотел понять, почему папа так поступил: мстил ли маме за того старого прохиндея Ковалевского или потому что действительно позже, чем следовало, встретил свою единственную любовь?
Приятели потянули Николая на Арбат, но он что-то резкое им сказал и мигом исчез в толпе. Он не хотел упустить из вида отца и его жену. Надо было осознать, прав ли папа, мог ли бы он поступить иначе? И вообще каковы были его шансы, Николая? Смог ли бы он тогда, раньше, одним лишь своим существованием перетянуть отца на их с матерью сторону или он все проморгал, всё упустил? Не сумел, не хватило воли, обаяния, любви!
Наблюдая издалека за Таней, Николай подумал, что сам, видимо, похож на отца, потому что эта женщина ему, крепнувшему, высокому подростку, очень нравилась. Ведь он сын своего отца, значит, походит на него во всем! Значит, им должны нравиться одни и те же женщины. Мама – не в счет! Она – мама! Здесь у них разница с отцом, естественная.
Он, наконец, понял, что не сумел бы отказаться от Тани, от папиной жены, если бы представился шанс. Николай решил это совершенно хладнокровно, словно, его пригласили экспертом в чужую судьбу.
Ни в какое сравнение с тоненькой, изящной, умненькой Таней пополневшая, огрубевшая и даже несколько обрюзгшая мама не шла. Николай делал над собой усилие, чтобы сравнить женщин, хотя понимал неестественность этого для себя.
Таня смотрела на мир такими глубокими темными глазами, которые для Николая были самыми полными и самыми чувственными, из тех, которые ему за его короткую жизнь приходилось видеть. А еще он издалека услышал ее голос. Николай называл такие голоса фарфоровыми – тонкая, искусная «работа»… Он простил отца в этот момент и с сожалением отстал от этой высокой, счастливой и очень, как ему показалось, молодой пары.
Когда Вадим, через месяц, ко дню рождения Николая, приехал с подарками, Николай вышел с ним на балкон, демонстративно, не спросясь, закурил и сказал:
– Я видел вас с Таней, отец… Она ничего! Нашим нравится…
– Кому это нашим? – смутился Вадим.
– Это так…, шутка такая… Красивая женщина! Я бы и сам не отказался, батя!
– Что! – Вадим побледнел и с неприязнью отодвинулся от сына.
– Да ладно тебе! – засмеялся Николай, – Чай не маленькие!
Он посмотрел вниз, на дымный город, добавив туда порцию густого табачного дыма, и сказал:
– А мать – дура! Совершеннейшая дура! Спит с мужиками без разбора. Сначала одни иностранцы были, а теперь появился даже шофер «икаруса», интуристовского, дядя Витя называется. Здоровый такой боров, бутылку водки один засасывает, без закуски! Видал такое когда-нибудь, батя?
– Нельзя так…о матери, Коля! – боясь увязнуть в ненужном, оскорбительном для всех разговоре, тихо сказал Вадим.
Но Николай будто не слышал его, увлеченно дымил, вытягивая в трубочку губы. Удушливая мгла медленно поднималась от города кверху.
Стало неожиданно тихо, даже машин не слыхать, будто сквозь сизую пелену ничто не могло уже пробиться к небу. Николай, так и не глядя на отца, спросил:
– Папа, а ты нас бросил в отместку маме…за того прохиндея, или просто так, по любви то есть? Ты ответь, я пойму. Я уже взрослый, отец!
Вадим молчал, размышляя, с чего начать, как оправдать себя, но так ничего и не сообразил: сын действительно был уже взрослым и объяснения вроде того, что жизнь, мол, «сложная штука, сын», никуда не годились. Надо было говорить всё, и интимное, личное, в том числе, и не утверждать, что с годами проблема исчерпает сама себя – на жизненном пути самого Николая. Вадим вышел с балкона, нерешительно постоял в комнате, глядя в упрямую спину сыну и кусая губы, потом быстро накинул в крошечной прихожей на себя плащ (это была дождливая, туманная осень) и ушел. Он не стал дожидаться Людмилы и, как обычно, оставил в прихожей деньги – на этот раз, в конверте.
Больше его Николай никогда не видел. Были только редкие, очень редкие звонки. Потом и они прекратились.
А однажды, спустя года полтора после того разговора, отец вдруг позвонил из Австрии и сказал, что теперь работает здесь от своего телеграфного агентства.
– Ты там один? – зачем-то спросил сын.
– Нет! С женой…, с Таней и с дочерью…, с твоей сестрой.
– С Верой? – усмехнулся Николай. Он знал от матери, что у отца несколько лет назад родилась дочь, но с ним об этом никогда не заговаривал, да и он сам не упоминал.
– С Верой! – отец вдруг засуетился, – А ты знаешь, вы с ней чем-то похожи…
– Тобою мы похожи… Тоже, наверное, носатое, длинношее и высокое …?
– Нет. Она другая… И все равно похожи…
– А ты помнишь, как я выгляжу?
– Это нечестно, сын! Ты сам так выстроил отношения, что я не мог…не мог…понимаешь?
– Что не мог? Зайти? Полтора года? Почему не мог?
– Горько всё это, сын! Как мама?
– Ну, наконец-то! Спросил! Мама плохо! Почку одну потеряла, оттяпали ей. Быстро как-то всё развернулось, за пол месяца. Диагноз и сразу операция… Она все равно пьет, курит как паровоз, мужики, правда, исчезли. Я их понимаю…
– А ты?
– В армию не возьмут. Это точно. Нефрит, наследственный, от мамы. А бабка померла год назад, знаешь? Дед еще тянет кое-как… Но тоже… не жилец.
– Ну вот…позвонил. А у вас всё так невесело!
– Почему же невесело? В армию-то меня не берут! Уже весело. Поступлю во ВГИК. На операторский. Просто обхихикаешься! Меня ведь за рост человеком-штативом уже прозвали. И рука крепкая. Камеру удержу без мандража на самом дальнем фокусе.
– Молодец! Терминологию уже усвоил. Туда, между прочим, конкурс сложный, творческий. Как у тебя с этим?
– Нормально у меня с этим. Последний мамин ухажер, японец, классную фотокамеру со всеми причиндалами подарил. Мама ему, наверное, очень нравилась. А, может быть, она такие условия поставила? Не сознается старая! Так что, я этой камерой каких только фоток ни наделал! Закачаешься!
– Это ты в деда, в моего отца! Он ведь тоже был фотокорреспондентом, классным. Уважали старика! Жаль только аппаратуру уперли…, после смерти. Сначала он ушел, потом мама…, твоя бабушка… Всё как-то порушилось, сын! …Помнишь, в дом к ним залезли после бабушкиной смерти, прямо через день? Гады!
– Помню. …Папа!
– Что?
– Мне тебе нужно сказать…, то есть спросить…
– Что случилось?
– Сейчас ничего… Это давно уже! Слушай…, я вот о чем хотел тебя спросить…
Николай умолк, будто не решался задать тот вопрос, который горько мучил его с самого детства, когда отец перестал по вечерам возвращаться в их общий дом.
– Ну, что ты замолчал?
– Ты только не смейся, ладно?
– Ни за что, сын! Клянусь!
– Не клянись. Просто не смейся.
– Говори же! Спрашивай! Что ты хотел? Тебе нужно что-то отсюда? Ты не стесняйся…, я ведь могу…
– Нет. Мне ничего от тебя не нужно. Я просто… – и вдруг выдохнул так, будто несмелый прыгун решился, наконец, кинуться со скалы во взрывающийся брызгами холодный, опасный поток, – Я виноват?
– В чем виноват? – у Вадима перехватило дыхание.
– В том, что ты ушел от нас? Я мог тебя удержать?
– Что ты! Коленька! Миленький! Да в чем же твоя-то вина?
– А мама? Ты ей мстил? Я тебя полтора года назад об этом спросил, а ты ушел…
– Нет! Нет! Ни в коем случае! Просто, я встретил женщину…
– А если бы …не было того дурацкого новогоднего скандала, когда мы приехали из Стокгольма… Ну, помнишь? Ты бы все равно ушел?
Вадим тоскливо посмотрел в окно своего кабинета в Вене, было пасмурно, дождь чистым, полным потоком мыл стекла. Постышев чуть отстранил от уха трубку, сдвинув ее к виску, и стал впервые размышлять об этом: «действительно, а если бы не было Ковалевского и того новогоднего кошмара, ушел бы?»
– Я не знаю, сын. Но ты тут точно не причем! – ответил он, наконец, как показалось ему самому, достаточно твердо, решительно, будто ставя окончательную, успокаивающую точку на этом. Но так ему лишь казалось, так ему хотелось, потому что слабость, прописавшаяся в нем с того самого момента, когда он ушел от Люды и маленького тогда еще Николеньки, Николаши, Колюни-сынули (как только он ни звал мальчишку в коротком для него, для Вадима, детстве его сына!), росла и крепла. Это было странное чувство – с одной стороны, обыкновенная слабость, которой свойственно бессилие и осознание собственной вины, с другой – настолько располневшая, даже распухшая, укрепившаяся в его сознании, что любой мышечный бугор, любой наполненный кровью бицепс, мог бы испуганно отступить перед ней. Вадим всегда боялся, что его выдадут глаза, голос, неожиданно виноватый изгиб тела, что он потеряет вес в собственных глазах и сорвется, унизится когда-нибудь перед Людой и сыном в истеричном замаливании своего греха, которого вообще-то и не было. Не было! Потому что привязанность всегда возможна, а любовь, которой посвящается жизнь, одна единственная жизнь (!), вину содержать не может. Опасаясь поникнуть перед брошенной им семьей, понимая, что не сможет с достоинством объяснить разницу между привязанностью и любовью, между верностью и изменой, он ускользал от всяких разговоров с ними, и молча, сжимая зубы, соглашался с издевательскими нотками в голосе Люды, когда приносил ей деньги и продукты, с показным безразличием к нему и его подаркам Николеньки, выросшего во взрослого …или …в почти взрослого мужчину.
Растерянность в тоне уже ускользала от чутких по обыкновению ушей Вадима; он уже не слышал себя самого, а только проникал во внутрь своих наболевших ощущений, и старался не потерять бодрость тона, независимость и уверенность. Однако же ничего из этого не выходило, потому что сын был упрям в немилосердности к себе, как и он сам, и к тому же унаследовал от него же тонкость душевного слуха и особую, стыдящуюся саму себя, ранимость. Не вышел ответ таким, как этого хотел Вадим Постышев, и был сразу в этом уличен.
Николай не торопил отца, хотя ему почудилось, что между его вопросом и этим неопределенным, испуганным ответом минула жизнь, сжатая всего лишь в несколько десятков шумных, дышащих неуверенностью, горькими сомнениями секунд.
Но и это был ответ. Неосторожный, ранящий. А мог ли быть какой-нибудь другой!? Вот, что было в нем главным – он, Николай, оказывается, был не при чем! Как всегда, не причем. Жизнь рвалась на куски вокруг него, делили время и пространство, делили, наконец, его самого, но он по-прежнему «был не при чем»! Никакого влияния на окружающую его, даже родную, близкую среду! Он не занимает, оказывается, даже ничтожно малых объемов, не выжимает своей немой душой ни воздуха, ни воды, не давит своим бессильным телом на поверхность земли. У него нет удельного веса, а, значит, в элементарной (даже в элементарной!) таблице у него нет места и нет порядкового номера. Он «не причем» и не при ком!
– Жаль, – твердо сказал Николай. Ему-то как раз эта твердость удалась. Наверное, потому, что за ней действительно стоял естественный, природно-жесткий материал – его давняя, мучительная тоска, его привычное мальчишеское одиночество, его стыд перед более устроенными сверстниками оставаться только с матерью по вечерам в будни и в выходные дни, его безудержная, идущая с годами в разнос, ложь перед ними же об отце, «выполнявшем» какое-то бесконечное героическое задание родины вдали от семьи, вдали от него. И не верили ему, и не верил он себе сам, но врал, защищался как мог, и всё ждал, что вот-вот появится отец и тогда набухший мешок его лжи, раскрашенной детскими наивными карандашами, как «веселые картинки», которые ему дарили когда-то чужие взрослые, окажется всего лишь легкой шуткой, потому что жизнь станет обычной, как у всех, а отец таким же, как и у других: живым, близким, усталым, а иногда, может быть, и несправедливым в чем-то, нервным, резким, строгим, но главное – приходящим домой. Но ложь собиралась, накапливалась, тяжелела, краски ее тускнели, и Николай, отчаявшийся ждать, научился говорить, наконец, твердо и безжалостно.
– Жаль, – повторил он, услышав, что отец испуганно замер на другом конце телефонного провода.
– Почему жаль? – голос отца привычно дрогнул.
– Значит, я ничего не стою. Если у меня когда-нибудь будут дети, они только и будут «причем», отец. Это я тебе обещаю твердо!
Из вдруг помертвевшей трубки Вадима обожгло ледяным холодом отчаянного, и взрослого и не взрослеющего, одиночества, которое он только сейчас осознал всей своей кожей, всем своим вспыхнувшим и тут же больно сжавшимся сердцем.
То был их самый последний в жизни разговор. Больше они никогда не слышали друг друга.
«Волшебная флейта» абсурда
– Значит, так, Саранский, – постукивая пальцами по столу, с угрозой в голосе говорил Полевой, – На этот раз, если щука сорвется с крючка, я тебя самого на него насажу. Так и знай! Думаешь, я не понял тогда, кто всё это устроил? Не знаю, как ты его предупредил, но то, что этот …растяпа действовал умело и расчетливо, не оставляет никаких сомнений. Так кинуть нашу службу может только профессионал или тот, у кого в советчиках профессионал!
– Так американец же…, – искренно хлопал глазами на Полевого Саранский, – этот, как его, Ротенберг… Вольфганг. Он и насоветовал!
– Кто? Этот? – Полевой зло рассмеялся, – С какой стати он бы стал Постышеву советовать!
– Как же! Вы же сами сказали…, он его агент…, – Саранский опустил глаза, но тут же вскинул их просветленными, словно только что промытыми струями кристально чистой воды.
– Ну, ты даешь, брат! – с восхищением хлопнул ладонями полковник, – За дурака меня держишь, что ли! Какой он, к черту, агент! Кому он, к ляду, был нужен!
– Так если так, …чего вы теперь-то! – Саранский сказал это неожиданно мрачно, с обидой, казалось бы, за Постышева.
– А вот как раз теперь-то большего всего и нужен! – ударил по столу кулаком Полевой, – Теперь он точно предатель, невозвращенец! Его гражданства лишили… Теперь он враг окончательно! В сотню раз больше, чем тогда! То, можно сказать, было как бы тренировкой, натиранием нюха, а вот теперь всё иначе, всё всерьез, по-взрослому, как говорится! Сбежал с помощью американцев, клевещет на родину посредством ихнего вражьего голоса, жирует тут, сволочь! И в ус себе не дует! Он, видишь ли, свободная личность! Его судить надо! Чтоб другим не повадно было. И ты, Саранский, нам в этом поможешь!
– Послушайте, – продолжал хмуриться Андрей Евгеньевич, – А почему вы мне все время тыкаете? С Австрии еще! Я вам – «вы», с уважением, а вы мне – «ты», и еще орете!
Полевой вдруг покрылся краской и от неожиданности открыл рот. Он беспомощно развел руками и непривычным для себя, испуганным извиняющимся тоном ответил:
– Так это…, я…, по-дружески…, привык так…, по партийному, по-товарищески… Ну, если хочешь…, то есть если хотите, …вы и меня можете на «ты». Сейчас уже как-то поздно мне назад-то! А?
– Ладно! – милостиво согласился Саранский, зло блеснув глазами, – Тыкайте мне сколько влезет, если у вас такое воспитание, а я все равно вас буду на «вы» называть…
– Потому что у тебя такое воспитание? – прищурился Полевой, – Интеллигент, значит?
– Он самый! Высшей пробы! – причмокнул языком Саранский и вдруг неожиданно для себя выпалил, – Мы хоть по происхождению, в древности, так сказать, из крепостных крестьян, …но в последствии наш род потек из других источников…, из святых, можно сказать…
– Что за источники? – нахмурил брови Полевой.
– Священники мы в прошлом. Вот, что! Из Мордовии, потому и Саранские…
– Тоже мне интеллигенция! – захохотал полковник, – Да и мы, если хочешь знать, из святых…, из священников то есть.
– Как? И в анкете написано? – удивился Андрей Евгеньевич, и еще испугался, что вспомнил вслух об анкете, так как у него таких подробностей записано не было. А ведь могло навести на неприятную мысль кое-кого здесь, а там и в Москву сообщат! Как же без этого! Точно теперь сообщат! Ну, кто его за язык тянул, дурака старого!
Но Полевой и ухом не повел. Похоже, уходили те времена, когда скрывали родимые пятнышки в своей биографии. Записи в анкетах и в автобиографичных саморазоблачениях, которые требовали все отделы кадров в СССР, теперь начинали жить отдельной, почти параллельной жизнью. Беречь чистоту собственноручных строк всё еще было необходимо, но уже за официальной бумагой, словно в проявителе, стали появляться лица, черты которых были размыты временем и властью. Однако же привычка пока еще брала верх.
– Зачем же анкету пачкать? – рассудительно спросил Полевой, – В анкете должно быть всё как следует – так, мол, и так, крестьянство, пролетариат…, на крайний случай – трудовая интеллигенция…, а про священнослужителей, так это никому не интересно. Всё в прошлом! Мы нынче все атеисты!
Полевой вдруг вздрогнул, нервно оглянулся и добавил тише, с необычной тайной в голосе:
– Пока…, так сказать… Пока…
Но тут он резко привстал, потянулся и посмотрел на Саранского сверху вниз:
– Чего-то мы с тобой, ваше преосвященство, разболтались тут не ко времени! Я тебе вот что скажу, …как поп попу…, нам нужно этого гада Постышева отловить и убедить вернуться на родину, под ее строгую, но справедливую материнскую длань. Вот так!
– Как же мы его убедим?! Под материнскую…? Он же сбежал, а не просто умом двинулся! Это же кардинально разные вещи. Даже противоречащие друг другу!
– Намеков твоих я не принимаю, потому как они оскорбительны для родины и для меня лично. Нечего мне тут анекдоты вспоминать разные…, перефразировать, так сказать… Тоже ведь вражеское творчество…! В ЦРУ даже отдел есть такой – анекдоты выдумывать антисоветского толка и распространять их на разных волнах, …засорять, можно сказать… «Deutsche Welle» …и всякое такое же непотребство, где разные «постышевы» выслуживаются! – Полевой явно входил в раж шута, наслаждался его безграничной вольностью, его безответственностью, его сладким цинизмом. Ведь сам он был вправе не верить в то, что говорил, но другие обязаны были верить и трусить, иначе должна была последовать месть, обучающая испуганных наблюдателей, чем их больше, тем лучше, доверчивости и дисциплине, – И что же выходит теперь, по-твоему? А выходит, если я еще не сбежал, то я того…, а он, значит, нормальный?
– Ничего не выходит! Не может же быть, что вся наша страна безумная! Есть, конечно, какая-то прослойка, но в целом… – Саранский не желал поддерживать тот же тон, опасный, непредсказуемый, способный вдруг перерасти в гнев власти, окаменеть в ее абсурдной ярости, как ни раз бывало на его глазах, с другими людьми. Шутовской, издевательский разговор, в горячем ядре которого барахталась какая-то нелепость, вдруг становился роковым, обвинительным, жестким. С тяжелыми последствиями, с болью… Поражало мгновенное перерождение в холодящую форму зрелого, безжалостного, волчьего закона – словно с губ жутковатого клоуна сползала широкая, нарисованная яркой помадой, улыбка, и вперед выступали крепкие зубы, белые, острые клыки. Они были истинными, небутафорскими. Они были – государственными, надежными.
Саранский заметно нервничал, сердился.
– Так как мы станем Постышева убеждать? – дрогнув голосом, с истерикой в голосе вскинулся Андрей Евгеньевич.
Полевой хитро усмехнулся и похлопал рукой по папке, которая лежала перед ним.
– Мы убеждать никого не будем. Это за нас сделают вот эти милые бумажки! И ты, ваше преосвященство, их ему и передашь.
Если бы непосвященный человек услышал этот странный разговор, то решил бы, что присутствует либо на беседе клинических идиотов, либо идет репетиция сатирической пьесы, в которой состязаются в «коверном» юморе провинциальные комедианты. Эдакая ехидная моцартовская «Волшебная флейта», адаптированная к концу двадцатого столетия.
Но было бы заблуждением полагать, что люди, разыгрывавшие друг перед другом эти свои странные роли, не отдавали себе отчета в том, как они выглядят в настоящий момент и какое впечатление произвели бы на случайного свидетеля.
Однако же служба, к которой оба имели самое прямое отношение, случайных свидетелей никогда не терпела и не терпит до сих пор, а если они вдруг там появляются, то их дальнейшей судьбе не позавидуешь. Поэтому оба нисколько не заботились о том, что кто-то их увидит, услышит и что-то там такое подумает. Они знали правила игры в своем профессиональном пространстве и то, что кто-то из них в конце концов сдастся и, подняв кверху лапки, примет «дурацкий» тон того, кто окажется сверху, было крайне важно. Побеждал лишь тот, кто настаивал до самого конца на своем праве вещать вслух о «серьезных» вещах в шутовском тоне, ёрничая и кривляясь. Побежденный же должен был принять это смиренно и отвечать всерьез, без улыбок и без сомнений в важности происходящего. Таков был и остается птичий язык в этой хищной стае.
Как известно, в уголовной среде такое капризное «ломание», подобие депрессивной истерики, тоже принято. Достаточно просто даже вслушаться в блатные напевы… Возможно, те, кто придерживался в специфической государственной службе шутовского, разнузданного тона, ясно чувствовал свою социальную или даже классовую близость с разухабистой, веселящейся своей неисправимостью, городской шпаной. Беда в том, что не только на словах было сходство, но и в приемах, в деле. Так осталось и по сей день. Не всегда, например, отличишь ресторанное застолье выходцев из «славных органов» от пошлого загула воровской, припадочной «малины». Нет порой различия и в работе – никаких ограничений, даже самых малых. Только бы боялись! Только бы отдавали по первому требованию то, что капризно у них требуют, даже если за этим последует катастрофа для отдающего. Весело же! Круто! Волшебная флейта, да и только! Почему бы не «пошутовать»! Почему бы не побиться в припадке! Кто-нибудь посмеет запретить? Попробуйте!
И все же каждый отдельный случай в мире специальных служб требовал собственной формы, несмотря на то, что всё было объединено общей технологией. Несомненно, серьезные участники серьезных операций к такому жанру, как в случае с Полевым и Саранским, относились с презрением. Деятельность профессионалов, занятых сложными разработками, всегда регламентировалась строгими правилами, принятыми специальными службами всего мира так, будто все они имели один учебный центр, одно управление кадров и одного начальника. Здесь не оставалось места иносказаниям, коварным шуткам и издевательскому кривлянию. Напротив! Все было всерьез, и любое отступление от этого правила каралось безжалостно. Другое дело, чем занимались и занимаются даже столь серьезные мужчины, и всегда ли форма соответствует содержанию!
Но то, что происходило на этот раз в Кёльне и то, что началось еще в Вене, с самого начала относилось к разряду абсурдных явлений. Поэтому здесь как раз форма вполне совпадала с содержанием, и шутовство полковника Полевого было совершенно органично.
Однако же то ведомство, которое разворачивало, порой, серьезные политические операции, имея тогда дело с равным противником, постоянно умудрялось опускаться до случаев, которые выглядели бы совершенно анекдотично, если бы не тянули за собой тяжелых человеческих трагедий.
Частота подобных «спектаклей» со временем увеличивалась, требуя набора в кадры подобного рода исполнителей все больше и больше. К тому же, начиная с семнадцатого года прошлого столетия, ВЧК, преобразуясь в ведомства с другими названиями, на самом деле оставалась прежней, и практику гонения людей, выбивающихся по каким-то причинам из общего ряда, развивала неустанно, параллельно с вполне традиционной, объяснимой с точки зрения разумности и достаточности, разведывательной деятельностью.
С годами крен в сторону распухания инквизиторских амбиций ведомства становился все более заметным, а желание его даже самых мелких исполнителей быть на виду и с маниакальной настойчивостью демонстрировать цепенеющему обществу свои служебные полномочия бросали на всю систему жутковатую тень политического слабоумия, солдафонской самовлюбленности и исключительной злопамятности и мстительности. Это с самого начала противопоставляло друг другу внутри самой системы антагонистичные человеческие типы (они и в обычной-то жизни не смогли бы общаться!), провоцировало жестокие «чистки», причем, обычно в пользу самых беспринципных особей, что роковым образом вело к проникновению в закрытое сообщество интеллектуалов и профессионалов высочайшей категории этого особого генотипа прохиндеев и жуликоватых проныр. Там, внутри, они угадывались с первой же минуты, как и узнавались снаружи, посторонними (в отличие от интеллектуалов ведомства). Их характеры, их культурный и образовательный уровень, их особая дворовая порода была грубо выписана (сохранившись до сих пор) на пышущих здоровьем лицах, сближающих тем самым между собой до трогательного братского родства примитивные лики начальства и их же шоферов.
Многое, если даже не всё, зависело от высшего руководства ведомства – стоило туда, в ответственный командный предел, попасть выходцу из этой канальей породы, и дальнейшее массированное проникновение его беспринципных собратьев даже в те подразделения, в которых требовались люди исключительно профессиональные, было предопределено. Где один таракан – там их легион…, потому что имя им Легион.
Во время развертывания надуманных операций (а их становилось все больше и больше – они уже с головой захлестывали систему) начинали действовать другие правила, нежели в профессиональном сообществе. Иначе, в нашем конкретном случае, то есть в постышевском деле, ничего бы не вышло.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































