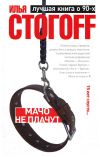Читать книгу "Пушкинский дом"

Автор книги: Андрей Битов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Его научили – его даже учить не пришлось, сам усвоил – феномену готового поведения, готовых объяснений, готовых идеалов. Он научился все очень грамотно и логично объяснять прежде, чем подумать. И семья, и школа приложили все свои силы, чтобы обучить его всему тому, что не понадобится впоследствии.
Не видя вокруг примера, по высоте и красоте близкого их семье, Лева обучился еще некой абстрактной и невнятной избранности и исключительности. Но поскольку преподавалась, тоже личными примерами, простота, скромность, высокомерная втайне демократичность – то это нисколько не мешало ему в общении и контактах с внешним миром, а лишь плотнее затягивало на нем крышку, уже без всякого допуска воздуха. Избранность в самоощущении – тоже одно из средств изоляции, а следовательно, и защиты – и это он тоже усвоил, и так же бессознательно.
Так они и проплавали в своем крепостном аквариуме все Левино «Детство. Отрочество», – «Юность» была все-таки уже подвержена времени. Были они как глубоководные рыбы: под давлением победившего класса, в полной темноте, в замкнутой системе самообеспечения: со своим фосфором и электричеством, со своим внутренним давлением.
Это Леве – предстояло быть вытащенным на поверхность и разорваться на кусочки от невыносимости собственного внутреннего давления!.. Ничего, кроме полноватой (на мучном, без витаминов) души, чуть бледной от недостатка света, но красивой и нежной, выращенной как бы на преждевременно (приоритет!) открытой гидропонике, – у Левы не было. Душа – была…
Он был чист и необучен, тонок и невежествен, логичен и неумен, когда окончил школу, влюбился в Фаину и встретился наконец с дедом. К этому времени он не знал (и это буквально) таких слов, как: измена и предательство, репрессия и культ, еврей и жид, МВД и ГПУ, пенис и клитор, унижение и боль, князь и жлоб.
Да, в этом, втором, Левином семействе все были люди исключительные, ни разу не поступившиеся ни долгом, ни честью, ни совестью. Но, добавим, до тех пор, пока это не угрожало их жизни. Но они, по свойствам своего ума, совершенно честно и искренне не видели в этой жизни тех коллизий, в которых наличие у них долга, чести и совести неизбежно привело бы их к трагическому концу. Но если бы они только увидели, если бы их однажды поставили в положение, при котором решительное «да» или решительное «нет» решало бы не только их судьбу, но и судьбу другого, то они, безусловно, не поступились бы ни честью, ни совестью и ответили бы то «да» или то «нет», которое соответствовало бы их представлениям о правде. Но такого случая им, практически, не выпало. Это был феномен «честного везения».
Итак, честность и безопасность. Никаких предательств в этой семье быть не может. Возвращается дед. (Это нам также хочется сохранить, это совпадает в обоих вариантах.) Но никто из домашних ни в чем не повинен и не запятнан в его судьбе. Это праздник в семье – его возвращение. Дед – красив и неожиданно молод. Он прочно и достойно выдержал все выпавшие ему испытания (сократим ему в этом случае срок лет на десять). Он вернулся с ясной головой, все сохранив и ничего не утратив, – ему идет академическая ермолка. Все было бы совсем прекрасно, но дед тоскует по месту последней ссылки (где-то, кажется, в Хакасии) и возвращается туда. Там он некоторое время преподает в пединституте и заведует краеведческим музеем. Ни за что не хочет ехать ни в Ленинград, ни в Москву, несмотря на многочисленные приглашения, потому что его имя начинает всплывать, его многие помнят и знают и назревает репутация «великой судьбы великого человека». Потом Лева, уже студент, едет к деду – и все выясняется. Там в деда влюбилась одна старая и прекрасная девушка, и у них родился сын! В его-то годы! Все горды. Дед выглядит молодцом, на комплименты отвечает комплиментом себе же – достает из часового карманчика маленькую черную фигурку: редчайшая вещь, хакасский божок плодородия, владеющий им – сам священен, за обладание им могут вестись набеги и войны, деду он достался при чрезвычайных обстоятельствах, когда на нарах скончался другой великий вождь, последний шаман крошечного племени. За столом Одоевцевых семейно посмеиваются над этой лестной историей. Лева отсылает деду все чаще появляющиеся корректуры его старых статей, дед их возвращает без слов, но против публикаций не возражает. Деда по-прежнему зовут в семью, домой. Он говорит, что теперь у него здесь дом. Ему говорят: наш дом не только твой, но и ваш дом. Все это превращается уже в семейную, удобную, с выверенным ритуалом игру… И тогда дед приезжает с сыном и вечной девушкой: худенькая, тонкие косички в кулачок – сначала ее немножко, хотя и очень деликатно, чураются, но потом, договорившись, полюбляют всем сердцем… Дед, однако, не вынес, не снес и, оплаканный, сходит… Вокруг его похорон происходит все та же торжественность и свадьба – и вот мы снова в той же точке романа.
Однако нас чуть не вывернуло, пока мы дописывали все это. Положа руку на сердце… нам больше нравится первый вариант Левиной семьи. Он нам больше по сердцу, на которое мы положили сейчас руку. Первое Левино семейство нам кажется чуть ли не честнее, «сюжетнее» второго. Потом мы уже привыкли к дяде Диккенсу, а сюда он не поместился. Вообще эти психологические феномены, где плюс отталкивается от минуса вопреки естественным законам, эти мутации души… Мы и так мужественно пишем, но у нас не хватает терпения. Уж если ты реалист, приходится брать реализм под силу… Бог с ними, с этими мутантами, ибо их есть царствие небесное! Они хорошие люди.
Так что мы останавливаемся на первом варианте.
…В заключение мы как бы входим в большой и пустой класс, подходим к грифельной доске, достаем из-под тряпки промокший мел, который так плохо, бледно и противно для кожи пишет… И рисуем на ней всякие формулы, преподанные нам заборами, сараями и лестницами.
И среди них, в частности, мы пишем:
ОТЕЦ – ОТЕЦ = ЛЕВА (отец минус отец равняется Леве)
ДЕД – ДЕД = ЛЕВА.
Мы переносим, по алгебраическому правилу, чтобы получился плюс:
ЛЕВА + ОТЕЦ = ОТЕЦ
ЛЕВА + ДЕД = ДЕДо ведь и:
ОТЕЦ = ОТЕЦ (отец равен самому себе)
ДЕД = ДЕД.
Чему же равен Лева?
И мы стоим у доски в эйнштейновской задумчивости…
Наследник
(Дежурный)
На берегу нашей знаменитой реки есть место, хотя и в самом почти центре, но еще не одетое в гранит и не заасфальтированное. Там навечно стоят несколько барж, ржавеют и рассыпаются. У самой воды – узкая песчаная полоска, замусоренная корой и прочей дрянью. Из воды торчат полусгнившие сваи, черные и острые. Дома на набережной – особняки, в основном – очень замечательные, старинные. Некоторые из них с мемориальными досками, а некоторые охраняются государством.
Там и находится бывший дворец, а ныне – НИИ, научный центр мирового значения. Там бережно хранятся, исследуются и т. д. рукописи и даже некоторые личные вещи, принадлежащие давно почившим, от одних имен которых не может не забиться всякое русское сердце. Место как бы специально приспособлено для тихих, глубоких и уединенных занятий, внушающих всяческое уважение. Трудно даже представить себе в большом шумном городе, второй столице, другое такое же место, столь же подходящее. На набережной в этом месте почти не наблюдается движения…
С год назад сюда прибыл большой строительный отряд, приплыла по реке всяческая техника, и вроде бы начались работы по реконструкции набережной. Некоторое время сотрудники института отвлекались от своих занятий и смотрели в окна. Там заколачивали сваи. Зрелище это в своей мерности словно специально предназначено для того, чтобы его рассматривать. Казалось, жизнь, до сих пор огибавшая набережную и институт, ворвалась сюда со своим бурным кипением, как врывается она у нас повсюду. Но сваи стали забивать все реже, а рабочие, казалось, в основном обедали или завтракали, рассевшись под поднятой бабой и развернув свои свертки, и достав заткнутые бумажными пробками бутылки. Ели они до того аппетитно, что сотрудник, пробегавший в это время по коридору, очевидно по делу, не выдерживал и спускался в буфет – брал там язык или слойку и проглатывал ее с разочарованием.
Потом и рабочие куда-то делись, и не было видно, как они завтракают. Техника стояла. А движение по набережной, прекращенное в связи с началом работы, не возобновилось. Так что место это в результате стало еще более тихим. Только что и появлялись иногда киношники… Они не могли избежать этого места, по-видимому, потому, что здесь сохранился булыжник. Они расставляли свою технику и бегали во все стороны, появлялась глупая черная пролетка, запряженная невиданными одрами, и снималась сцена конспиративного свидания молодого террориста со своей невестой или другой революционный эпизод.
Это тоже развлекало сотрудников, и свои научные беседы они, по двое, по трое, вели тогда у окна… Небо прочерчивал реактивный самолет, и это оказывался тот самый кадр, который надлежит выстричь.
Здесь и работал Лев Одоевцев. Ему, как никому другому, пристало работать в таком институте. Хотя бы как внуку Одоевцева. Работал Лева хорошо, уже не так увлеченно, как в студенческие годы, но и без скуки, слыл многообещающим. Он писал диссертацию «О некоторых особенностях или чертах…». В ней он интересно разрабатывал одну из веточек посаженного дедом дерева, и диссертация быстро подвигалась. В «ученых» разговорах Лева научился с легкостью различать, когда Одоевцевым называли его знаменитого деда, а когда его самого, и не сбивался, как когда-то, и не краснел, как мальчишка.
Тем более что про себя он полагал, что краснеть ему не за что. Оборачиваясь и поглядывая вокруг, он обнаруживал удобное отсутствие конкуренции: никто ничего не мог, никто ничего не умел и никто ничего не хотел. Лева же – умел и мог (по сравнению…), а вот хотел ли? Когда-то, во всяком случае, и хотел…
Еще в аспирантуре была им написана очень неожиданная, по времени, уровню и обстановке, некая большая статья «Три пророка», о трех стихотворениях – Пушкина, Лермонтова и Тютчева. Статья эта не была опубликована, но наделала «внутреннего» шуму: ее многие прочли, и она произвела… Работа была, может быть, не строго научна, но, пожалуй, талантлива и написана хорошо по-русски, таким летящим, взмывающим слогом, но главное, что и поразило, что и произвело… была внутренне свободна. Мы видели ее однажды на кафедре, уже желтую, с потрепанными ушами… Она там хранилась, по-видимому, как беспрецедентный случай. Ею гордились, не перечитывая, и кое-кому, из-под полы, показывали. Так прочли ее и мы… Статья во многом наивна сама по себе, во многом стала наивной за эти годы, но она по-прежнему свежа тем, что она не о Пушкине, не о Лермонтове и тем более не о Тютчеве, а о нем, о Леве… в ней сказался его опыт. Нам очень хотелось бы прямо здесь пересказать ее, но уж больно это нарушит нам сейчас композицию, которая уже начинает нас заботить… Мы, однако, постараемся улучить однажды момент.
И Левина роль в освоении дедовского наследия, и статья «Три пророка», которую все читали, и статья «Опоздавшие гении», которую никто не читал, и статья «Середина контраста» (о «Медном всаднике»), главы из которой кто-то читал, и кое-какие высказанные вслух замыслы, намерения и суждения сыграли значительную роль в создании репутации. У Левы она была.
У Левы была определенная репутация, то есть та самая неопределенная вещь, к которой все инстинктивно стремятся, но не все обладают. Очень трудно четко выразить, что это такое – репутация – и из чего состоит. Но мы попытаемся окружить ее многими невнятными словами, с тем чтобы потихоньку сомкнуться вокруг понятия. То есть мы хотим попытаться справиться с задачей не словами, которых нет для определения столь любопытного, но ускользающего явления, как «репутация», – а стилем, напоминающим по фактуре ее поверхность…
Итак, у Левы эта определенно-неопределенная вещь была. Левиной особой заслуги в этом, впрочем, не было, она получилась как бы сама собой, но, обнаружив ее, уже существующую, Лева как бы ею воспользовался и постарался в ней утвердиться. Действия его в этом направлении постепенно становились все более сознательными, и он как бы поддерживал ровный огонь в очаге, без его ведома зажженном. Это не требовало особых сил и напряжения и даже отдавало игрой до поры. Репутация эта сводилась в общем к тому, что Лева никогда не делал черную и легкую работу, что в стенах данного института совпадало, а лишь чистую и квалифицированную.
То есть он не вылезал на тех или иных выгодных идеологических поветриях, чтобы выступить там со статьей или речью лишь для того, чтобы всем стало видно и ясно, за что ее автор и против чего он, и чтобы эта откровенная очевидность сразу была кем надо замечена и пошла данному автору в пользу. Нет, Лева в подобных ситуациях сохранял некую трезвую ясность мышления и не бросался сгоряча кого-то поддерживать, а кого-то осуждать хотя бы потому, что ему было ясно, что этой конкуренции, требующей совершенно тоже определенных качеств, ему не выдержать. К тому же небольшого ума требует, взглянув на все, понять, что выигрыш тут мал и временен и все совершенно вилами по воде писано: выигрыш ли еще это, – а скорее всего, что и нет, потому что необходимость столь определенно высказаться, хотя и с полным обеспечением, может иметь потом, и даже вскоре, самые невыгодные последствия в случае возможной перемены самого обеспечения, и тогда все те, кто не высказался столь определенно, начнут с радостью тыкать тебя носом в собственную определенность и твое падающее знамя будет мигом подхвачено другими, полными готовности руками. Лева все это понимал, даже, может, и не понимал, потому что так понимать – это слишком уж откровенно и цинично, и обвинять в этом Леву все-таки несправедливо, но, во всяком случае, он хорошо это чувствовал.
Он занимался своей незапятнанной стариной и не изменял ей, и эта определенность его снискала к себе доверие в определенной интеллигентной среде, иногда называемой либеральной. Эта-то его чистоплотность, по которой он никогда не лез, вовсе уж забывая о средствах, чтобы что-то себе урвать внеочередное, безмерное, а потихоньку брал свое, в конечном счете выигрывая, потому что обходился тогда хоть и без крупного выигрыша, но и без проигрыша, – эта его чистоплотность была и не чистоплотностью вовсе, а, быть может, лишь инстинктивным или фамильным нежеланием ходить под себя, попросту кое-какая культурная привычка к санитарным нормам, но она именно создала Леве ту его репутацию.
Эта репутация, как правило, считается прогрессивной и невыгодной, но это скорее распространяется теми самыми людьми, которые ее носят, – она по-своему выгодна, потому что, обладая ею, человек попадает в совершенно определенный круг незаметной поддержки, как бы по национальному признаку, и не пропадет. А люди эти, всегда наиболее квалифицированные, сохраняют и поддерживают свою необходимость обществу, и ты сам тогда тоже как бы необходим. В общем, Лева не хотел принадлежать ни к людям, которые только что говорили «белое», а назавтра уже, по внезапной перемене, утверждают – «черное»; ни тем более к людям, которые хотели бы быть столь же подвижными, как первые, но это им не удается, и они всегда немного позже начинают говорить «черное» вместо «белого», несколько позже перестраиваются и оттого попадают впросак; ни тем более к совсем неудачникам, которые совсем уж поздно подхватывают всеобщее поветрие и решаются наконец произнести «белое», когда уже назрело «черное» и самые ловкие уже почувствовали это и, с бросающейся в глаза самоотверженностью, это «черное» уже снова провозглашают. Не хотел Лева принадлежать и к той максималистской, наиболее либеральной группе, которая всегда, подчеркивая свой проигрыш, утверждает обратное официальному мнению, тут он охотно поддерживал то мнение, что такими крайними мерами ничего не добьешься, а скорее, наоборот, все испортишь. В общем, что бы ни утверждали люди: А вместо Б или наоборот, – Лева предпочитал свое, к примеру, В, или даже Щ, пусть не самые актуальные, но остающиеся в своем значении и почти не подлежащие девальвации. Исходя из этой же репутации, Лева не старался выдвинуться по общественной линии, то есть избежал общественной работы, что в принципе просто соответствовало его склонности, фамильной интеллигентской инертности, защитной, впрочем. Такие люди подскакивают в момент крутых поворотов, как постоянные, честные и в то же время не отпугивающие своими крайностями. Лева уже так раза два потихоньку подскочил, в последний раз совсем недавно; он стал редактором-составителем одного важного коллективного труда, ему была почти обещана стажировка за границей, как только он защитит диссертацию. Самое прекрасное, что его кандидатура ни у кого не могла вызвать возражений, Лева не оставлял следов, а потому впереди открывалась ему широкая и гладкая дорога, по которой дальше всего можно пройти незамеченным.
Как было уже сказано, он поддерживал ровный огонь своей репутации, и до поры это даже отдавало игрой, почти искусством, где художник постоянно использует случайность, им самим нежданную и возникшую лишь в процессе творчества, а из управления этой случайностью – возникает свежая краска. Это было игрой до тех пор, пока репутация упрочилась настолько и настолько набрала сил, что чуть не вышла из-под Левиного подчинения, потому что уже слишком сильно определяла все его действия, то есть выходила из-под власти и заставляла иногда действовать не так, как ему бы хотелось, или не позволяла действовать так, как хотелось. Короче, однажды возникла ситуация, когда Левина репутация заставляла его поступить совершенно определенным и совершенно невыгодным, более того, ставящим все под удар образом. Лева, до сих пор не испытывавший особых затруднений со своей репутацией, не знал, что теперь с нею делать, и устрашающим образом потерялся. Он как бы дрожал в кресте прицела, причем наведены были сразу два пулемета – один на него, другой на репутацию, – от него требовалось лишь «да» или «нет», а он совершенно не знал, как тут быть. То есть, с одной стороны, он очень хорошо знал, что «да», но в этом случае нажималась гашетка одного пулемета – тогда уж «нет», но в этом случае срабатывал второй. Репутация, существовавшая до сего дня как бы сама по себе, бесплатно, потребовала плату – поступок.
Дело касалось его старинного друга, самого близкого (настолько, насколько это было возможно у Левы), положение было отвратительное, разбирательство очень тяжелое и чреватое (друг этот не то что-то написал, не то что-то подписал, не то напечатал, не то вслух сказал…). Лева не то был замешан, не то касался боком… От него – требовалось. Он совсем потерял себя и ходил вовсе без лица и без языка, окончательно мычал, и все бы, конечно, кончилось плохо, если бы вдруг не сошлось самым удивительным образом: заболела тяжело мама, подошел отпуск, он был срочно отозван в Москву на совещание, умер дед, одновременно Лева выиграл в лотерею заграничную поездку, к нему на время вернулась старинная любовь, и он заболел гриппом с тяжелыми осложнениями. Короче, на всех этих разбирательствах он был лишен возможности присутствовать, а когда смог, все было решено, и друга уже не было. То есть он был, но где-то уже не в институте, а встретившись раз на улице, не подал Леве руки и как бы не заметил. Лева отнесся к этому почти спокойно, с удивлением обнаружив, что, пожалуй, они и не были такими уж друзьями, как казалось, потому что не нашел никакого в своей душе волнительного движения ни навстречу, ни против друга. Хотя до этого очень переживал, как они встретятся… Вся эта история вызвала в Леве смутное и неприятное воспоминание – тень деда, и он прогнал эту тень. Репутация Левы несколько покачнулась и упала, особенно в умах крайних, у остальных же осталась почти такая же, потому что слишком много объективных неподдельных обстоятельств сопутствовало этой истории и почти Леву оправдывало. Потом вообще время идет и все забывается, и мало ли…
В общем, в таком, незавышенном, виде эта репутация теперь была даже более удобной, спокойной и безопасной. Она была – ее как бы и не было. На Леву чересчур не рассчитывали, а насколько рассчитывали, настолько уж он и не подводил. Лева же стал опасаться слишком близких дружеских и обязательных отношений и стал сохранять в основном приятельские, неблизкие и необязательные. Приятелей оказалось вдруг очень много.
В личной жизни Левы Одоевцева тоже все обстояло, можно сказать, благополучно. Он по-прежнему жил с родителями и пока женат не был. Мама гадала на этот счет безуспешно. У Левы было три подруги, которых мама называла «приятельницами». (Диких их имен, столь характерных для Левиного поколения, она не могла произнести…) Так постепенно получилось, что три, и именно эти три. В первую он был безнадежно влюблен еще со школьных лет. Он бегал за ней, она – от него. Лева даже терял голову и, как говорила мама, «делал массу глупостей», но, несмотря на эту «массу», все оставалось все-таки на своих местах. Эта женщина изредка даже приходила к нему, но в основном уходила. Она побывала замужем, и развелась, и снова теперь собиралась выйти – Лева же был по-прежнему рядом и никуда не уходил. И он и она привыкли к этому. И всякий раз, срываясь в любое время дня и ночи по любому ее капризному звонку, Лева с удивлением думал, что делает это хоть и опрометью, хоть и сломя голову, но и как-то чуть ли не спокойно одновременно. У него уже как бы вошло в норму и привычку обивать эти пороги.
Вторая же приятельница была, наоборот, со школьных лет безнадежно влюблена в Леву – он же ее и вовсе не любил. Тут наступало как бы равновесие: Лева помещался между этими двумя женщинами как бы в середине, как бы не трогаясь с места. Вторая приятельница покорно исчезала каждый раз, когда Лева окончательно расставался с ней, существовала где-то в неизвестности и с поразительным чутьем объявлялась вновь, когда Леву выгоняла первая приятельница. Она появлялась как примочка на ссадине, снимала отчасти Левино унижение, принимая от него – свое, и он позволял ей это.
Третью же приятельницу можно было бы вообще не поминать, разве из авторской дотошности… Никакие сильные чувства их с Левой не связывали. Они вроде бы ничего друг от друга не требовали, хотя что-то друг от друга и получали, они не давали друг другу никаких обещаний и не испытывали никаких обязательств, но тут как раз и наблюдалось некое постоянство и верность, каких не могло быть в первых двух случаях. Какие-то неписаные правила и рамки были, впрочем, и в этих отношениях.
Таким образом, и в этом вопросе у Левы возникло равновесие, ритм, даже режим, настолько размеренный и привычный в своей невыносимости, что легче казалось принять его, чем изменить. Умолять одну, не любить другую, иметь третью… Они существовали порознь, и от каждой он получал свое, но они составляли и что-то одно: ту одну женщину, которой не было, да и быть не могло.
Мы привыкли думать, что судьба превратна и мы никогда не имеем того, чего хотим. На самом деле все мы получаем свое – и в этом самое страшное… Лева с детства мечтал о научной работе в тихом солидном институте, вроде Ботанического, что напротив его дома. Можно, конечно, сказать, что это была несерьезная, даже глупая детская мечта. Лева о ней и думать забыл, когда метил и попал в свой институт на набережной. Но мечта эта, при всей нелепости формы, все-таки была, и она сбылась: Лева работал точно в таком институте, таком же академическом, в таком же старинном здании, в таком же тихом и красивом уголке родного города, и вот уже диссертация на сносях, в неполные его тридцать… Лева любил и хотел одну только женщину, тоже почти с детства, и вот хотя она и не полюбила его, но и никуда от него не делась, и он даже получил ее по-своему, хотя и в трехстворчатом виде. Тут неправильно, конечно, сказать: сбылась и эта мечта, – но что-то в этом роде произошло: ритм, временами – успокоение.
В общем, Лева получил свое. И не то чтобы дорожил этим или полагал, что в этом и счастье… Но это была уже не Юность, а его жизнь. И в этом – все дело.
В таком положении обстояли дела с Левой накануне Октябрьских праздников 196… года.
Именно в эти обрядные дни прочной Левиной репутации суждено претерпеть серьезнейшие испытания: столь неожиданно покачнуться, почти рухнуть и все-таки устоять. Это, быть может, и есть, вернее, должна быть – главная история в романе, его сюжетный узел. И что весьма любопытно, угроза эта нависнет без какой-либо политической или идеологической ошибки или промашки с Левиной стороны. Казалось бы, чистый случай, гримаса судьбы, неожиданное помрачение…
На праздники Леву оставили дежурным по институту. Было у них такое заведение. По разным обстоятельствам, одним из которых была предстоящая защита, Леве было на этот раз не отвертеться.
Свой первый же, предпраздничный еще, вечер дежурства Лева провел в совершенной и все возрастающей тоске. Он то звонил Фаине, то хватался за диссертацию и впадал от нее в уныние и, впав, начинал перебирать разрозненные свои «сокровенные» заметки. Они казались ему гениальными, и тогда он еще более удручался оттого, что их забросил, и снова звонил Фаине, пытаясь все-таки выяснить отношения и тем самым еще более осложняя их. Хотя куда уж более… Фаина перестала поднимать трубку.
Лева так и уснул на директорском диване, чуть ли не с телефонной трубкой в руке. Приснился ему страшный сон, будто ему надо сдавать нормы ГТО по плаванию, прямо около института, в ноябрьской Неве…
Разбудил его звонок Митишатьева…
. . .
(Курсив мой. – А.Б.)
И – стоп. Мы стоим на берегу лелеемого с самого начала сюжета, он вспухает буруном перед нами – но здесь, оказывается, нет брода, не перейти: нас сносит вспять к началу повествования и выбрасывает на тот же неуютный берег, почти к той же точке, из которой мы начали свое путешествие…
Казалось, своротили валун… А он опять на дороге. Будто мы не прошлись по всей Левиной жизни, от упомянутого вскользь рождения вплоть до обозначенной еще в самом начале смерти, ибо сейчас нас отделяет от нее лишь день или два. Но что мы, собственно, про самого-то Леву рассказали?.. Ну, дедушка… скорее наше пожелание, а не дедушка. Ну, отец… скорее дядя, чем отец. Отца-то почти нет. Убрать несмелый намек – то и вовсе его нет. И сам Лева… лишь косым лучом сквозь случайную щель – край уха и глубокая тень под подбородком, – обошлись без портрета. Голос его еле слышен за стенкой: чем он там занят, кому звонит, чей номер помнит наизусть?
Какая Фаина? откуда Митишатьев? что за «сокровенные» листки? Мы уже не раз обмолвились, что расскажем о чем-то потом; нам было некогда, а теперь – уже негде. Грустно обнаруживать, что, идя последовательно, мы настолько забежали вперед, что отстали от собственного повествования.
Возможно, такая неполнота возникла по одной лишь причине: сейчас у нас другое прошлое, чем было тогда, когда оно было для себя настоящим. Глядя то с той, то с другой вершины на одну и ту же точку равнины, мы видим разный пейзаж. Каждое из двух изображений не полно, и они несовместимы. Мы рассказали всю Левину жизнь из сегодняшнего дня, представив Леву равноправным и полномочным участником исторического процесса. Возможно, теперь он сам именно так вспоминает свое прошлое и узнал бы себя в нашем изображении. Но если бы он читал все это тогда, когда это с ним происходило, то никогда бы не признал себя в герое, ибо крайне сомнительно, чтобы люди свидетельствовали о своем участии в историческом процессе изнутри процесса. Так что, хотя все, что описано здесь, было с Левой, – он-то об этом понятия не имел. Для себя-то, пожалуй, он имел только одно понятие… и не знал, что его любовь – исторична.
Итак, рассказав все, мы ничего не рассказали. Мы рассказали все, что могли, об «отцах» и почти ничего – о «детях». Те герои, о которых мы успели рассказать, умерли, а главные герои той главы, которую мы наконец собрались писать, – все еще отсутствуют. Нет чтобы обойти ту яму, где недавно лежал валун, – мы хотим через него перелезть. Здесь пролегает естественный раздел. И прежде чем нам удастся продолжить, нам придется пересказать всю нашу историю заново, с тем чтобы уяснить, чем же она казалась герою, пока он в ней был жив.
И это будет другая история. Она будет об одной любви.
И хотя нас вправе упрекнуть (уже упрекнули), что мы способны рассказывать лишь все по порядку, «от печки», мы считаем это правильным, то есть иначе не можем. Ибо и у нас есть право…
Во-первых, потому, что более правильной последовательности, чем временная, все-таки нет: именно в ней содержатся не только нами открытые закономерности, но и те, которых мы не улавливаем до сих пор. А во-вторых, эпоха, которой принадлежит Лева в первой части, и время, которому он будет подлежать во второй, позволяют, как нам кажется, рассказывать порознь и по очереди почти обо всем, что нас окружило, как о не принадлежащем друг другу. Отдельна жизнь от истории, процесс от участника, наследник от рода, гражданин от человека, отец от сына, семья от работы, личность от генотипа, город от его жителей, любовь от объекта любви. Не только между страной и миром опущен занавес, но повсюду, где только есть на что повесить, колышется множество как бы марлевых занавесок, одной из которых человек занавешен и от самого себя.
Подумать только, лишь десять лет с небольшим проходит, и уже объяснять надо, как могло быть такое, как мог быть такой Лева! Да ведь обучение раздельное, забыли?.. Как все отдельно, так и мальчики и девочки. Как не ведает Лева о том, что он князь, так и не ведает он, откуда завелся в нем некий идеальный образ, дымком стоящий в его душе. Поэтому, естественно, должен был этот образ достаться первой же встреченной им женщине. Так и есть: лишь секунду потрепетав от полного несоответствия, он тут же полностью и совпадает. И уже Фаина была той самой взлелеянной в мечтах и под партой, а в недоразвитой родовой его памяти произошла полная перестройка – история подчищена, подскоблена под Фаину.
Вот и придется рассказать ее заново, параллельно первой. То есть предстоящая нам вторая часть романа является лишь версией и вариантом внезапно завершившейся первой. Какой из вариантов точнее? Нам кажется, что второй, ибо он реальнее. Зато первый вариант истиннее. Но если мы употребили слова «реальный» и «истинный» в такой относительной форме, то – о чем еще говорить?.. Нам кажется, что во второй части Лева будет более реален, зато он живет в максимально нереальном мире. В первой же части куда реальнее был окружающий мир, зато Лева в нем совершенно нереален, бесплотен. Не значит ли это, что человек и реальность разлучены в принципе? Немножко сложно…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!