Текст книги "Аргонавт"
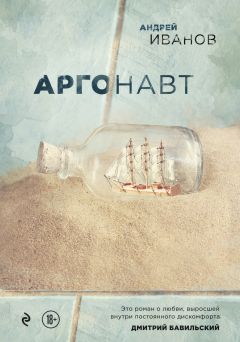
Автор книги: Андрей Иванов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
2
Утро.
Кого ты ищешь в этой комнате?
Раннее черствое утро.
L’air est puant, le ciel implacable[8]8
Воздух вонюч, небо безжалостно (фр.) – парафраз из поэмы Ш. Бодлера «Хмель убийцы».
[Закрыть].
Чье это тело?
Птица? Собака? Человек? Скот?
Одно дыхание у всех.
Кто?
Dans ce lit fleurdelisé se transforme en tombeau[9]9
Моя постель в гербах цветет, как холм могильный (Ш. Бодлер. Сплин. Перевод Эллиса).
[Закрыть].
Oh.
Руки-ноги набекрень, как собака. Приоткрыв один глаз, как птица.
Embryo in utero.
Sleep, sleep! – the world doesn’t exist yet[10]10
Спи, спи! – мир пока не существует (англ.).
[Закрыть]. Он ронял голову, как девочка – мячик. Поклонялся и Симу и Реглу. Плыл, покачиваясь, как буй: то сон, то явь. Крик за ним летел, как ветер, вращая полоски: красная, белая, синяя; и обратно: синяя, черная, белая…
Перевернуться. Нет сил.
В троллейбусе, я кричал на людей в троллейбусе:
Ma femme est morte, je suis libre![11]11
Моя жена мертва, я – свободен! (фр.) – «Хмель убийцы» Ш. Бодлер.
[Закрыть]
Строка выворачивалась из своей кожуры в стеклянной будке прямо на скамейку, кто угодно мог видеть.
Свесившись у края могилы, упирался рукою в рассвет. Руки грязные. Капли крови блевотины вина моря смертельной усталости на рукаве рубашки. Рубцы. Ноги болят. Ходил. Много ходил. Ботинки. Возвращался босиком. Вчера…
Je me suis couché sur la terre et je dormais comme un chien![12]12
Я укладывался на землю и спал как собака! (фр.)
[Закрыть]
Бумажные ирисы и гиацинты.
Где видел? На зонтике? В цветочном? На машине? В окошке?
Заплатки памяти. Опечатки похмелья. Wasawis[13]13
Сомнения, шепот Сатаны, демоны (араб.).
[Закрыть]. Холодно. Осень.
Кажется, встретил кого-то.
О чем говорили? Наболтал глупостей? Обругал? Оскорбил?
Неважно. Звонил. Кому-то звонил.
Физиологический раствор для ребенка. Сколько лет? Скоро пять. Произнес четко. Помню! Аптека. Все шарахались. Грязный как собака. Блевотина на рукаве. Где-то валялся. В шиповнике. У моря.
Лучше не думать.
Sleep, sleep! Pretend, if you can’t[14]14
Спи, спи! Притворись, если не можешь (англ.).
[Закрыть].
Ирисы. Цветы похмелья. Всюду они. На каждом балконе. На каждой могиле. Каждый год случается такой день. Словно умираешь.
Я выливал вино на камни.
Он помнил, как выливал вино. На камни. Ел хлеб. Гули! Гули! Гули! Над ним хохотали чайки. Было смешно. Он смеялся. Оплеван морской водой. Облеплен тиной. Вылил вино. Что-то сообразил вылить. Не все выпил. Угощал. Мальчишки эстонцы, как галчата, сидели на камнях и слушали, глядя на него снизу вверх. Он устроил спектакль. Они курили, слушали, перемигивались. Чокнутый русский поэт читал…
Sans cesse à mes côtés s’agite le Démon; Il nage autour de moi comme un air impalpable[15]15
Мой демон близ меня – повсюду, ночью, днем,
Неосязаемый, как воздух, недоступный – (фр.) – из поэмы Ш. Бодлера
«Разрушение» (пер. В. Левика).
[Закрыть].
Решил пить y моря. Авось похмелье будет не таким страшным. Это он подумал спьяну. Это нашептал демон, и засмеялся. Собака залаяла. Дьявольский смех мой ее напугал. Он прыгал по камням с бутылкой и кричал: Это дух вина! Дух пьянства! Дух буйства! Цветок зла! Ла-ла-ла! Он кричал и махал руками. Кому знаки подавая? Высовывал язык. Кричал во всю глотку:
Ma femme est morte, je suis libre!
Собака подбежала и прыгала рядом. Заливалась. Он прыгал по камням и хохотал. Лил на собаку вино.
Пей! Пей, шакал! Пей, псина!
Он был жутко пьян. Руки пахнут рыбой.
Он пил один. Читал Бодлера и Эдгара По.
Семенов?
Кто-то окликнул.
Кто это был? Не помню. Помню, стихи читал.
Плохо, когда знаешь наизусть много стихов. Можешь читать бесконечно. Это сводит с ума. Всегда заканчивается плохо. Поэзия съедает мозг. Как во время голодания, организм поедает себя. Глист поэзии сосет мои соки. Сходишь с ума тогда, когда начинаешь думать в стихах. Когда говоришь, будто укачивая младенца внутри себя. Никто не замечает. Никто не поможет. Как Рагин, ты и не хочешь, чтоб помогали. Вышить на спине № 6.
Ты читаешь стихи, не можешь остановиться.
Плохо, когда запоминаются именно такие. Мрачные. Холодные. С запахом гнили и сырости. С привидениями. С заспиртованными трупиками в колбах. Туго свинченные.
Ходил, как по палате, туда-сюда, туда-сюда, и читал, точно вызывая духов. Галька под ногами ворчала, недовольная.
Издали завидев Семенова, люди отворачивались и уходили.
Все тебя знают, поэт. Никто не хочет тебя видеть.
Теперь он лежал ни жив ни мертв, сквозь веки ощущая, как линяет ночь, слушал, как воет ветер, колеблет занавеску, бросает ветки на стекло, и все внутри Семенова вздрагивало, как на ухабистой дороге.
Холод и гололед. Крик чаек. Лай. Осколки вчерашнего.
Я выкинул блокнот! Три месяца записей. Выкинул. Помню, как швырнул, и сам испугался. А потом гоготал над собой: Что, жалко стало? Трепещи, стихоплет!
Поэт выкинул блокнот, чтобы сюда не возвращаться. И бил бутылки… Поэт. Об эти камни головой: умри, поэт!
Вчера он пытался от себя избавиться.
Где он был вчера? Там, куда проваливаешься во время кошмара. Только в бреду туда попадаешь.
Он рыскал по улицам как одержимый. Город превратился в бесконечную фреску. Век идти – не обойти!
Он ел пиццу в Americana. На него смотрели незнакомые люди. Туристы из России. Он ел пиццу, отрезая подгорелую корку. Аккуратно срезал. Неторопливо. Серьезно. Со стороны был похож на баклана. Длинный нос. Лысина и хохолок. Он носил укороченный плащ. Он снял его и повесил на соседний стул. Чтобы не подсели. В пиццериях почему-то подсаживаются. В кафе – нет, а в пиццериях – да. Как в столовой. Он был в легком свитере. Старался ни на кого не смотреть. В тарелке набралась горочка горелых обрезков. Люди из России смотрели на него. Он это чувствовал. Краем глаза он видел, как они поворачиваются. Они скучали. Ждали свой заказ и пили пиво. Шептались и посмеивались. Наконец, полагая, что он не поймет, женщина сказала мужикам: что вы смеетесь, настоящий эстонец, аккуратист, все эстонцы вежливые и культурные, не то что вы… И они начали игриво на нее дуться. Бизнесмены. Хамоватые карликовые магнаты. Только-только из скорлупы нос высунули – и сразу надо над кем-нибудь посмеяться. Подвернулся он. Приняли за эстонца. Любой местный ни за что не перепутал бы Семенова с эстонцем. Эти перепутали.
Долго не мог выкинуть из головы. Озирался. Почему они на меня пялились? Прятался в подворотнях. Пил тайком из обернутой в газету бутылки. Вспоминал их и гневался. Откуда в человеке берется эта наглость? Когда человек начинает смотреть на других с таким превосходством, с какой минуты? Что там внутри произойти должно, чтобы так на других смотреть?
Надо было идти в другое место. Говорят, лучшая пицца где-то в Пярну. На Вооримехе была хорошая. В подвальчике под сапожком. Воняло туалетом и еще чем-то. Но пицца была что надо. Теперь модно жрать суши. И пить саке. Когда-то было модно наголо и с бородой ниже кадыка. Теперь финские хэви-металлисты так ходят.
Он покупал дешевое вино, и на него смотрели.
В аптеке – физиологический раствор. Во внутреннем кармане – бутылка вина. Тяжесть. Стыд. Люди смотрели и понимали, что у него под плащом. Семенов, узнавали его. Глаза Семенова сверкали. Узнанный старался говорить правильно и ровно. Физиологический раствор. У ребенка насморк. Его слушали. На него смотрели. Семенов. В его голове плясал смех. Не русский, эстонец. И что с того? Даже если эстонец! Что этот маленький торгаш о себе воображает? Нацепил на ухо hands free и теперь может похихикивать, вытянул ноги и улыбается…
Всюду чувствовал взгляды. Они облепили его, как лиственная тень на спине. Снял и повесил плащ на ветку. Полегчало?
Нет.
Море тоже смотрит и вздыхает.
Уста-алостъ, шепчет море. Уста-алостъ… Чувствуешь, какая в море усталость?! А небо… Ох!
В те годы был в моде экзистенциализм.
La Nausée. La noia[16]16
Тошнота (фр.). Скука (um.).
[Закрыть]. Это мое время. The Time of AirConditioned Nightmare[17]17
Время аэрокондиционированного кошмара (англ.) – от названия документального романа Генри Миллера The Air-Conditioned Nightmare (переведен на русский как «Аэрокондиционированный кошмар»).
[Закрыть]. Я в нем как рыба в воде. У меня все есть. До конца жизни хватит. Никуда вылезать не собираюсь. «Черную книгу» до сих пор не перевели. Анаис Нин только начали. XX век еще не кончился, не торопитесь хоронить. Совпис тоже не сдается, переобулся, переоделся и бравой походкой – кто в постмодерн, кто в новый реализм. Удачи! Остаюсь в прошлом. До наступления истеричных девяностых. Мне не нужен катарсис миллениума. Я тут как в колбе формалина. Что у нас там? Кротовьи норы. Текстуры и фукоиды. Кто-то пишет биопики, а кто-то в историю мировой литературы въезжает верхом на маньяке, как Вакула на черте. Скучно. Тебе скучно? А деньги? Как же деньги? Твоя жена берет кредит – у тех же чертей-маньяков. А ты… Думай, как отдавать будешь!
Твои сказки читают детям, пьесу ставили в театре, все смеялись: смешная пьеса, пустая, но смешная, должны быть и такие пьески. Критик-дурак пишет, критикесса-идиотка хохочет: и никто толком сказать не может, сколько псевдонимов породил наш Семенов, сколько фантастических романов написал, подрабатывая литературным рабом. Мой подвал в Ласна! Тут пашет раб, фантастические романы под псевдонимами для всяких серий. Смейтесь! Псевдонимы, и те не мои. Даже тут себе не хозяин. Раздаю себя по кусочкам. Меня шинкуют, как капусту. Отдаю все великие замыслы под нож. Как телят. Great Upgrade за двадцать тысяч рублей. Кошачьи слезы! Смейтесь! Твоя жена взяла в банке кредит и у бандитов. Двадцать тысяч евро, Семенов! Очнись! А ты плачешь о каком-то романе. Прокормить семью… Тут голову спасать надо… Нашинкуют – и тебя, и жену. Эти люди не вымерли в девяностые – они затаились, как вирус. Придут и все отнимут. Подпишешь любые бумаги. Квартира уйдет. Будете жить на улице. Ты и твоя семья, понял! Стыдно ему имя марать.
Great Upgrade.
Головная боль.
Great Upgrade.
Ты быстро сдался.
Я боролся.
Нет, ты сдался.
А потом рвал волосы, посыпал голову пеплом: mea culpa, mеа culpa…
Я сделал все возможное чтоб.
Семенов пытался добиться самостоятельного издания. Но московский редактор склонил его уступить права на манускрипт. Были доводы, редактор говорил тоном уверенного бизнесмена, в терминах, какие используют всамделишные бизнесмены, когда предлагают хозяйчику какого-нибудь маленького предприятия продать дело за неплохие отступные (говорили по скайпу). Семенов сломался: лучше синица в руках. Рукопись ловко разобрали на части. (Видимо, у них уже был замысел, в который мой роман вписывался.) Семенов как никогда хотел посмотреть, что получилось «на выходе». Заказал книгу из Петербурга через магазин «Alfa-Beta raamatupood» нарвских русских, которые книги продавали, расхваливая их как бытовую технику. Семенов не раз это слышал. Твердый переплет, яркая обложка. Стыдно войти в такой магазин… Публичный дом какой-то, а не книжный! Долго ждал. Заказывал мучительно. Сердце колотилось, во рту сухо. Название книги: «Билет в Дистопиус». – Как-как? – Пришлось повторить… Автор: Владислав Дорин. Издательство: «Гидра». Получилось дороже, чем думал, – двенадцать евро. Ждал две недели. А потом еще неделю ноги не шли. Подвергать себя пытке не торопился. Только после того, как ему позвонили: ну, так вы заберете свою книгу или нет? – Да-да, извините… – Прочитал за ночь. Выкурил две пачки сигарет! Как и предыдущие, книжку выкинул поутру (обветшала, как за год) – не в бешенстве, как было раньше, а в странной задумчивости (в пуповине теснилось чувство вины, чем-то схожее с наплывами подросткового стыда): он клялся, что больше так не поступит. Стараясь читать посторонним глазом, он снисходительно бормотал: ладно склеили… ну, накрутили!.. а как умело взвинтили темп, шельмы!.. а интрига-то недурна! Не без тщеславия отметил, что вошли его собственные, как никогда большие куски описаний, некоторые диалоги и названия, был сохранен даже главный герой, почти целиком, но на вторых ролях: его герой – отец небольшого семейства – пытается добиться «билета» в лучшее будущее для своего младшего сына-гения, в котором чает большие изменения для всего человечества (моя надежда… мой маленький ангел…), принося в жертву не только собственную жизнь, но и всех остальных членов семьи – разумеется, такой персонаж (впрочем, как и сюжет) не мог потянуть действие киберпанковского триллера, поэтому по уходящему в зону отбросов городу с «глушителем мыслей» в поисках заветного лифта в лучший мир бегал молодой мускулистый папаша, который время от времени зализывал раны у старика-аптекаря – все, что осталось от главного героя Семенова. Как всегда, в каждом узнаваемом фрагменте чувствовалось еще чье-то присутствие, как бывает после болезни, – слегка кажешься себе чужим. Успокаивала мысль, что не только его рукопись вывернули и вытряхнули, чтобы склеить этакое; по крайней мере, еще два «негра» отдали на растерзание свои рукописи, – и все это кроили-штопали маркет-технологи от литературы, у которых ничего святого, кроме продаж, за душой нет. Книга вышла в серии футурологических триллеров дистопического проекта «Квадроматик». Семенов следил за тем, как был принят роман и что о нем говорил «автор» – молодой фантаст 1977 года рождения, отец двойняшек, хозяин королевского дога, заядлый охотник на глухарей, в прошлом – кандидат в мастера спорта по стрельбе из лука, альпинист-аматер, буддист-вегетарианец, окончил социологический факультет МГУ заочно, живет в Подмосковье в скромном деревянном доме, работает журналистом, на всех фотографиях он был в водолазке и темных очках, очень часто в дождевике, высоких черных сапогах и шляпе с полями, с ружьем и собакой, – все это не имело значения, скорее всего, человек на фотографиях был тоже подставной. Наверное, интервью писали какие-нибудь «составители проекта». Вся Российская Федерация – это проекты, которые движутся, как поезда, в бюрократическом виртуальном пространстве, растворяются, сливаются, сталкиваются, идут на распил и лом. Но мой Great Upgrade был о другом. Не о России, на которую, чувствовалось, намекали сшиватели «Дистопиуса» (инерция, сохранившаяся с советских времен). Мой роман не был проектом. (Но он стал частью проекта – ты сам его продал!) Это был роман, который я вынашивал три года. Я засыпал и просыпался с ним. Он был со мной в автобусах и трамваях. Я с ним искал, находил и терял работы. Роман жил во мне, а я – в нем.
И ты его предал; предал чувство покоя, которое дарил тебе твой вымысел; предал тот странный мир, в котором ты, несмотря на его беспощадность, чувствовал себя уверенно и свободно, и который – признайся! – был намного реальней, чем этот. Кому расскажешь? На каком суде? Кто спросит? Всем плевать.
Он читал стихи. Мочился в море за камнями. Над ним смеялись чайки. Там была женщина с ребенком. Она фотографировала паром. Звонила кому-то. Наверное, кому-то, кто был на пароме. Что-то говорила ребенку, показывая на паром.
Там твой папа, наверное. Говорила так, как женщины обычно говорят с детьми: там – твой – папа.
Женщина – сеть, сердце – зверек, руки – оковы.
Что могла она ему говорить? Папа поехал, наверное, видишь, там папа. В Финляндию на заработки. Сейчас все ездят. И мне так надо. Куда-нибудь ехать. На заработки. Два дня дома, месяц за границей. Одна нога тут, другая там. Все сделались челноками. Тут семья, там семья. Даже Антон, и тот куда-то уже съездил. Работал на заправке, где и Ступин работал. Ступин говорил, что у него сам Рюйтель заправлялся. «Audi А8». Бензин Аи‑95. Ступин сам наливал, базарил с телохранителем и водилой. Президента в машине не было. А может, и был, стекла тонированные. Как знать, может, был? Трепло. Антон на том же StatOil’e работал в прошлом году. До сих пор вспоминают, как Рюйтель у них заправлялся. Дураки, еще лет десять об этом вспоминать будут. Все друг друга знают. Антон напортачил, и его уволили. Сегодня уволили, лет через двадцать пожалеют. Дали под зад. Он им еще покажет. Будет хозяином всех колонок и паромов, мечтатель. Чем он ей нравится? Я знаю, Аэлита, он тебе нравится. Я ее понимаю. Парень что надо. Мир повидал, себя показал. В Англии собирал клубнику; в Ирландии – шампиньоны. Лихач. Мотоциклист. Футболист. Завсегдатай ночных клубов. Казино, стриптиз. Всяко. Это его всяко.
О нем он тоже думал, когда пил. Ходил по магазинам и думал: вот где она сейчас шляется? В каком подъезде мир лапает мою дочь? Мою! Какое мне дело? Что я, как мусульманин?
Думал ли он когда-нибудь, что будет бродить в таком диком состоянии по городу, пытаясь вывернуться из себя. Избавиться! Чужие псевдонимы способствовали. Ведь он хотел все поправить. Залезть сквозь жерло своих фантастических романов (которые суть один большой тоннель) в генератор реальности и кое-что в нем переключить, чтобы дать возможность всем насладиться лицезрением чуда. Чуда! Которое от нас утаивают. Кто? Дизайнеры нашей убогой лечебницы. Незримые санитары. В этом лепрозории мы все равно несчастны. Деньги ничего не меняют. Есть они или нет. Все равно…
Так он думал, когда проходил мимо института. Забрел в тупик. Остановился возле кучки человеческого кала и долго смотрел. Дерьмо! В руках кусок плаката – сорвал по пути. Сам себя привел к этому дерьму. Стоял и бранился. Не мог куда-нибудь в другое место пойти? Надо было в дерьмо вляпаться! Теперь стой и смотри, раз пришел. Походил по дворику, потягивая вино. Успокоился. Вспомнил себя. Двадцать лет назад тут, в этом дворе, был хеппенинг. Разбитый «запор» облили красной краской, как кровью. Автор перформанса, тоже весь в краске, поджег покрышки и улегся на капот машины. На стене мелом: accident. Все это под страшную какофонию. Никто не вызвал ментов. Музыка играла минут тридцать. Он так лежал. Покрышки горели. Музыка кончилась. Художник поднялся. Ему помогли погрузить хлам. Уехали. Четко. Организованно. Красиво. А где-то через год Совок пошел на слом.
Больше чем двадцать.
1989. Зашел в магистратуру. Случайно.
Его звали Маяковский, человека, который устроил хеппенинг. Где он теперь? Высоченный эстонец, лысый, как кегельный шар. Он носил плащи и шлем, как у танкиста. Что-то рисовал и переводил с английского.
Вчера Семенов стоял на большом, очень большом камне и думал: в каждой квартире должен быть крюк, чтобы можно было повеситься. Emergency Exit. Если б так дома строили, он бы вчера. Непременно.
Кому-то на лестничной площадке он говорил, что надо держаться.
Ах да. Алкоголику сверху. Я срываюсь раз в год, говорил он тому.
Ссадина на ладони: ползал по полу. Ребенок смеялся.
Кроха, подумал он. Внутри сжалось.
Вчера он стоял во дворике на солнечной заплатке. Свежо. Зябко. Кутался в плащ. Бесплечий, бесполый. Призрак. Растворялся в ярком солнце. Курил и дыма не чувствовал. Холодный ветер. Бесполезное солнце. Сверлило солнце, выдавливая взгляд. Он смотрел в себя. Пил и смотрел в себя. Это так мучительно, знаешь, когда смотришь в себя, потому что солнце ест глаза, вдавливая взгляд. Он пил вино, один, в закутке, через дорогу театр. Это так мучительно, знаешь, пить одному, вино в закутке, когда на тебя смотрит театр, полный окон и воображаемых людей. Несколько лет назад в этом театре играли твою пьесу. Кто теперь вспомнит? Только смех. Замшевый смех. Позолота. Паркет. Зеркала, зеркала. Блестящая плешь культурного обозревателя. Артур Дмитрич – лакированные башмаки, одеколон, красные от бритвы щеки, перхоть на твидовых плечах (воротничок задрался, показывая войлочную изнанку). Ничего-ничего, похлопал по плечу (жалел или радовался?). Первый блин – с кем не быва-. И люди, люди чмокали в темноте, выказывая недовольство (знали: автор слышит), люди, которые громко вставали, не придерживая сидений кресел, уходили, не досмотрев (одна дама потряхивала головой в недоумении, недовольная чем-то, наверное: пятнадцать евро билет – за такое!). Твои переживания, поэт, – пустяки по сравнению с отчаянием Стриндберга в Париже. Еще на прошлой неделе в театре громоплескали, с ним пили шампанское артисты, министры, писатели, еще висят кое-где афиши, а его никто не узнает, все о нем забыли. Избавился от тюремщицы жены. Сжег себе руки серой во время алхимических опытов. Даже кальсоны застегнуть не мог. О нем заботилась монахиня… монахиня Августина… В аптечной библиотеке при госпитале он читал книгу «Фосфор» – монахиня перелистывала страницы… Кто так позаботится о тебе? Кто будет перелистывать страницы какой книги? Весь мир тебя презирает, поэт. Весь мир – театр, наполненный недовольной публикой: хрюкающими щеголеватыми дельцами, властными капризными женщинами в ярких дорогих платьях, жестокими невежественными детишками, – таков мир, и он на тебя смотрит, сверлит, взвешивает, и ты не знаешь, куда себя деть. Ты как на суде, обвиняемый, и судит тебя весь мир.
Куда бы он ни шел, здание театра шло за ним по пятам. Где бы он ни останавливался, оно вставало неподалеку, наблюдая за ним своими окнами.
Сел в автобус и долго ездил, пока не отпустило.
Думал позвонить Яану. Слава богу, не позвонил. Отговорил себя: опять разговоры – образование и – утопические проекты… Как они могут об этом всерьез!
Кому-то звонил… Кому?
Так стыдно. Все это так стыдно. Чай. Бодлер. Запах гиацинтов.
Если однажды утром я проснусь в этой квартире один, я повешусь. Это не шальная мысль. Нет, это стон тела. Трепет намерения. Он всегда тут, как асфальт: куда ни пойдешь, всюду он под ногами. Стон.
А может, не мое? Может, wasawis?
Хочется куда-нибудь уйти. Так, чтоб не было ничего под ногами. Пустота. Идешь, а под ногами пусто. Воздух. Влажный, как роса. Пешком по росе. Куда? Да куда угодно! Хоть на Луну с Бержераком!
Держаться.
Он кому-то вчера. У магазина – Оливер. Похудел, у него вылезли зубы. Два больших вперед. Остальные выпали, а эти два вылезли и вперед смотрят, как бивни. Он стал похож на пасхального кролика. Он шепелявит теперь. Внукам читает мою книжку. Таинственное путешествие Каспара Хаузера. Читает и шепелявит. Мою книгу. О мальчике, который пробрался в Лунное Царство сквозь отверстие. Проскользнул по лучу лунного света. Он назвался Каспаром Хаузером, потому что страдал хромотой, у него было плоскостопие, с ним никто не дружил, потому что он сильно заикался. Его дразнили, и он придумал себе Царство Лунного Света, по которому он путешествовал. Все как всегда в детских сказках. Семенов прославился. Сказочник, называли его. Даже дочь – каких-нибудь три года назад! – говорила: «А мой папа – сказочник». Книжку перевели… Яану спасибо! И вот теперь: Им всем понравилась твоя книга. Как это все запоздало… Что делать, мир вертится со скоростью секундной стрелки – литературный обоз ползет, не поспевает. Аэлита выросла и все забыла. Почему они читают то, что я написал семь лет назад? Впрочем, книжки всегда читают. Ты тут шатаешься пьянь пьянью, а кто-то читает внукам твою сказку. Может, лет через триста тебя оценят.
Да-да… и стихи твои… и переводы…
Ты знаешь наизусть много стихов. И все они такие, знаешь, такие, что повеситься хочется.
Твоя дочь терпеть их не может.
Я знаю, знаю…
Твоя дочь терпеть не может, когда ты читаешь стихи.
Ну и правильно делает!
Каких-нибудь два года назад в планетарии Петербурга она, закинув голову, спрашивала: «А это?.. пап, а это какая звезда?.. а что такое плеяды?.. а пульсар?» Он объяснял. Москва, Александровский парк, l’air était pur, le ciel admirable[18]18
Воздух был чист, небо очаровательно (фр.) – Ш. Бодлер «Хмель убийцы».
[Закрыть].
Интересно, a если б не запои, она бы…
Да нет, все равно. Рано или поздно, они все уходят. Все. И Кроха? Да, и он однажды.
Вчера хотел позвонить Яану и пошутить: Теrе! Kaspar Hauser siin[19]19
Здравствуй! Это Каспар Хаузер (эст.).
[Закрыть]. Пил вино из бутылки и думал о нем (театр выглядывал из-за трубы деревянного дома). Человек взял и перевел твою сказку, а ты, что ты для него сделал? С днем рожденья ни разу не. Хотел набрать. Ах да, сказали, он уехал куда-то. В Берлин, кажется. Лекции читать по Сибелиусу. Человек знает свое дело, а ты, что ты такое? Говорят, он в депрессии. Отказывается от всяких работ. Ему предлагали занять должность. Доходное место. Любой позавидовал бы, а Яан отказался: смысла жизни не добавляет, а суеты – куда ее сбыть? В том-то и дело. Да еще желудок. Нервы. Говорят, он попросился полежать в дурке. Ого! И он туда же. Все мы там побывали, и все мы там однажды встретимся. Можно не звонить. Увидимся на Палдискиманте, старик!
Депрессия у Яана началась несколько лет назад. Какой там! Все десять. Еще до бронзовой ночи он написал незамысловатую статейку о современном эстонском обществе (речь шла о провинциальном национализме), под которой на сайте газеты наутро с удивлением обнаружил более трехсот разъяренных комментаторов, обсасывавших его родословную, его самого и даже собаку, которая якобы гадит на газонах, а этот сноб-русофил ленится наклониться и дерьмо за ней убрать… С того дня Яан начал ощущать вокруг себя густевшую год от года пустоту, не вакуум, какой образуется вокруг пожилых одиноких людей, но напряженное молчание битком набитой комнаты, смущение отведенного взгляда, спрятанную в кармане руку (в форме кукиша, может быть, знай наших). Он в центре города зажил как на хуторе, который объезжали стороной, и – так какого черта?! – решил перебраться в родовое гнездо (в Эльва), где в конце девяностых, находясь в очень схожей депрессии, затворником умер его отец: Он тоже был сильно разочарован, говорил Яан. Да, тогда-то он и стал все чаще вздыхать над бокалом красного вина: Я в Эстонии себя чувствую, как выброшенная на берег рыба.
Встречались редко. Раз в месяц Яан приезжал, чтобы поесть московских плюшек в кафе Boulevard, выпить пару бокалов красного в Mauruse, собрать у себя дома друзей. Он говорил, что у него испортились отношения с сыном, который не знал, чем заняться, потому что поссорился со своей девушкой, от чего у него «пропало настроение», учиться не хочет, но думает удариться в политику (через журналистику), при этом делает вялые попытки вернуть свою подружку, даже собирался к ней поехать в Эфиопию – она работает там в Красном Кресте, безвылазно, но так и не решился… Нет, он там был разок, до того как они поссорились, съел что-то в баре, отравился и сразу уехал… После его отравления они перестали, как он сказал, понимать друг друга, у нас, говорит, разные взгляды на жизнь, что понятно, так как мой сын теперь… Мне об этом трудно говорить – сын все-таки, – ну, да ладно. Вот он недавно мне выдал, приезжал в Эльву навестить меня, пожил тут два дня и сбежал с воплями: «Как ты можешь жить без интернета? В этой деревне!», не понимает, я его на поезд проводил, и на перроне, уже перед самым поездом, он возмущенно говорит: «Что это за страна?!» – Я спрашиваю: «Какая страна?» – Он: «Эстония – какое это к черту европейское государство, если в нем есть такие политики, как Сависаар?!» – Черт возьми! Я чуть не вышел из себя. Ему двадцать три года. Раньше, когда он говорил что-то вроде we’ll never become Europeans, until they play in supermarkets lousy cover-versions of ABBA and Boney M[20]20
Мы не станем европейцами до тех пор, пока они в супермаркетах играют паршивые каверы шлягеров ABBA и Boney М (англ.).
[Закрыть], – эту глупость я мог переварить. Но вот про центристов и иностранцев, про необходимость строить танковые заводы и – показать кулак этим русским – вот это я спрашиваю: откуда в нем? Конечно, наши долбаные СМИ – вот откуда. Я это знаю, а сдержаться не могу, голова кипит. Я говорю: «А каким ты видишь европейское государство?» Оказалось, что он ничего не понимает! Нет у него европейского государства в голове. Там «Кока-Кола Плаза» и супермаркеты. У него совершенно кабинетный взгляд на жизнь. Он хочет, чтобы Эстония превратилась в огромную кремниевую долину с бесконечными эскалаторами, по которым люди будут переплывать из офиса в офис, питаясь чуть ли не на ходу. Он прожил в Брюсселе два года – ничему не научился. Разве что научился с брезгливостью говорить там много черных, там есть черные… Он мечтает о дистиллированном белом мире, в его сознании растет та же самая Берлинская стена, только она отделит его воображаемый белый европейский мир и от путинской России, и от террористического фундаменталистского Востока. В результате он живет как в колбе! Откуда это в нем взялось? Я же с ним все время общался. Я знаю, что мои взгляды далеко не популярны в Эстонии: как только ты начинаешь критиковать власти и – еще хуже – эстонцев, ты становишься угрозой для общества, и, несмотря на то что я не путинист, все равно согласиться со мной значит сеять анархию и быть угрозой для свободной Эстонии. Я знаю, что это крах моей жизни, потому что у нашей страны нет будущего, мой сын тоже говорит, что у Эстонии нет будущего. Я переживаю это как крах моей собственной жизни. Это мое поражение, и я хотя бы знаю, откуда во мне осознание поражения. Он, естественно, за поражение страны винит политиков прошлого и СССР, но ничего не может объяснить: он не знает, почему он так считает, и не может сказать, откуда в его голове эти слова! И он принципиально не согласен со мной. Вот это самое смешное. Мы говорим одно, но не согласны друг с другом! Я постарался разобраться. Он же мой сын! Расспросил… Он не читал ни Бодрийяра, ни Фалаччи – нет, не читал, даже имен не слыхал, что для него нормально, так как он вообще почти ничего не читает – фантастика, триллеры, Стиг Ларссон, будь он проклят. Я все больше и больше понимаю моего отца. Он был сильно разочарован в Эстонии в конце девяностых, когда потерял работу, когда появились лозунги Эстония для эстонцев. Как раз после самоубийства Юхана отец мой и перебрался на хутор. Он говорил, что все это повернулось куда-то не туда. Ему было неприятно, что я вместо творчества занимаюсь бюрократией. Он хотел, чтобы я писал и переводил. Он видел во мне писателя, которого я в себе не обнаруживал и – не обнаруживаю по сей день. Он видел во мне потенциал, которого у меня, наверное, нет. В те дни я еще думал: взяться бы и написать… В те годы я мог замахнуться: напишу роман! Но была семья, маленький сын, он только родился, ровесник революции, надо было вкалывать, писать диссертацию, пользоваться случаем, выхода в моем положении не было. Я не мог все бросить и посвятить себя только творчеству. Я тогда не был в таком отчаянии, как теперь, чтобы писать. Потому что чтобы писать, необходимо киркегорово отчаяние. Если его нет, нечего и браться. И правильно я сделал, что не взялся. Я не писать хотел, а мир хотел объехать, во мне было любопытство к жизни. А в отце оно к тому времени угасло. И это его тоже сильно омрачало. Мы немного ссорились, спорили. Я был оптимистом. Мне не казалось, что все так уж мрачно. Мне виделись новые пути, начинания. А он трезвее был, он видел, что грядет, сегодняшний день видел. Ему было жаль, что человек, если был маленьким, то стал еще меньше, а тот, что был большим, сделался еще больше; он был недоволен тем, что такие люди, как я, например, попали в безвыходное положение и должны, что называется, крутиться, а порой – выкручиваться. Ролью моей был недоволен. Понимаешь, он думал, что такие люди – интеллигентные, образованные – могут играть куда большую роль в обществе, могли бы иметь куда более определяющее в обществе положение. Дело ведь не только в твоем голосе. Когда я иду голосовать – я не знаю, за кого отдавать мой голос! Нет такой партии. И он говорил те же слова. Недоволен, конечно, был и тем, что закрыли его обсерваторию. Продукты стали не те. Иностранные в основном, а свои куда-то пропали, да и на вкус стали чужими. Ему пришлось выйти на пенсию раньше, чем он того хотел. Он все говорил: «Так многого не сделал… Хотелось бы поработать на благо страны наконец-то на благо Эстонии, а не ЭССР…» Но пришлось уйти, в нем, как оказалось, Эстония не нуждалась, как и во многих, во многих… В общем, мой отец стал пессимистом под конец жизни, и я делаюсь точно таким же. Вот и теперь, в период кризиса, я вижу: что-то не то нам говорят с экрана. Что это за премьер-министр, если он мне говорит, что он бы вечно хотел жить при таком кризисе! Что это за слова такие: если это кризис, то он счастлив! Это слова человека, который не знает своей страны и не видит, что с людьми делает этот самый кризис, не видит, как мрут люди от голода, как превращается народ его страны в обычных нищих. А он всем доволен. Ничего себе! И совсем другие вещи я слышу в кулуарах. Молодежь думает о другом. Не такие, как мой сын. Есть другие люди. Очень многие мои коллеги (в том числе в Германии) говорят, что надо коммунизму дать second chance, представляешь? До чего мы дожили! Я-то не об этом мечтаю… Не о коммунизме, но о прогрессивной эволюции общества. А что получаем вместо этого? Кастрацию системы образования. Такое впечатление, будто нашими политиками управляют какие-то злобные силы, которые мечтают поскорее нашу страну превратить в звероферму. А ведь это так просто сделать! Начинайте со школы: усадите тридцать человек в класс и платите учителю гроши – через десять лет у вас по стране будут бегать сотни тысяч новых хамов, будут рыгать в автобусах, с хохотом мочиться с моста на машины – обычная люмпенизация, вот что это!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































