Текст книги "Аргонавт"
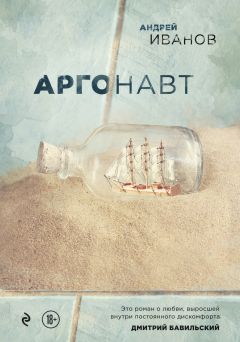
Автор книги: Андрей Иванов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Семенов слушал и думал: а что можно сделать?.. Что он хочет изменить – и как?.. Яан говорил об А., затем о каком-то молодом эстонском писателе по имени Рауль Пост. Дал Семенову книгу Поста, какие-то манифесты… юношеские восклицания… Впрочем, А. на него тоже не производил впечатления, А. не повзрослел. Мечтатель он, этот А., мечтатель.
Собаки ты пятая нога! Стоишь тут, в закутке, глушишь втихаря дешевое вино, хандришь и горько насмехаешься. Они хоть что-то делают… Ты смирился… сдался…
Давно ли ты, не-автор фантастических романов, перестал мечтать? Потухшим взглядом ты наблюдаешь судороги в телах, лежащих по соседству.
Разве не о том же был твой последний роман? Great Upgrade. Где он теперь? Ты продал его на органы. И как ты смеешь после этого? Как смеешь дышать?
Вспомнил, как Яан рассказал о своем перелете из Америки. Я забыл целые сутки. Нет, Яан сказал: потерял сутки. Его ничем не удивишь. Боинг‑666. Ту-танхамон‑134.
Собаки пятая нога стоял и пил вино. Потом шлялся, искал кого-нибудь. Встретил Марта – появился из ниоткуда. Под курткой футболка: Ölle jumal ei tea pohhmelli. Кошка на голове, сказал Март и поморщился. Это идиома, наверное, подумал Семенов.
– Может, покурим? – предложил Март.
– Траву?
– Да.
– Нет, спасибо, давно перестал.
– А что так?
– Паника.
– A-а, понимаю. Bad trips.
– Да. Может, выпьешь вина?
– Не, уже год пью… Сколько можно, курат? Надо бросать! Буду курить…
Я стар для всей этой мути. Стар для травы и трипов, для гигов и панковских посиделок. Я не глотаю экстази и не танцую с молоденькими чувихами под Space Buddha. Я не медитирую под psybient. Не читаю стихи в кабаре-баре Coca-inn. He занимаюсь тантрическим сексом. Не читаю Пелевина. Не смотрю Game of Thrones. Меня нет в вконтакте и фейсбуке. Я отстал и догонять не собираюсь. Тихо старею, осмысляя необратимость жизни; переживаю собственную старость как трагедию, как неприличную болезнь, от которой нельзя излечиться. Когда-то было модно подцепить триппер. Когда-то я мечтал поскорей поседеть. А вот облетел, как тополь, ссутулился и сам себе поперек горла.
Вчера он искал Антона, который не-влюблен в его дочь. Антон околачивался в подъезде. Если б он был влюблен в мою дочь… Я ему сказал… Да, он сказал Антону, что если ты не любишь мою дочь, а играешь с ней, ведь я знаю, как это бывает, сам таким был, только знай, я могу и убить…
Он так сказал. Антон пятился и улыбался. Парнишка понимал, что сказочник был сильно пьян. Так пьян, как только с ним случается. Все знают. Все. Он не просто так говорил. Я не просто так ему это сказал. Я не просто так тебе это говорю. Жена. Его втянула в квартиру жена. Дочь закрылась в своей комнате.
– Она плакала?
Она плакала.
– Черт. Она меня ненавидит.
– Она сейчас всех ненавидит. У нее возраст.
– Да, но от этого не легче.
– Легче уже не будет.
Да, легче уже не будет никогда. С возрастом ты либо понимаешь, что вокруг сплошной мрак и идиотизм, либо становишься идиотом, который верит, что можно купить место под солнцем. Как Боголепов – покупает лотерейные билеты, верит, что может выиграть себе счастье в лотерею.
Он ползал по полу и ел руками искусственную икру.
Мерзость.
Зоя сказала мерзость, последнее человеческое слово в ее лексиконе, дальше стоит непроизносимый мат, одними губами, придушенно.
Она ругалась?
Да, ругалась:
– Зачем ты принес эту мерзость? Ты же знаешь, это есть нельзя. Почему надо напиться и жрать гадость? Будешь загибаться из-за язвы, а мне за лекарствами бегать. И так все из рук валится, этот еще… Аэлита с катушек съехала, малыш болеет, кредит взяли, аренду заплатили, надо кабинеты приводить в порядок, рекламу делать, учеников зазывать, а ты пьяный по полу ползаешь, в больницу слечь хочешь?!
Его рвало. Оправдывался.
– Я срываюсь раз в год! Я сорвался!
– Что это меняет? Сорвался он. Ему можно. А мне? Я, может, тоже хочу…
– Антон тебе не дает покоя.
Она ударила его. Он упал.
Он это объяснял алкоголику сверху. Я упал. Разбил лицо и не почувствовал. Я жене сказал, что она с молодым заигрывает. Я пошутил. А она меня толкнула. Я упал и не обиделся. Рассмеялся.
– Бывает, – отвечал одеколон. – С кем не бывает? Бывает. С тобой не так часто. Я каждый день падаю.
– Я раз в год срываюсь, – повторял сказочник. – Раз в год!
Все это знали. Даже в аптеке сидят и только об этом думают: когда этот больной писатель сорвется? Когда? А может, в этом году выдержит и не запьет? Да ну, что ты. По весне-осени, сам знаешь. У них обострение. Хе-хе-хе. Очередь пошла волной. Он что-то говорил вслух. Он читал Бодлера, Малларме, По. В очереди. К зеркалу не подходить. Учитель английского и французского. Я перевел Бодлера, Малларме, Валери, а вы, что сделали в своей жизни вы? Фу, как некрасиво! Стыд, стыд, стыд… Ох… Ученики узнают на улице и улыбочки прячут. Смеются вслед. Вся Гора смеется. Веселая Гора Lasna. В гаражах в карты играют, козла забивают и про него анекдоты травят. Пьют Walter в парке и хихикают: а этот, блаженный, слыхали?.. Чо? Опять наклюкался и оскандалился? Ага… Хи-хи! Опять… Ой, мама, не могу! Всех рассмешил пьяный сказочник, с катушек сорвался и шалтаем и болтаем перекати-полем покатился. Ха-ха-ха! Из карманов бумажки и евро падают. Ха-ха-ха! Писатель на карачках. И подтяжки синие! А трусы видали? Красные! Умора! Ржу-не-могу. Я его сфоткал. На-ка, глянь! Зацени! Пипец, мама не горюй! Ага, красавчег. Вон он, смотри, пополз. Уссусь, глядя на него! Ссыте! Ну, ссыте же! Мне пятьдесят лет. Пятьдесят! Толпа расступалась. Люди читают газеты. Он в них мелькает. Они из газет делают кораблики, пускают по волне моей памяти. Это в лучшем случае. Так, подотрутся, спустят воду. Хе, сказочник херов. Напридумывал хуепутало муйни всякой. Я мелькаю в газетах, а они смеются. Я в газетах затем и мелькаю клоуном, чтоб вам смешней жилось. Люди! Если б я чаще мелькал, вместо политиканов и членов рийгикогу, вы были бы счастливы, в парадизе жили б. А то у нас один Paradise – всем известный бордель! Смеются и в спину плюют. Шлюх уважают больше, чем писателей. Но ведь я – это он, они, часть вас. Я – everyman, forchristsake! Поймите! Над собой смеетесь, люди!
Пьянь, пьянь, пьянь!
Динь, динь, динь!
Каждая собака знает тебя, пятая нога. Выливал вино на камни. Мочился в публичном месте. Штраф оплатил? Безропотный безработный. Кто-то сфотографировал. Как вице-мэра, который передавал альтернативную историю человечества агентам парагвайской разведки. Он подал в суд на КаПо. Ох-хо-хо! КаПо подал в суд на министра. Ха-ха! Министр подал в суд на свою собаку. Обоссала все углы, пятая нога! Все тебя видят. Все видят всех. Все всё знают. Дома из стекла. На каждом углу камера. В каждой камере восемь углов, по пауку в каждом. Сказочник упал и разбил в кровь лицо. Динь, динь! Pass it on! Перепост трата-та! Лежит и дрожит, скукоженный, как кровяная колбаска. Расширьте в блогах: вся одежда в пятнах, вонища, боль в боку, такая жизнь, такой я.
Он хотел выпить с Антоном. Но Антон не стал бы с ним пить.
Вино из пакета. Испанское. Фу… от него изжога. Мне бы твои изжоги… мальчик, ты почти новенький.
Ноги затекли. Как у отца – предрасположенность к тромбофлебозу. Он лег. Но продолжал ходить по комнате. Белая горячка. Да. Опять. Вызовут «Скорую». Я сам. Он сам вызовет. Все скажут, он опять до чертиков допился. Сам и вызвал. Увозят бедного фантаста в дом, что на Палдиском шоссе. А может, и нет никаких чертиков. Каждый пиарит себя как умеет. Не стану. Сдохну, вида не подам. Подох, как собака. Окно не открою. Он пишет стихи. Он все объясняет в стихах. Анапестом – в аптеке, гекзаметром – контролерам. Ямб и хорей – для уличных дураков. Пшла вон, дура! Иди отсюда, дурак! Заявление прошу уволить меня по собственному желанию верлибром. Онегинскими строфами трем толстякам: «Звезде», «Знамени», «Дружбе народов». Про меня скажут: он писал стихи и читал лекции о Мамардашвили, который читал лекции по Прусту и Декарту. Про меня скажут: он был отрыжкой отрыжки, эхом Альберто Моравиа, который был эхом Сартра, который все украл у Селина, по мнению последнего. Недолго меня терпели. Три месяца. Он работал в советской школьной библиотеке, перебирал книги, перелистывал страницы, выискивая выпавшие листы и ругательства, подклеивал корешки, выдавал учебники. Он получал пятьдесят рублей в месяц (плюс тридцать рублей аванс). Пил газировку, ел хек с картофельным пюре в общественной столовой. Смотрел «И корабль плывет» в кинотеатре «Сыпрус». Слушал по ночам Севу Новгородцева. Обменивался пластинками на Горке. Задыхался в очередях. Искал выход из лабиринта. Безнадежность. Железный занавес исчез. Границы открылись. Все та же тоска. Тот же лабиринт. Те же стены. Бьешься о них, как рыба об лед. Он ел вчера рыбу. А может, у меня послеродовая депрессия? Baby blues, baby blues… Закончишь большую вещь, становишься снова маленьким. А fast downshift after great upgrade. Стал вошью, стал собой. Мышь покатилась мышь. Решиться. Надо решиться. Сесть, написать. Столько внутри. Куда спрятать? От себя не спрячешь. Как было приятно прятаться в конце автобуса! Пьяный. Ты ехал куда-то. Тебе было все равно. Ты открывал вино и тайком пил. В конце автобуса моей истории. Спрыгнул в безымянном городке, укрылся от глаз. Солнце в душу. Ты прятал душу от солнца. Это так непросто: завернул в кулек и пьешь. Из пакета. Европа, думал ты. Европа…
Почему? Почему Европа?
Ты стоял в солнцем залитом дворике и хлестал вино из горла, обернув бутылку в пакет. (Пакет из коричневой бумаги, как в кино, все это было, как в кино: прожектор солнца, полотно сознания и – маленький человек, который чувствует себя великаном.) Уехал в соседний городок, чтобы там налакаться. Там меня не знают. Ты тихо закрался в тот дворик. Как бродячая собака. Ты хотел выпить с Мартом. Сказал, пишет роман. Март может. Рассказы хорошие. И роман напишет. Напечатает под своим именем. Пусть, курат, знают свиньи, что я о них думаю. Отважился. Сколько ему? Сорок пять, кажется. Самое время. А я боюсь. Под псевдонимами – сколько угодно. Под своим именем не могу. Свое – страшно. Перед собой страшно. Как потом в зеркало смотреть? А вдруг – исчезну? Но в этом хоть толика смысла есть… Да! Неужели возьмусь? Я? Жена будет смотреть как на идиота. Так и буду – идиотничая и юродствуя. Без самоиронии никуда! Без нее ты пропал. Так и так пропал. Написал – пропал, не написал – пропал. Все пойдут в одно место: туда, откуда пришли.
Март ушел за травой.
Ты остался один.
С тобой простились. Никто не хочет с тобой пить. Ты слишком стар для всех. Тебя знают как облупленного. Знают, чем это кончается. Никто не станет с тобой пить.
Когда-нибудь ты проснешься один в этой квартире и повесишься.
Ты выливал вино на камни. Ты хотел выпить с Антоном. Мартом. Яаном.
Ау! Караул! Кто-нибудь! Душа горит!
Никто не хочет с тобой пить. Ты пьешь один. Закономерно. Один пишешь, один пьешь. Writing is a fucking lonely business[21]21
Писательство – чертовски одинокое дело (англ.).
[Закрыть]. Сам заварил, сам и расхлебывай.
Звонил кому-то и хохотал. Не бери в голову, кричал в трубку. Не бери в голову!
Ужасно. Стыд. Кегельноголовый с собачьим лицом. Был похож на Маяковского. Макентощий. Джойсоевский. Да. Похож. Просто одно лицо! Сбреешь всё и будешь Маяковским. Пиши, как он. Ступеньки, складки, стпньки, склдки. Облился красной краской и лег на капот разбитой машины. Под жуткий рев краутрока. Мы смотрели из окон. 1989. Маяковский был на худфаке. Он был студентом. Он ел различные супы.
Однажды утром я не встану.
Осенний свет повис над душой. Прозрачный, фолкнеровский.
Синюшкин колодец. Обступили дома. Семеновы сюда приехали в сорок седьмом. Андреевы тут жили спокон веков. Причудские староверы. Практичные хваткие люди. На островке, что отошел России. Зоя там ни разу не побывала. Зато от них унаследовала. Напористость. Жизнестойкость. Твердость, граничащую с бездушностью. Но не веру.
Ее придушили в советские времена. Дед Зои был ссыльным. Там и отрекся. Вернулся без креста. Ни слова о боге в их семье с тех пор. Ни в одном поколении. Работа, зарплата, квартира, машина. Только бы у нее получилось…
Заглянула к нему.
– Лежишь?
– Лежу.
– Ну, лежи, лежи.
Он подумал, что отец однажды так и не смог подняться. Таким же безжалостным утром, иссиня-фолкнеровским. Была весна. Цвели ирисы и гиацинты. Возле каждого дома. На каждом балконе. Его придавило к скамейке бессилие. Он не дошел до дома. Сел и сидел. Кто-то наверняка сел рядом. Ясновидов или Адрианов. Кто-то, с кем он дежурил на фабрике. Сел рядышком. Высосал из него кровь. Может, нашептал о моих подвигах. О непотребном поведении. О том, как забрали меня, сняли с поезда на Москву, незабвенный 34-й, за хулиганство. Пьянство, дебош, улюлюканье. Скандал в вагоне-ресторане. Бил посуду и матерился. Оскорбление личности пассажиров и железнодорожных работников поезда-орденоносца! Ходил по головам. Снимал штаны и бегал. Зассал весь вагон. Облевал проводниц. Всех до одной. Попытка изнасилования. Да! Пытался изнасиловать огнетушитель! Штраф. Срок условно. Сорок пять человек оскорбилось. Сто двадцать два подали жалобу. Поезд тоже оскорбился. Перековать, переобуть, умыть, отпидорасить! А? Могло быть? Доносчик какой-нибудь. Рассказал. Отравил. Улепетнул. А он не вынес. Не дошел. Хотел встать, не встал. Ноги не шли. Пальцы не шевелились. Ему в глаза что-то капали. Веки не закрывались. Так и остался на скамейке. Заиндевел и умер сутки спустя в реаниматологическом. Лежал. Молчал. Смотрел, смотрел и помер. Это было до «Лебединого озера» и всемирной реставрации. Перестройка уже шла, он не поспевал. Бросил читать газеты. Все это несерьезно. Золотые слова. Несерьезно. Мы вместе ненавидели Невзорова. Я пил с Витьком в Безбожном переулке, где этот любитель макабра разыскал лабораторию по трансплантации органов. Предвосхитил «Молчание ягнят» и «Интервью с вампиром» своей беседой с людоедом. Сделал с ним интервью. Разглядывал банки с заспиртованными частями тела. Консервы из человеческого мяса. Холодец… Упоенно расспрашивал. А этот холодец не из моего коллеги? И назвал фамилию. Не помню. Его тоже звали Витя. Это часом не Витино ухо? Очень похоже на Витино ухо.
Он дотянулся до шнурка рулы. Гильотинировал осень. Зачеркнул мир. Вчера его видели на камнях. В Кадриорге. В очереди с бутылкой. Его, наверное, видели и в том дворике. Везде. В Безбожном переулке. В Александровском парке. В темноте чулана. На проходной Калининского завода. Вальцовка. Господи, я занимался вальцовкой. Как же нудно это было… и как давно… вечность тому! А школьная библиотека… Какая тоска! Мертвые мухи, засохшие кактусы… Сколько пыли в солнечные дни! Запах книг. В школьной библиотеке книга что-то вроде губки или туалетного ершика. Скрипучие стулья. Ругательства на столах. Мастика. Желтый порошок. И всюду было рядом что-то. Незримый надзор. Око. На каждом шагу. Он бегал по городу красный от негодования.
Паранойя. Это стыд и паранойя. Как у отца. Отцу все время казалось, что за ним следят. Стукачи на каждом углу. Он сидел и повторял имена тех, в ком подозревал доносчиков. Отовсюду ушел. Заперся в сторожке. И там донимали. По ночам так и так не сплю. Рефрен последних лет. Собирал с собой бутерброды. Шкалик водочки. Одевался как бомж.
Интересно, кто был последним, с кем он говорил.
О чем? Обо мне? Какая разница… Так и так.
Он лежал и не мог подняться. Его увезли.
Всех увозит одна машина. В одно место. Sooner or later[22]22
Рано или поздно (англ.).
[Закрыть].
Он встал и снова лег. Голова гудела. Шум моря. Вереск и можжевельник. В теле волны. Как буй: то явь, то бред. Можно поблевать, но легче не станет. Лежать так лежать. Лежишь? Лежу.
Яркий свет пробивается. Он чувствуется. Стоит за шторой. Он есть! Беспощадный день. Растет, как опухоль. Неизбежный. Метлой по сердцу дворник. Мусоровоз выворачивает душу. Сквозняк выдавливает скрип из двери. За дверью призраки.
Вспомнил что-то и тут же забыл. Озноб памяти. Как собака из воды. Память встрепенулась. Выпустила каплю. И снова судорога. Не разжать. Дверь скрипнула, приоткрылась, захлопнулась.
Ветер. Ветки лупят по стеклу. День будет страшный. Безработица расхолаживает. Он перестал бриться и следить за собой. Год он держался, лечился – карсил, аллохол, омепразол – и вот сорвался. Безработному втройне тяжелей даются будни. День безработного длинней недели.
Это он вчера сказал Антону:
– Понимаешь?
– Понимаю.
– Что ты понимаешь? – Махнул рукой.
Антон стоял у дверей. Терпел. Улыбался, улыбался, а потом улыбка сделалась натянутой. А что было дальше… Что?
– Антуан Рокантен! – крикнул сказочник. – Знаешь, кто такой Антуан Рокантен? Знаешь?
Антон обиделся. Он не понял и обиделся. Невежественный юнец. Ушел. Колени врозь. Наступая на пятку. Плечи гуляли. Волосы ниже воротника, блестели, волнистые.
Антон, я помню, какого цвета была твоя коляска. Оранжевая. Я помню, как ты гонял на этом газоне мяч. Я помню, как ты курил, сидя на заборе. У гаражей был деревянный забор, от которого остались металлические столбы. Красная полоса. Белая. Красная. Белая. Я помню, как тобой беременная мать ходила у нас под окнами и вздыхала, а Сергей Васильевич болел за «Динамо» Киев. Лобановский – это сила. Теперь ты хочешь мою дочь. Приходишь ее лапать ко мне домой. Тебя еще в проекте не было, когда Лэкетуш украл Суперкубок у твоего отца. Как он ругался! Мой отец потирал ладоши. Он считал твоего отца стукачом. Боюсь, это я тоже сказал ему. За это убить мало. Убей меня, Антон. Мальчишка. Широкие плечи, насмешливый взгляд, длинные волосы, узкие джинсы. Ты – модель, а не убийца. Такие убийцы разве что у Фассбиндера. Тебе все равно. Не знаешь Фассбиндера. Все равно. Моя дочь – моя золотая роща. Чтобы ее взять, тебе и убивать меня не надо. Она сама выскользнет из моих рук, из моей квартиры. Она выскользнет из одежды и убежит к тебе. Не здесь, так на пляже. За теми же камнями, на которые я блевал, мочился, выливал вино.
Не допил. Это правильно. Может, это спасло негодяя. Выжил. До следующего раза. В печени шевелится краб. Печень – вздувшаяся водоросль. В сердце ползает игла. Это моя смерть. Моя дочь. Она меня доведет. Чтоб ты сдох! Еще хуже – он слышал, хотя был мертвецки пьян, он полз по полу в свою комнату и слышал, как она сказала матери:
– А завтра на коленях будет ползать и просить прощения, а мы должны будем притворяться, что все о’кей! Сама с ним играй в эти игры, а я ему завтра в глаза плюну!
– Эля! Не надо!
Он полз. Аэлита кричала:
– Я не могу это больше переносить! Весь год живет как мумия, слова доброго не услышишь, как туча ходит, ждешь от него нормального человеческого поступка, подарка, чего-нибудь доброго, а он в конце назло тебе – бах, и превратится в свинью! Ползет по полу и хрюкает! Каждый год ждешь – трясешься: когда он опять сорвется? А потом терпеть этот стыд! Как в глаза людям смотреть? Писатель нажрался. Писатель ползет по ступенькам! Истерики! Ненавижу! Пусть закроют его в дурку раз и навсегда!
Антон, твой отец жрал водку, надирался до скотского состояния. От него так воняло… В сторожку не войти, мой отец говорил. Но ты не знаешь этого. Ты этого не видел. Он умер прежде, чем в твоей голове включилась пленка памяти. Филологи женятся по несколько раз. Находят молодух. Жен выбирают среди своих студенток. Таких дородных. Чтоб нянчились. Даже среди молоденьких они мамочек себе ищут. Он так и обращался к ней: ну, маму-уля… Филологи поодиночке не живут. Совсем как хомячки… Филологическая особь не приспособлена к одиночеству. Трындеть об одиночестве – сколько угодно, а посидеть хотя бы минутку в комнате без людей – ударяются в панику. Караул! Ау! Помогите! Конечно. Необходимо чесать языком. Нужно кого-нибудь сверлить, унижать. Они всегда живут за чей-то счет. Пьют кровь. Нервы тянут. И на сторону – шасть! Закатиться в отельчик, заползти в коттедж. На пикничке перепутать палатку. Копытом туда, копытом сюда. Я так отчетливо помню не только мою жизнь, но ярко представляю жизнь каждого, кто попадается мне на глаза. Хочется потопить все это во мраке.
Поэтому он сидел на камнях. И море раскачивало его. Как фотографию.
Когда-нибудь мир не выдержит и как песочный замок расползется, мешаясь с водорослями и ракушками. Он станет тем, из чего создан.
Год Семенов боролся. Он прятал от себя мякоть, а потом, не выдержав гнета, своей центробежной силы, снимал чешую и шел плясать по ребристым бликам на воде.
Может быть, когда-нибудь я так и останусь в этом блаженном состоянии полного идиотизма. Буду ходить без штанов и улюлюкать. Читать стихи и хихикать. Ковыряться в пупке, жевать соплю. Ночевать в холодном мху под флагом звездным.
Все переливалось. Комната покачивалась. Откуда-то струился свет. Как сквозь аквариум, в котором плавали волшебные янтарные рыбы. Лучше не вставать. Целый день.
Руки в крови. Одежда в крови.
Били меня, не чувствовал боли. Толкали, не чувствовал унижения.
Он слышал, как проезжали машины: чаще и громче. Он слышал, как проснулся малыш; он говорил: «Мама-ка?.. А я в сад не иду?»
Зоя отвечала: «Нет, сладенький, не идешь, пока кашель, дома сиди».
«А папака дома?»
«Дома, дома, папа тоже болеет…»
Он слышал, как ушла дочь: зло цокая каблучками и побрякивая сумочкой.
Жена принесла графин воды. Он не открывал глаза. Поставила кружку. Убрала пепельницу.
Он отвернулся к стене… und sagte kein einziges Wort[23]23
И не сказал ни единого слова (нем.) – название романа Г. Белля.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































