Текст книги "Аргонавт"
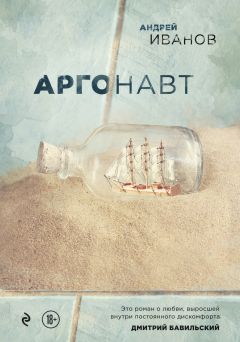
Автор книги: Андрей Иванов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Андрей Иванов
Аргонавт
Блажен земной шар, когда он блестит
На мизинце моей руки!
Велимир Хлебников
1
Вчера были с Эдвином в ботаническом саду (Botanisk trädgård, to be precise: в основном экзотические деревья), там собираются любители покурить; он меня представил местным хиппи, и впервые за последние пять лет я немного дунул. Так вылетел, не поверишь. Совсем размяк. Пришлось сесть. Не заметил, как задремал. Открываю глаза: к нам приближается марсианин растаман, марокканец с дредами. Они долго разговаривали, а я, потеряв надежду что-либо понять, сидел и смотрел на огромное тюльпанное дерево с необыкновенно крупными плодами, похожими на снегирей или ткачиков, и они запели…
Когда вышли за ограду, мне показалось, что мы в Тарту, и я стал гадать, как бы свернуть, чтобы выйти к бару «Александр», которого давно не существует (так мне захотелось посидеть среди старых музыкальных инструментов); пока думал об этом, перенесся в Крумлов, и вот я уже иду с чехами по булыжным улочкам Крумлова. Вышли за городскую стену, оказались в порту, бескрайнее море, ветер, закат, меня это сильно озадачило: в Крумлове порта нет! Увидел пальмы и остолбенел: где я? Приятели Эдвина с нами попрощались, плавно растворились, пальмы шуршали, ветер теребил гирлянду с японскими фонариками. Эдвин сказал, что пойдет к своей подружке, предупредил не ждать его до утра. Мы планировали очередную вылазку к тому окошку, про которое я писал тебе в прошлый раз, со странной картиной, мне опять не удалось ее сфотографировать, и он предложил попробовать его большой фотоаппарат с дополнительным объективом (с полкило линза), но тут ему прислала подружка эсэмэс: прибывает ночным паромом из Nynäshamn‘a. Он будет ее встречать. Попросил сходить в магазин и купить что-нибудь на завтрак и еще проведать его отца, тому тоже надо что-то купить, потому что он сидит с утра до ночи и пишет свой бесконечный роман, напрочь утратил связь с реальностью (в хорошем смысле). «Уже темнеет, – заметил Эдвин. – Не откладывай». Улыбнулся и пошел. Я направился в Старый город. Дела вернули меня к жизни. Возле собора Св. Марии (чем-то отдаленно напоминает Нотр-Дам – гаргульями, наверное; кстати, ассоциация с Крумловым была очень уместна: собор Марии для меня тут такой же маяк, как Церковь Нашего Спасителя в Копенгагене или цветная башня замка в Крумлове) навстречу вышли туристы, в одном из них мне померещился эстонец, который жил возле Дома культуры на Калеви и часто попадался на глаза. Разумеется, это был не он, а какой-то швед. Он подошел ко мне и спросил: ты местный?
Я сказал: нет.
И все-таки не отпускал он меня, не знаешь, почему тут знак так странно стоит?
Я посмотрел: и правда странно. Сказать было нечего. Не знаю, и пошел. А сам думаю, что у меня в Дании тоже подобное было. Как-то увидел в одном пассажире в поезде моего напарника по ночным вахтам на мебельной фабрике, даже подойти захотелось. Понимаю, что не он, а влечет – сел рядом, точно погреться, и сидел, пока тот не вышел. Такое причудливое выражение ностальгии.
* * *
Я постоянно вижу людей, похожих на кого-то, и без всякой ностальгии. В жизни никуда не уезжал дольше чем на неделю, даже вообразить себе не могу, что это такое; тем не менее похожие люди встречаются чуть ли не каждый день, просто напасть, причем самые разные: похожие и на близких, и на дальних родственников, из прошлого и из настоящего. Но это ладно. Хуже, когда встречаешь кого-то из даже не из прошлой жизни или кого ни за что в эти дни видеть не хотел бы, например мою бывшую жену, просто наваждение! Несколько лет жили так, словно на разных континентах – только начали судиться, стала мне попадаться с периодичностью в неделю, обязательно, как наказание. Несмотря на это, все равно ни за что из Эстонии не хочу уезжать. Я скорее пожелаю всем людям, которых избегаю, уехать в Штаты-Эмираты, добиться всего самого немыслимого, я желаю им всем счастья в другом мире или в другой стране, лишь бы не видеть их, но сам ни за что никуда не уеду, даже если сюда въедут путинские танки с освободительными лозунгами, останусь. Я не мыслю свою жизнь не в Эстонии. Это не объяснить (как тот негр в Broken flowers: я готов всем устроить счастливое кругосветное безвозвратное путешествие). Понимаю, у тебя там красота, море, природа, ой-ля-ля! и так далее, но это все не по мне, не понимаю я «красоты», плевать мне на «море-природу-птичек», не умею любоваться обрывами, соборами. Мне это абсолютно параллельно, и не чувствую собственной ущербности. Я знаю многих, кто побывал «всюду-всюду», например, помнишь, тот брокер-воротила, про которого я тебе рассказывал, – он едал и крокодилов, прикормленных ягнятами, и акул, и омаров, и кальмаров, и обезьяний мозг, и все такое, а вот поймал, говорит, рябчика на Харку, изжарил в песке и воскликнул: ничего вкуснее в жизни не ел! Так вот, он где только не был, а пожил в Швеции и до сих пор утверждает: лучшая в мире страна, просто top of the tops, и не потому что там воду из крана пить можно, не поэтому, а даже, говорит, не объяснить: просто офигительно, и все тут.
Касаемо Швеции мне давно все понятно, окончательно меня добил Пригов, незадолго до смерти он сказал следующее: мол, в Швеции всего семь или восемь поэтов, зато им платят в виде стипендий миллионы, они бесплатно ездят на курорты, им даны в бессрочные аренды роскошные виллы, и хорошо бы так сделать и в России: «Семь-восемь, быть может, мало, но где-то пятнадцать было бы достаточно, потому что больше просто нет! (Я так засмеялся на этом месте, что вокруг стали на меня поглядывать.) И тогда бы было гораздо больше хороших стихов. А уважающая себя страна должна иметь качественную национальную поэзию!»
Как я хохотал, уже никого не стесняясь! Сознавая невероятность, мечтательность, утопичность да и вообще праздность своих слов, он все равно говорил так, что меня аж завораживало, как будто такое и впрямь возможно, отсюда случился со мной такой неожиданный эффект: хохот до слез. Смеялся, как на спектакле. А он ведь от сердца говорил, всерьез, не юродствуя. И что тут остается, как не хохотать? Это ж абсурд и индульгирование в чистом виде! Но голос его никогда не забуду, запала интонация, прям сейчас пишу и слышу, как сквозила в нем безнадежность. Та самая безнадежность, с какой Реве писал (уже когда состарился и обнищал) о том, что его кошки, может, и доживут до тех дней, когда писателям повысят пенсию, а уж он-то сам точно не доживет. Ах, как Реве опускал Союз писателей за ханжество! За неспособность не только писать, но в первую очередь неспособность потребовать денег, мотивировать надобность повышения оплаты труда (чем писательскую профессию и дискредитировали)! Да, у Реве это было просто маниакально и скрупулезно.
Вот, кажется, скоро и у меня тоже начнется: бедность и безнадежность. (Маниакальность и скрупулезность всегда при мне, как ты знаешь.) В принципе, бедность уже меня захватила – я в ней купаюсь, как грешник в адском пламени, уносит она меня, как горная река, витками, затягивая вглубь, к мраку. Где-то там, у самого дна, ожидает меня нищета. Представляется она мне плоской, сухой, но занозистой – занозами будут болезни. Незадолго перед самым непосредственным концом предвижу, что буду вымаливать себе каждый сент. Ходить по улицам и дергать людей за рукава: не хотите английский учить? Закроют нашу школу, как пить дать. Все к тому и клонится. Распад, зеленая жаба и тотальный контроль. И так групп нет, так скоро и того не будет. Я ведь банку должен – за адвоката (Стен Миллер берет немало, известная во всем городе личность: и правозаступник, и крутых криминалов отмазывает). Мне иной раз снится, как меня уводят из зала суда в наручниках, хоть это и перебор. За такое не сажают. Ох, эта тяжба меня доконает. Засудит меня жена на алименты, захочет она с меня получить враз кругленькую сумму компенсации за энное количество лет (будто я не помогал, Глебу одежду не покупал, за детсад-школу не платил), и придется мне еще один малый кредит брать у банка, пока дают, и ей алименты платить, и банку оба кредита возвращать, и адвокату… На что жить тогда? Матери я без того две с половиной должен (она не торопит, скулит: «Не возвращай», – но я себя уважать перестану, если не верну). Буду каждый ценник по полчаса изучать. Есть вариант: сдавать мою однушку за гроши, а самому жить у родителей (невыносимо) или, как Костя, в офисе: развернул рулет спального мешка и залег, утром свернул, в туалете помылся и к ученикам! Сегодня к нему захожу, а он мешок приготовил, сидит ужинает, а мешок уж постелен; я с ним чаю попил, поговорил, сердце излил, вот как тебе, те же слова, только устно, и пошел, а мешок у меня где-то под сердцем, как тень, свернулся. Чую: ждет меня спальный мешок в пыльном офисе, ей-ей, ждет! Думать не хочется! А что толку? Думай не думай, все к тому и идет! Одно скажу: в среднюю школу или профтех учительствовать не пойду (хватило с меня практики; лучше сразу повеситься, чем школьники: to be finished would be a relief); я и с практикой преподавания для взрослых мечтаю покончить поскорей. Пока нет ничего, подрабатываю уроками. Мучение, а что делать? Молюсь на Бинго. Почти как Слокум на гольф. Он сперва ненавидел гольф, а потом одержим стал и мечтал со ста ярдов, кажется, попасть в лунку. Один раз попал, и можно всю жизнь дурака валять, если что, можно сказать: «Я со ста ярдов попал!» Так и я: стыдился покупать, как порнуху какую-то, если не хуже, а теперь одержим и мечтаю однажды выиграть, ни о чем так не мечтаю, как заполучить куш. Раз выиграл, и ни на что в жизни больше можно не обращать внимания. Мне скажут гадость, а я в ответ заору: «Бинго! Бинго!» – и пойду дальше. Пусть думают – сумасшедший, мне все равно. Шесть билетов покупаю и в тетрадь переписываю: ровно три вмещается на страницу стандартного тетрадного листа в клеточку. Очень удобно проверять. Никогда не проверяю в аппаратах. Сам во время розыгрыша зачеркиваю номера. Все сам. Я не полагаюсь на аппараты. Да и мало ли что? Я себя знаю. Если зазвонит и скажут, что крупный выигрыш, так занервничаю, все поплывет, обливаться пóтом начну, всех кругом подозревать: а вдруг сейчас кассирша обманет, подменит выигрышный билет, или вдруг кто-то услышит, что выиграл, проследит, по голове шарахнет? Я все свои фобии знаю, потому наперед себя избавить от дискомфорта стараюсь, проверяю дома, в прямой трансляции. Так и живу: от розыгрыша до розыгрыша, от чемпионата Европы до чемпионата мира, от олимпиады до олимпиады и так далее. У каждого есть подобные вешки. Не все это признают, но я себя знаю и от себя эти стыдные вешки не прячу.
А вот еще: в связи с лотереей у меня появилась новая забава: рассматривать квартиры на сайтах недвижимости. Куплю свои шесть билетов и перебираю варианты. В этот раз на кону 20 тысяч евро – не особо разгуляешься. Но я же маньяк, я проделал калькуляцию, учел продажу моей однокомнатной + 20 тысяч выигрыша. Вариантов, честно говоря, учитывая мои капризы: чтоб Таллин, и чтоб поближе к центру, и чтоб как можно выше, желательно без соседей над головой – не так много, раз-два и обчелся. Есть тут одна четырехкомнатная, но ремонт требуется, в остальном – идеально. Ты и представить себе не можешь, как я расстраиваюсь из-за того, что квартира, которую я мог бы купить в случае выигрыша в комбинации с удачной продажей моей однокомнатной, требует ремонта, средств на который у меня после выплаты не останется. Маркузе писал про «одномерного человека». Музиль – про «человека без свойств». А я – «человек модальности», ибо жизнь моя протекает в сослагательном наклонении.
* * *
Сколько громких слов. Посмотри, какой грохот вокруг! С души воротит. Материя ревет. Оглушительный поток. Сплав органики и огня, газов, металлов, пластмассы. Все это хлещет. Затопляет сознание. Тебя подталкивают к бордюру. Дождь шипит. Зонтики вращаются. Флажки трепыхаются. Светофор – красный. Вода пенится. Канализация пузырится. На мои ботинки. Шнурки развязались. Все равно. Я никуда не иду. Будет зеленый – останусь стоять. Пусть идут. По моим шнуркам тоже. Все равно. Дождь на лицо и за шиворот. Струйки. Скользкие червеобразные сгустки. Отрезать. Бросить в этот поток. Кто-нибудь сфотографирует. Status: A weirdo cut his shoelace off. Comment: He’d better cut off his cock[1]1
Извращенец отрезал свой шнурок. – Он бы лучше отрезал себе член (англ.).
[Закрыть]. Глупый смех. He толкайте меня! Может быть, я руки в карманах лезвием cutting my cock off. Толпа растет. Мой тайный протест. Не яйца прибить к Красной площади, так хотя бы отрезать и бросить. Ненавижу себя – баста! Откуда их всех принесло? Локти. Плечи. Толкотня. Стоять в толпе и тихо резать. Незаметно для всех. Сквозь штанину на асфальт. Плюх! Ботинком спихнуть ненароком в воду Поползет подталкиваемый как слизняк. Истечь и раствориться. Down in a sewer[2]2
Вниз, в канализацию (англ.).
[Закрыть]. Я насквозь! Всеми вами. Посмотрите на меня! Вода змеей влезает на тротуар. Разбегается ручьями. Покусывает мои ноги. Мокрые. Пустяки. Фантики. Лотерейные билетики. Вы все во мне. Я вами по горло. Машины и люди в них. Моллюски в раковинах. Поток бессознательный и безразличный. Куда это все? Что за вой твою мать? Молчите! Silence! Народ, безмолвствуй! Во-первых, Красная сумка: в этой сумке все мое детство… битком набитое подзатыльниками, бормочущий отец, как вечно текущий кран, нескончаемые наставления матери и ни одного велосипеда, даже роликовых коньков не было, старый теннисный стол и пара обшарпанных ракеток на вонючей дачке каждое лето… каждое лето… в школе воровал шарики, запасался… им было лень купить… лень сходить… о тебе не вспомнят… сядь, сиди в своей комнате… без телевизора… чемпионат мира?.. чемпионат европы?.. родокам плевать… ребенок одет-обут-сыт-крыша-над-головой… необходимое, основное. Вот когда во главе угла необходимое, вот когда основное заменяет все остальное, включая самые доступные мало-мальские радости жизни (чего стоило купить мяч не волейбольный за восемь рублей, а футбольный за двадцать? Каких-то двадцать рублей… Это около двух эстонских крон… в евро и того меньше. Нет, как за двадцать?! Это ж двадцать рублей! На какой-то мяч!), тогда начинается мое детство: узкий коридор, обставленный зеркалами лицемерия, ничего, кроме атласов и глобуса… цветные карандаши «кохинор» от тети Лидии из Чехословакии – бесплатно, на весь год, и еще посылки на семерых – карандаши, ластики, точилки; стопки тетрадок по две копейки – от другой тетки из Кехра. Все, ребенок упакован. Самое необходимое есть! Все удивлялись: умный мальчик, начитанный, так географию знает… так красиво читает… А что мне оставалось? У меня не было выхода… книги, чертовы книги… глобус, атласы, журналы… тайком делал из проволоки ворота, гонял карандашом скатанный из промокашки шарик… легко было прятать: выдвинул ящик и сгреб мое детство, задвинул, и снова – география, английский, математика… необходимое, основное… и теперь она каждый день трясет головой и блеет: И что тебя, Пашенька, кормит, скажи на милость? Зна-а-ания…
Один телефонный звонок. Damn! Как иногда один телефонный звонок может перевернуть все внутри! Дождь был источником райского блаженства до того как. Такой легкий летний дождь. В сентябре. На огромные стекла. Солнечные лучи переливались на стенах. Капли весело разбивались о подоконники. Музыка сфер. Подарок свыше. Когда он выходил из. Он выходил под дождь с радостью. Он горел. Светился. Его размывала изнутри песня. Как подземный родник подмывает корни огромного древа. Его сознание переполняли образы. Новое изобретение. Идея. Которую он торопился воплотить. Так много всего нужно сделать. Три или четыре лжеаккаунта – в «ФБ», «Твиттере», «Инстаграмме». Несуществующие личности в разных частях света. Один аккаунт будет подкреплять другой, общие друзья. Паутина! Он готов был рухнуть в экстазе прямо в коридоре, перед бухгалтершей, секретаршей, директрисой и двумя сорокалетними ученицами, которые наперебой жаловались, что у них пропали уроки-часы, потому что их учительница пропускала – не по нашей вине – по причине болезни ребенка – нас направили с биржи – государственное учреждение. Въедливые тетки хотели, чтоб им возместили уроки-часы эстонского в виде дополнительных уроков или деньгами, потому что в протоколе (вами подписанном, между прочим), который они должны отнести обратно на биржу – своему контролеру, написано 50 часов (обычное дело), а мы отходили только сорок – и куда подевались эти десять часов?
Все разваливается, думал Боголепов ехидно. Пусть разваливается! Я создам свой мир. Свою структуру. Непогрешимую.
Хотелось бы справедливого решения, слышал он за спиной.
Голоса женщин взвизгивали, как дрели. Боголепов знал наверняка, по большому счету никому нет до них дела: школа выставлена на продажу, бухгалтерша в доле, секретарша уйдет вместе с ней – никому нет дела до приписок (зачем их тогда делать, инерция?). Скоро этот балаганчик, торгующий волшебными знаниями иностранных языков по частично скопированным рецептам русских американцев, которые, перебравшись на волне брежневской деменции в Штаты, изобрели легкий способ наживы на ленивых мозгах, будет разобран (половину уже демонтировали). Еще прошлой весной он работал как ладный механизм, приносил прибыль, люди были счастливы, директор вывез всех в Берлин, устроил экскурсию по городу и национальному музею, вечер в ресторане, концерт классической музыки; никто не думал, что в считаные недели школа растает, как какой-нибудь мираж. Пятнадцать лет все в городе знали, что такое Verba. Никакого отношения к растению. Омофон. От латинской пословицы Verba docent, exempla trahunt[3]3
Слова наставляют, примеры увлекают (лат.).
[Закрыть]. Большие медные буквы вдоль коридора производили сильное впечатление. Их сняли теперь. Остались тени, которые скоро закрасят. А те надписи с обезьянкой, символом школы, что были на лестничных стенах, уже забрызгали спреями. В углу поджидают картонные трафареты для будущих надписей, стремянка, валики, банки. Тут будет дантист, рядом с ним косметолог, в конце коридора – модный парикмахер-стилист. В кабинете покойного директора расположится массажист-остеопат: нетерпеливый, он каждый день приходит и что-нибудь приносит – полотенца, кремs, халаты, – складывает в закутке секретарши, потирая руки, прогуливается по этажам с характерной улыбочкой и многообещающим взглядом: «я вам всем тут косточки переберу». Из восьми кабинетов функционируют три. Все идет на продажу. Боголепову казалось, что закрасили не только название, разобрали не только кабинеты, но и часть его жизни. Не то чтобы он жалел. Последние семь лет были такими же безрадостными, как и предыдущие десять (с проблесками, которые были слабым утешением). Во-первых, где теперь искать себе применение? Всегдашняя морока, похожая на возобновление болезни, от которой, думал, отделался, а она опять вылезла. Во-вторых, скоротечность пугает, та легкость, с какой приходят изменения, – как землетрясение какое-то! Смерть одного человека может все перевернуть с ног на голову. Забыл восьмидесятые? Выходит, забыл. За последние пять лет совсем расслабился. Несмотря на глобальный кризис, они были своеобразным застойным периодом. Жил в бедности и не искал лучшего. Зачем суетиться, когда и так хватает… Кое-как ползешь, и ладно. Две-три поездки в Лондон – Хельсинки – и можно не думать о большем. Одна поездка действует как наркоз на три-четыре месяца. Увлекла тяжба с женой. Забылся. И на тебе! Все перевернулось. Очень своевременно вышел закон о сокращении. Никаких компенсаций. Прямо подгадали. Раз – и школа на аукционе! С пятидесяти тысяч почему-то урезали до тридцати. В чем там дело, никто не знает. Кроме участников переговоров. Не нашего ума. Школу пилят, не видите? Бренд тем, работников этим. Выставьте и меня тоже! Я согласен. Вспомните Радищева! Языки знаю, все зубы на месте. Могу статью написать. О чем угодно. Доказать существование Бога и обратное. Продайте меня как приложение к курсу, который я написал. Кому ты нужен? Сорокапятилетний. В таком возрасте отцы шли в лес за сыновьями на убой. Подобрал бы меня какой-нибудь немец. Пригрел бы как Душечку. Ходишь по коридорам, сидишь в кабинете, разговариваешь с посетителями, тестируешь их и понимаешь, что все это бессмысленно. Пятнадцать лет мираж влек сюда бедуинов. Шли караванами. Кто с улицы, кто из социальных сетей, кто с рекламным купоном, заплывшим в почтовый ящик вместе с «Яной». Люди на что-то надеялись. Языки открывают мир, полный возможностей. Работники верили, что учат чему-то, а наивные думали, что чему-то учатся. Взаимное доверие. Рекламы, внушаемость, договоренность. Год за годом биржа отдавала школе тендер, полагая, что, сплавляя сюда безработных, они частично снимают с себя ответственность за неспособность как-нибудь устроить обреченных государством на прозябание, – наверное, на бирже тоже верили в магию, полагали, будто в балаганчике что-то происходит, движется, развивается, и даже в согласии с интеграционной риторикой, которая все больше входила в моду, но вдруг директор приказал долго жить, и все полетело в тартарары. Его рерихнутая жена (хозяйка оккультной лавочки) мгновенно испортила прекрасную игрушку, два-три движения – и все загублено, ниточки поползли во все стороны, стало понятно, что вся организация держалась на одном человеке, который – вот парадокс – не говорил ни на одном языке (покойный директор знал только русский), зато умел работать с людьми и торговать, мог продать что угодно. Чем он только не торговал! В середине девяностых арендовал парочку гаражей, собственноручно оборудовал их аквариумами, лампами, утеплителями и спокойно упаковывал плодородную, по скандинавским инструкциям обработанную, взрыхленную малайзийскими червями почву – сельское хозяйство еще не погубили, поэтому покупали хорошо, заказчики множились, гаражи росли как грибы, пока не наехали бритоголовые абреки. «Да и так все накрылось бы вскорости, – вздыхал Алексей Викторович, потаенно улыбнувшись, добавлял: – Что ни делается, все к лучшему». Был оптимист. Испробовав то и это, всюду получив по носу, взялся, наконец, за знания – самое скользкое, самое неприметное и непонятное для бандитов занятие. Как тут наедешь? Пытались, искали волшебные порошки, микстуры, пробирки, не нашли, к чему прицепиться, погрозили пальцем, ушли. Только теперь, когда до них дошло, что можно без конфликтов вкладывать деньги в обучение (даже построенное на столь сомнительном фундаменте), они вернулись: по слухам, балаганчик хотели купить именно «бывшие» бандиты, через какое-то подставное лицо – владельца компьютерной шарашки, торгующей завезенными из России видеоиграми.
Во-первых, смылся… Матроны опять устроили поминки-посиделки. Они плакали. Всем дамочкам за пятьдесят. Слезливые истерички. Одинокие читательницы Мулдашева и Марининой. «Демоны Да Винчи». «Все оттенки серости». Их так подкосила смерть директора. Он нас покинул, отправился на Небо, как Отдыхающий Бог. Ему нет до нас дела. Утлый мирок идет камнем на дно. Bye-bye! Все привычное разом растворилось. Вроде бы те же стены, кабинеты, коридоры, учебные пособия и ученики – все то же самое, тем более языки, – а нет, тут что-то не то… Именно! Что-то не то… Чего-то не хватает… Чего?
Что это? Та маленькая пуанта нехитрого фокуса, которую надо уметь скрыть, а затем вовремя показать, иначе представление идет насмарку и под свист, топот, улюлюканье в фокусника летят помидоры, пустые стаканы, пивные пробки. Боголепов уважал и ценил Алексея Викторовича именно за это: он знал свою скромную роль в им созданном театре и играл ее безупречно. Покойному удавалось проделывать трюк так искусно, что никто не понимал, что тут был какой-то трюк. В душе Боголепов им восхищался. Конечно, тут был нужен особый дар антрепренера: сделать шатер с факирами сертифицированным учебным заведением, в котором, как сулили рекламные постеры, расклеенные по всему Таллину, за небольшие деньги в несколько недель под рэйки и суфи-музыку любого погрузят в тезаурус иностранного языка, пропускать годами сквозь свои сюрреалистические кабинеты тысячи и тысячи людей – предпринимателей, врачей, артистов и культурных работников, не без успеха (!): многие утверждали, что им помогло, они заговорили, они продвинулись, вышли на новый уровень, готовы продолжать, – в то время как сам директор не говорил ни на одном языке (за пятнадцать лет никто не задался вопросом: отчего он так и не воспользовался волшебной комнаткой?); заставить людей поверить в то, что твоя холотропная система (наполовину заимствованная – но кто об этом знает?) открывает языковые чакры, работает, да так хорошо, что тут, за этой дверью, заговорит по-французски и осел, – ну, чем не Хаджа Насреддин?! (Неспроста, ой неспроста, он позволял на одном со школой этаже брать в аренду кабинеты суицидологу, ароматерапевту, гомеопату и специалисту по фен-шуй – рядом с ними его лаборатория с кристаллами и суггестивным речитативом была просто сокровищницей знаний.) Себе Алексей Викторович отводил скромную роль. Каких-нибудь два-три слова, теплое приветствие, напутственная речь, трогательно произнесенная перед началом и по окончании курса (с какой серьезностью вручал дипломы!), и еще – умел обволакивать тихостью: изящная визитная карточка, мягкое рукопожатие, гипнотическая замедленность жеста – и люди менялись, во всяком случае на время посещения курса, в этом коридоре на них воздействовал образ директора – тонкого сердечного человека с бархатным баритоном и манерами интеллигента-шестидесятника в маленьких круглых очках, как у Джона Леннона, с прижатой к груди брошюрой или словарем (узкие плечи, впалая грудь, острый воротничок, тонкая шея). Такая ничтожная деталь, такая хрупкая фигура. Хрупкая. Ничтожная. Мимолетная. И роковая! Всем нам теперь нам всем так его так не хватает. О, как они плакали… Навзрыд! Не хватает… Да без него никуда! Без него все видят, что это просто фарс! Сколько глупостей Боголепов выслушал о гениальном директоре – никто так и не понял, в чем была его так называемая гениальность. Никто не понял, что этот образ интеллигента-шестидесятника был старательно подобран, директор надевал его и носил каждый день, как рабочую одежду, словарь и очки оставались в его кабинете – об этом никто никогда не задумывался. Он был гениальным продавцом. Превратил ремесло в искусство. Никто и не замечал, что попадает не в школу, а настоящий театр. Они рыдали и говорили: он так любил свое дело… он так любил языки… Господи, он и червей своих любил не меньше, и турецкие сладости, и детские игрушки – любил бы и дальше, если бы дали торговать спокойно, а не жгли гаражи, киоски, машины. Но женщины просто помешались, они стонали каждый день… нескончаемый поток слез и фантастические фрески, легенды, мифы. Героический эпос «Песнь о славном Директоре». Ни одна из них не знала его, не поняла, не смекнула. За несколько месяцев каждая состарилась лет на восемь. Оркестром плакальщиц управляла невыносимая сектантка. Поминали, как студентки. Кофе, коньяк, шоколадка. Дешево и сердито. В наши дни это просто устроить. Кризис всему голова. И музыку подобрали соответствующую. Stars on 45. Он ринулся к выходу но: «Павел, посидите с нами», – пришлось посидеть. Четверть часа. Павел поджимал губы и терпел. Сектантка выступила и вышла (всплеснули носовые платки). Сразу стало легче, словно сорвали пыльные шторы. Остальные сносно. Всхлипы в духе где мы все будем, когда кончится лето? К кому перебираться? К Георгию? К эстонцам? С оглядкой на дверь перемывали кости новой директрисе. Надежды, что Эльвира удержит школу, а следовательно, учителя сохранят за собой места, не осталось.
«Она ненавидит школу всем сердцем».
«Она сживает нас со свету».
«Она нам всем мстит».
Нет, Эльвира мстила творению мужа, который бросил ее. Сменила логотип. Выбросила обезьянку Никки, которая прыгала с ветки на ветку в рекламных мониторах общественного транспорта. Пальма эстонского языка: тере! Кас рягите эсти кеелес? На куст английского языка – прыг: ду ю спик инглиш гуд энаф? На немецкий пенек, хвать пирожок: шпрехен зи дойч? Примитивная компьютерная анимация – семь лет назад, когда реклама появилась на местных коммерческих каналах, может быть, это и выглядело круто (творение серого косого программиста с тремя прядями поперек плеши), но в наши дни это как-то убого. Обезьянку озвучила дочка директора, которая давно живет в Берлине, работает в фирме хедхантинга, у нее самой две такие же анимационные дочки. Дурочка, которая сшила и придумала обезьянку (и ни копейки не имела с этого – пожертвовала, блаженная, ради общего дела), хотела вернуть куклу и попалась охранникам, с ней разбирались полицейские, потому что она – трижды дура – влезла в уже закрытые под электронный сургуч помещения, где хранилось старье, в том числе и ею сшитая обезьянка. Эльвира смеялась: ну, конечно, Лена, вы можете забрать свою обезьянку, нам она больше не нужна. Дурочку отпустили. Директриса усмехалась: что за люди… Ей было не понять. Какие-то сентиментальные вещи… Обезьянка… Подумаешь! Она отменила все рекламы. Хватит! Отпрыгалась! Вся суфистика с разноцветными лампочками отправилась на свалку, то есть в комнаты для медитаций. Это была настоящая месть. Так ненавидеть может только стерва. Накипело. Бьет через край. В пустоту. Мягкого человека не поднять из мертвых и не плюнуть в лицо. За что? За то, что сгинул, не спросив! Надо что-то растоптать. И она топтала его бизнес.
Первым делом назначила менеджером своего любовника – пропахший супом и котлетами мешковатый учитель биологии, уволенный из школы за незнание эстонского, приносил обеды в термосе и пластмассовой коробке, просиживал зад в кабинете, почитывая «Дельфи». Сектантку утвердила куратором проекта, который Боголепов задумал с директором (идея была моя, но где это записано? – там же, где и авторские за составление курса).
«Это все Зоя Семенова виновата. У нее был роман с директором. Вот Эльвира и мстит…»
Никто не знал наверняка, было ли там что-то. Одно знали точно: Алексей Викторович был влюблен в Зою. Ухаживал, дарил цветы, подвозил на машине, водил в ресторан, отмечал в школе ее дни рожденья, избегал ее мужа (все замечали неловкость).
Однажды ни с того ни с сего принес свой студенческий дипломный чертеж какого-то двигателя, повесил его в рамке на стену, как картину, и долго рассказывал о том, как работал над ним, сколько раз переделывал (наверное, это было частью своеобразного ухаживания). «Вот тогда-то я и научился правильно точить карандаши», – сказал он.
Точить карандаши было любимым занятием директора: это его успокаивало – и других. Заходишь к нему, а он сидит, с довольным видом карандаш правит, пробует его на бумаге, трогает подушечкой большого пальца, щурится и с благодушной улыбкой ставит в карандашницу – смотришь на него, и тепло на сердце становится.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































