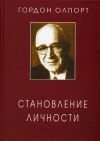Текст книги "Психология. Психотехника. Психагогика"

Автор книги: Андрей Пузырей
Жанр: Общая психология, Книги по психологии
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Пример реализации психотехнического подхода можно найти в юнговской «Психологии и алхимии». Как известно, эта работа состоит из двух частей. В первой части Юнг на материале анализа более тысячи (!) сновидений пытается дать реконструкцию психологического развития одного из своих пациентов. И когда Юнг раскрывает процесс душевно-духовного развития личности, процесс достижения человеком душевно-духовной зрелости – то, что он называет процессом «индивидуации», и фиксирует при этом особый символический язык, в котором этот процесс выполняется, в частности – в материале сновидений, а потом берет алхимические тексты и пытается их анализировать, но не как историк науки, не как «донаучную фазу развития химии» (с этой точки зрения вся алхимия представляет собой коллекцию каких-то несуразностей, такого же толка, как «флогистон»), но пытается рассмотреть их с психотехнической точки зрения, то обнаруживает поразительные вещи. Оказывается, если посмотреть на алхимическую символику или даже на некоторые алхимические формулы с такой психотехнической точки зрения, то есть – как на инструменты, с помощью которых не только наука развивалась, но человек пытался себя прорабатывать и развивать как духовное существо, то можно обнаружить поразительные параллели с символикой сновидений. Алхимические построения, стало быть, не фикции, каковыми они выступают в естественнонаучном ракурсе, то есть в прямом отнесении к тем физическим объектам, которые ими вроде бы имеются в виду, нет – они реальны, но в инструментальном, психотехническом повороте.
Каково отношение такого рода психологии искусства к самому искусству, к жизни самих вещей искусства? Ведь можно задать вопрос: «А зачем вообще нужна психология искусства?» Ибо если вещь искусства действует на нас сама по себе и производит свой «психотехнический» эффект благодаря своей собственной конституции, то зачем еще рядом с ней должна быть психология искусства? И, вообще, – какое бы то ни было исследование искусства? И даже: «Не убивает ли любой анализ само произведение искусства?»
«Гамлет» начинается у Выготского с различения двух типов понимания. С одной стороны – понимание, которое убивает вещь искусства, замещая ее собой. Это – «объясняющее» понимание, которое устраняет тайну действия вещи искусства, создает иллюзию полной ее прозрачности для рационального сознания.
Однако Выготский намечал и иной тип понимания, на который и ориентирована его «Психология искусства», – понимание, доставляемое таким анализом вещи искусства, который не замещает ее собой, но всегда остается «при ней». Такой анализ является как бы продолжением вещи искусства, он подобен некой «приставке», с помощью которой мы можем «амплифицировать», усилить свое понимание вещи.
Не имея возможности подробно и развернуто продолжить эту мысль Выготского, укажем лишь на параллели в некоторых других областях психологии, в частности – в психологии сновидений, где существует та же проблема отношения анализа и толкования сновидения к самому сновидению, взятому в его психотехнической функции в психической жизни. Как показывает практика психотерапии, толкование сновидений есть продуктивная работа в плане понимания сновидений и действия их в нас.
Если последовательно держаться второго из намеченных Выготским типа понимания и выполнять анализ искусства так, чтобы он лишь амплифицировал действие самой вещи искусства, то тогда, во-первых, подобного рода анализ оказывается возможным и, во-вторых, в нем нет ничего «разрушительного» для самой вещи искусства.
Можно пойти дальше и настаивать на том (опять же совершенно аналогично толкованию сновидений), что решающе важным при этом оказывается даже не столько структура вещи искусства сама по себе (которая, повторим, является лишь искусственным «органом», «приставкой», «насадкой» к наличной психической и шире: душевно-духовной организации человека в контексте выполнения им духовной работы), и даже не понимающий анализ этой вещи (в рамках психологии искусства), обеспечивающий, помимо прочего, как бы «стыковку» этой «приставки» с наличной психической и духовной организацией человека, но прежде всего, конечно, план самой духовной работы («переживания» в смысле Василюка, 1984), по отношению к которой вещь искусства, пусть и амплифицированная ее анализом, является только как бы своего рода пространством условий возможности ее совершения – пространством, где может развертываться некое «духовное странствие» (или иногда, быть может – приключение).
В этом смысле всякая вещь искусства существует только для человека, встающего на путь духовной работы, выбирающего себя в качестве духовно свободного и развивающегося существа. Это следует специально подчеркнуть, ибо из того, как была представлена суть «психологии искусства» Выготского, можно было бы заключить, что есть некий автоматизм, некая непременность и неотвратимость действия вещей искусства в нас или через нас в плане нашего развития в ту или другую сторону.
На самом деле, конечно же, такого нет, и если человек находится перед большой вещью искусства и достоин[39]39
Что такой вопрос стоит внутри сознания нравственно самоопределяющегося в сфере искусства человека, выразительно свидетельствует, например, реплика А. Веберна из его письма А. Бергу (Веберн, 1975, с. 85).
[Закрыть] этой вещи искусства, то каждый раз он находится, прежде всего, перед ситуацией самоопределения, или выбора – выбора себя перед вещью искусства в качестве того или иного существа.
И здесь, конечно, все зависит от того, что сам человек делает – как свободное, нравственное, духовное существо. Он должен совершить усилие – духовное усилие просто, чтобы возобновлять себя, длить в качестве человека. Здесь нет механической связи. Но вместе с тем подлинная вещь искусства – коль скоро она все-таки понята (здесь можно напомнить знаменитое седьмое письмо Платона) – обладает своего рода «принудительностью» действия, делая «выбор» человека «безосновным» – «стою здесь, не могу иначе!», что, собственно, и конституирует план его духовно-личностного бытия.
«Психология искусства», как ее намечает Выготский, стало быть, и еще в одном – чрезвычайно важном отношении – оказывается совершенно уникальным типом исследования. Эта уникальность состоит в особом, невозможном для традиционных научных исследований, отношении, которое устанавливается между нею, психологией искусства, и изучаемым в ней «объектом», то есть самим искусством, жизнью его вещей в нас.
Исследование каким-то образом все-таки включается в жизнь самих вещей искусства. Психология искусства – и эта мысль была намечена самим Выготским в рамках его, по сути, уже культурно-исторической психологии искусства – стоит не во внешнем отношении к самим вещам искусства и к их жизни среди людей. В результате анализа, который в ней выполняется, эта психология искусства помогает, во-первых, эксплицировать те новые формы жизни и того нового человека, которые в себе вырабатывает, «вынашивает» само искусство, и, во-вторых, «исправляет им пути».
В этом смысле эта психология искусства продвигается еще на один шаг дальше по сравнению с самыми перспективными направлениями современной психологии, в частности – по сравнению с современной гуманистической психологией. Как известно, пафос этого направления состоит во многом в том, чтобы перейти от изучения «среднего» человека – который всей предшествующей психологией и принимался за норму – к изучению «исключительных», «выдающихся» личностей – личностей, стоящих как бы «на переднем крае» психического и духовного развития человечества. По мысли гуманистических психологов: пытаясь анализировать эти исключительные случаи, мы можем наметить перспективу развития человека вообще. Но если гуманистическая психология хочет иметь дело пусть и с «выдающимися», но все-таки – уже наличными случаями, то психология искусства в том ее понимании, которое мы находим у Выготского, позволяет пойти дальше и развернуть психологию – как к действительной «норме» человека – к человеку возможному, которого вообще еще нигде нет среди людей, но который может и потому должен быть, который еще только грядет.
Перефразируя мысль Т. Адорно касательно понятия «нормы музыкального восприятия», следовало бы утверждать, что психическая и духовная организация человека, к которой приводит исследователя культурно-историческая психология искусства, – это психическая и духовная организация человека «одаренного и непрестанно работающего над своим развитием». Ориентация на такого человека и, соответственно, установка на «овладение» процессом развития человека – это одна из центральных ценностей для культурно-исторической психологии вообще.
Итак, анализ «Психологии искусства» не только обнаруживает целый ряд мыслительных ходов, уже совершенно эквивалентных ряду принципиальных положений собственно культурно-исторической психологии Выготского (особенно в том, что касается метода исследования, но также и – видения «природы объекта» изучения), но также – что, быть может, не менее важно – позволяет зафиксировать наиболее глобальные и фундаментальные для всего мышления Выготского, для всей его работы в психологии – цели и ценности, установки и ориентации его как исследователя, мыслителя и личности. Это, во-первых, установка на «вершинное» в человеке или, говоря словами Достоевского – на «человека в человеке», то есть на человека в перспективе его развития, – взгляд на человека, на его психическую и духовную организацию с точки зрения того, чем вообще может быть человек, взгляд также с точки зрения путей, которые существуют для него в плане достижения этого возможного его состояния, путей, которые раскрываются, в частности, искусством и психологией искусства.
Истоки культурно-исторической теории: дефектологияЕсли мы хотим изучить что-нибудь действительно глубоко, нам нужно исследовать это не в его «нормальном», правильном, обычном виде, но – в его критическом положении, в его лихорадке и страсти.
И. Лакатос (Доказательства и опровержения)
Второй важной линией интересов раннего Выготского, подготовившей его культурно-историческую психологию, является дефектология, углубленный анализ Выготским проблемы компенсации дефектов психического развития ребенка.
Выготский рассматривал психическое развитие детей с такими дефектами, как врожденная слепота, глухота, умственная недостаточность и т. д., то есть дефектами, казалось бы, чисто соматическими. И вот уже в первых работах Выготского начала 20-х годов мы встречаем парадоксальный, на первый взгляд, тезис, что ключ к решению проблемы детской дефективности лежит в понимании того, что «всякий дефект есть понятие социальное». Если помнить, какие дефекты имел при этом в виду Выготский, тезис этот представляется совершенно несуразным. И современники действительно недоумевали: «Помилуйте, – говорили они, – как же так, ведь это же – чисто органические поражения: врожденные дефекты или последствия родовой травмы или же – перенесенного инфекционного заболевания. Любой серьезный клиницист это скажет. Разве не так?»
Бесспорно, отвечал Выготский, если смотреть на эти дефекты с обычной клинической точки зрения, прежде всего – с точки зрения их происхождения, анатомической и физиологической природы и т. д. Однако если брать эти дефекты не сами по себе, но в контексте психического развития ребенка, с точки зрения их роли в психическом развитии ребенка или, если угодно, как фактор психического развития ребенка, то оказывается, что они действительно имеют социальную природу.
В самом деле – как то пытался показать Выготский – дефект в каком-то смысле даже и не существует для ребенка до тех пор, пока он не «засекается» им в плане конкретных деятельностей, связывающих его с другими людьми, или, иначе говоря, в плане его реальных социальных отношений с другими людьми, прежде всего, конечно, с ближайшими людьми из его окружения, с его родителями, сверстниками, воспитателями или учителями. Это утверждение Выготского представлялось, наверное, не менее шокирующим, чем первое. И тем не менее оно также предельно точно и верно.
Поясняя его, Выготский предлагал мысленный эксперимент. Выготский был непревзойденным мастером мысленного эксперимента, то есть умел отыскивать каждый раз такие «воображаемые» ситуации, исход испытания в которых был очевидным, а следствия из него были далеко не очевидны и при этом – имели далеко идущие последствия.
Представьте себе, говорил Выготский, что мы живем через сто или даже через пятьсот лет, когда, с одной стороны, мы уже настолько хорошо и полно понимаем законы психического развития ребенка с дефектом, а с другой – располагаем столь безграничными средствами и возможностями для – позвольте подчеркнуть это – внешней компенсации дефекта, то есть средствами соответствующей организации социальной ситуации жизни и развития ребенка, что он нигде – ни в плане своих отношений с другими людьми, ни в плане своих деятельностей не «наткнется» на свой дефект, не почувствует своей ущербности, несостоятельности: никто не укажет ему на этот дефект пальцем, никто не станет дразнить его или, наоборот, чрезмерно его опекать, тем самым, опять же, намекая и подчеркивая его неполноценность и т. д.
Будет ли ребенок при таких условиях – в плане его психических особенностей, складывающихся в ходе его развития, – иметь такие черты, которые были бы как-то обусловлены фактом наличия у него дефекта? Ответ – очевиден: нет!
В плане своего психического развития ребенок в этом случае, грубо говоря, ничем не будет отличаться от нормального ребенка. Во всяком случае, среди психических новообразований, возникающих в ходе его психического развития, не будет ничего такого, что было бы – прямо и непосредственно – обусловлено наличием у него того или иного – сколь угодно грубого и органического по своей этиологии – дефекта. Иначе говоря, в психологическом смысле, с точки зрения психического развития ребенка, его дефекта в этом случае и в самом деле как бы просто не существует.
Подчеркнем: не существует – не только и не столько в субъективном смысле (хотя тезис справедлив и в этом отношении: такой ребенок никогда не узнает о своем дефекте, о том, что он чем-то отличается от других людей), но и прежде всего – объективно, в плане реальных последствий для его психического развития. В этом смысле дефекта не существует не только как «фактора» психического развития ребенка, но и как «факта» его жизни и деятельности, причем первое обусловлено последним.
Но ведь это и значит, что дефект – как фактор психического развития – есть понятие «социальное».
Больше того, легко показать, что не только самый факт психологического наличия или отсутствия дефекта, но и его психологическая структура будут определяться тем, в каких связях и отношениях деятельности этот дефект ребенком засекается, а также – что, быть может, не менее важно, по крайней мере, в нашем контексте, то есть с точки зрения прослеживания истоков культурно-исторической теории, – и тем, какие социальные и культурные приемы и средства компенсации этого дефекта предлагаются ребенку со стороны общества, в плане его обучения и воспитания. Это было ясно Выготскому с самого начала и неоднократно отстаивалось им в полемике с различными механицистскими представлениями его современников.
Ключ к пониманию ребенка с дефектом, по Выготскому, лежит в раскрытии возможностей социальной и культурной компенсации дефекта. Это положение уже предельно близко последующим представлениям культурно-исторической концепции. У Выготского была достаточно развернутая программа совершенно конкретных прикладных разработок в области дефектологии – программа, до сих пор до конца еще не реализованная, программа, которая делала акцент на организации совместной деятельности ребенка с дефектом с другими людьми, со взрослыми. Уже в ранних работах у Выготского появляется мысль о том, что компенсация дефекта может идти по линии создания – как он говорил – «экстрацеребральных связей», то есть связей, которые замыкают ребенка с миром не напрямую, не накоротко, а через другого человека. Причем он говорил здесь не только о буквальном замещении дефектного органа ребенка здоровым органом другого человека. Хотя такое возможно, и это уже является яркой демонстрацией справедливости его тезиса. Действительно, слепой ребенок может смотреть на мир глазами другого человека. И именно в силу того, что глаз тут оказывается только органом, с помощью которого реализуются те или иные формы социальной жизни и деятельности ребенка, этот орган может быть заменен у него – его дефектный орган может быть заменен полноценным органом другого человека. Не в том, конечно, буквальном смысле, который может возникнуть сегодня в связи с широкой практикой «пересадки органов», но в смысле организации кооперации с другим человеком. Больше того, если это – так, то не обязательно, компенсируя недостаток слепого ребенка, обеспечивать ему этот недостающий нормальный здоровый глаз. Грубо говоря, можно организовать эту компенсацию на разного рода «обходных путях».
Здесь у Выготского впервые проступает одна из лейтлиний его последующей культурно-исторической концепции – мысль о возможности своеобразного социального и культурного «усиления», «амплификации», «достраивания» человека и его деятельности до полноценных форм – полноценных, конечно, всегда по отношению к тем задачам, которые стоят перед человеком. Ведь «неполноценным» в каком-то смысле может быть и не обязательно человек с дефектом. Выготский настаивал на том, что всякий ребенок, коль скоро ситуация его психического развития с самого начала является ситуацией социальной, предъявляющей к нему достаточно высокие требования, постоянно ощущает свою дефициентность, нехватку чего-то самого главного для успешного осуществления требуемых от него форм деятельности. И компенсация этой неполноценности как раз и может, по мысли Выготского, происходить на путях оснащения его особыми искусственными «приставками», или «органами», с помощью которых он уже может построить требуемые формы психической деятельности.
Методологическая программа построения «новой психологии»Метод – значит путь, мы понимаем его как средство познания; но путь во всех точках определен целью, куда он ведет. Поэтому практика перестраивает всю методологию науки.
Л.С. Выготский (Исторический смысл психологического кризиса)
Как отмечает один из крупнейших современных исследователей в области методологии науки Т. Кун (Кун, 1977, с. 108 и др.), «достоверные проверки (той или иной парадигмы научного мышления) с помощью наблюдения <…> не обеспечивают никакой основы для выбора между ними», для предпочтения той или иной из них. В этих условиях одним из решающих факторов, определяющих выбор (и в частности – смену) парадигм, оказывается возникающее в научном сообществе осознание кризиса, кризисного состояния, в котором находится та или иная область исследований.
Отсюда: «приведение» научного сообщества к осознанию кризиса должно рассматриваться в качестве важного элемента культуротехнического действия, то есть направленного изменения парадигм мышления исследователей. Заметим, «осознание кризиса», самая форма его становится не только фактором, стимулирующим и мотивирующим смену парадигм, но также и до известной степени определяющим направление этого изменения.
В связи с этим исключительное значение приобретает теория кризиса (как в ее общелогическом, так и в конкретно-методологическом плане, то есть – применительно к задаче анализа той или иной конкретной ситуации в науке) и в частности вопрос об отличении собственно кризисного состояния от нормальной критики наличных парадигм.
Выготский сравнивал свой анализ кризиса психологии с изучением течения соматического заболевания. Через разделение болезни и реакции, «здорового» и «больного» он пытался перейти к формулировке «диагноза» и «прогноза», то есть к решению вопроса о природе и исходе этого кризиса.
Теория кризиса, по Выготскому, должна дать: а) конкретно-исторический и б) методологический анализ кризиса. Она должна представить кризис не как борьбу отдельных психологов, но вскрывать то, что «за» ней стоит.
Ставя задачу раскрытия ближайших «причин» и движущих сил кризиса, Выготский делает важную оговорку: «Мы, – пишет он, – останавливаемся лишь на движущих силах, которые лежат внутри нашей науки, оставляя все другие в стороне» (Выготский, 1927, с. 386). Тем самым Выготский, прежде всего, открыто противостоит тем исследователям, которые сводили возникновение и существование кризиса к чисто внешним по отношению к психологии обстоятельствам: социальным, идеологическим и т. д. То, что включается далее Выготским в перечень движущих сил кризиса, одновременно позволяет нам, стало быть, решать также и вопрос о границе психологии.
Выготский был принципиально не согласен с теми, кто утверждал, что кризис пришел в психологию извне, был искусственно в нее привнесен, что будто бы это некоторые лица затеяли реформу науки, что якобы это новая официальная идеология потребовала пересмотра науки и т. п. В самой же психологической науке якобы все было спокойно и благополучно, как – с иронией замечает Выготский – в минералогии. Что якобы в самой психологии не было никаких объективных оснований ни для какого кризиса. Такая точка зрения действительно верно передавала самосознание большинства русских академических психологов начала века и первых послереволюционных лет – всех этих, по выражению Выготского, «профессоров и экзаменаторов, организаторов и культуртрегеров», из-под пера которых не вышло ни одной сколько-нибудь самостоятельной и значительной работы. Российская психология тех лет действительно представляла собой глухую научную провинцию.
В Европе и Америке одна за другой рождались новые психологические школы и направления: вюрцбургская школа и психоанализ, бихевиоризм и гештальтпсихология, психотехника, социальная психология и т. д. Они вели ожесточенную борьбу и с прежней интроспективной психологией и между собой. Однако эти бушевавшие в мировой психологии бури не доходили до тихой гавани узкоакадемической русской психологии. Немудрено, что ее представители вообще отрицали наличие кризиса в самой психологии.
Но и в мировой психологической науке немногие даже крупные исследователи поднимались до действительно осознания характера кризиса и его причин. Для большинства из них он заключался, как правило, в напряжении, которое возникло между их собственными, всегда «правильными и передовыми» взглядами и всей остальной психологией.
Характеризуя положение в психологии, Г. Эббингауз отмечал, что относительно всех главных вопросов ведутся нескончаемые споры, нет никакого единого и прочного основания ни для серьезной теоретической работы, ни для достоверных эмпирических исследований. Есть не много направлений в одной науке, но много различных наук (психологий). Не борьба различных альтернативных гипотез и точек зрения внутри одной науки, но – борьба глобальных, различных по типу, часто даже – исключающих друг друга наук. Так, к примеру, психоанализ, интенциональная психология сознания и рефлексология, поясняет Выготский, это, по сути, различные типы наук, каждая из которых к тому же стремится стать общей психологией. Стремится, но – не может.
Ибо, как указывал цитируемый Выготским Л. Бинсвангер, одна из характеристик или даже причин кризиса в том-то и состоит, что у психологии нет своей – адекватной ее природе и состоянию – методологии и, больше того – «она сама не способна ее сейчас создать».
Откуда же может быть взята эта методология или: как она может быть создана?
У Бинсвангера, в то время неокантиански ориентированного мыслителя, ответ вполне определенный и однозначный: она может быть «извлечена» из анализа истории науки[40]40
Понятное дело, что само по себе это обращение к анализу истории науки в данном случае не означает принадлежности исследователя к неокантианской традиции (см. далее).
[Закрыть]. Либо – из анализа истории самой психологии, либо даже – из анализа истории других наук, особенно тех, что уже перешли в посткризисное состояние.
Нельзя не отметить целого ряда неявных, но чрезвычайно важных допущений воспроизведенного рассуждения. Прежде всего, можно было бы проблематизировать неоднократно использованное и в общем виде, и в виде частных квалификаций убеждение в том, что при рассмотрении кризиса в психологии (подобно тому, что можно было бы говорить в отношении других дисциплин, особенно естественного ряда) следует говорить именно о науках и различных типах все же – наук.
Действительно, могут быть сформулированы (и уже во времена Выготского были высказаны) серьезные сомнения в том, что в качестве наук в узком и строгом смысле слова можно рассматривать такие хотя бы дисциплины, как «психоанализ» или «интенциональная (то есть, по существу, феноменологическая) психология».
Во всяком случае, как это будет разъяснено ниже, можно сомневаться, что понятие «науки» в случае некоторых областей психологии или даже, быть может, сферы психологии в целом означает (и вообще может означать) то же самое, что в рамках естествознания. Ибо, как мы опять же попытаемся показать это дальше, возникают чрезвычайно серьезные методологические возражения против того, чтобы считать психологию человека естественной наукой.
Но если психология не является естественной наукой, то можно ли рассчитывать извлечь «прототип» для построения новой психологии из анализа истории естественных наук (включая и историю психологии, коль скоро она также строилась прежде как естественная наука)?
И далее: если даже симптомом кризиса психологии и считать существование многих, не интегрированных в один научный предмет психологий, то означает ли это, что его разрешение и преодоление должны лежать на пути «восстановления» (на деле же – впервые достижения, ибо такого состояния психологии на самом деле никогда не было) однопредметного состояния психологии, то есть вообще – на пути научно-предметной интеграции (организации) сферы психологического знания и психологической работы?
И, наконец: если и обращаться в этом случае к истории науки, то каким должно быть само «историческое исследование», чтобы оно могло позволить ответить на поставленные методологические вопросы?
Главный вопрос для Выготского – это вопрос о природе вражды между различными течениями в психологии. Главная оппозиция: внутрипредметный или межпредметный характер конфликта? И, соответственно – каков характер требуемой для его преодоления работы: предметно-теоретический или же – собственно методологический[41]41
Вообще говоря, характер кризиса и способ намечаемого его преодоления в историческом плане не обязательно оказываются жестко и однозначно связанными. Возможны случаи, когда собственно внутрипредметный разрыв может сниматься через выход в план методологической работы. Однако известны попытки и прямо противоположного характера: когда, по сути, межпредметный конфликт исследователь пытается преодолеть за счет внутрипредметной работы. Во всяком случае, в истории психологии (в силу отсутствия подчас адекватной рефлексии ситуации) такого рода попытки нередки, хотя, по крупному счету, они с самого начала и обречены на неудачу.
[Закрыть]. Есть ли кризис – момент и событие в развитии психологии как научного предмета или же – в развитии более широкой сферы психологической работы?
Движущая сила кризиса, по мысли Выготского, лежит в развитии «прикладной» (или, вернее было бы сказать: «практической») психологии, что «приводит к перестройке всей методологии науки на основе принципа практики». Этот принцип «давит на психологию, толкая ее к разрыву на две психологии» – академическую, «объяснительную», ориентированную на эксперимент и на установление законов, то есть на получение знаний типа естественнонаучного, и – «понимающую», стремящуюся не столько «объяснить», сколько понять и овладеть, а затем и – изменить, перестроить те или иные реальные, практически необходимые и значимые формы человеческой мыследеятельности.
Он же – этот принцип практики – должен обеспечить, по мысли Выготского, также и правильное развитие новой психологии. «Практика и философия (практики) становятся во главу угла» (Выготский, 1982, с. 393).
«Высшая серьезность практики, – писал Выготский, – живительна для психологии. Промышленность и войско, воспитание и лечение оживят и реформируют науку <…>; психотехника <…>, которая привела бы к подчинению и овладению психикой, к искусственному управлению поведением» должна стать целью такой психологии (там же, с. 389).
Симптомом того, что позиция Выготского при анализе ситуации в психологии – не пассивно-отражательная, но активно-деятельная, что его анализ кризиса выполняется в рамках реализации определенного социо– и культуротехнического действия по отношению к психологии, – симптомом этого и является то, что задача анализа кризиса формулируется в «телеологическом» ключе.
Так, ставя вопрос о природе вражды между дисциплинами, конституирующей ситуацию кризиса, и о разрешимости разъедающих психологию противоречий, Выготский пишет: «Нужно построить теорию кризиса так, чтобы дать ответ и на этот вопрос» (там же, с. 377). Это характерное «так, чтобы» неоднократно появляется на страницах работы Выготского при обсуждении вопроса о способе представления ситуации в психологии. Не столько «потому, что», сколько – «для того, чтобы» или «так, чтобы» – вот доминирующий ракурс рассмотрения ситуации у Выготского.
Это означает, что теория кризиса – даже в той части, которая касается квалификации ситуации в психологии как кризисной и, тем более, дальше, при обсуждении вопроса о природе и движущих силах кризиса – развертывается Выготским «телеологически», то есть – исходя из позитивно сформулированной цели (построение конкретной и «объективной» психологии сознания человека и, вообще – высших форм его психической деятельности) и, до известной степени уже прорисованного, идеала, или «проекта» такой психологии, сформулированного, по крайней мере, в языке ряда требований, которым она – эта «новая психология» – должна удовлетворять.
Выготский как бы снова и снова спрашивает: каким образом следует представлять ситуацию в психологии, или: выставлять ее в рефлексии, в специальной реконструкции для последующего анализа, чтобы единственно возможное ее решение лежало на пути к той новой психологии человека, идею которой он пытается наметить. «Метод, – позволим себе повторить слова Выготского, вынесенные в эпиграф, – значит путь, мы понимаем его как средство познания; но путь во всех точках определен целью, куда он ведет. Поэтому практика перестраивает всю методологию науки» (там же, с. 388).
Подчеркнем только, что это нисколько не означает субъективизма и произвольности развертываемой таким образом теории кризиса. Напротив, в мыследеятельностной ориентации именно то, что теория кризиса делает возможной реализацию проекта новой психологии, и является доказательством ее «объективности» и «необходимого характера», словом, ее «истинности». Ибо эта теория кризиса – и по отношению к Выготскому это следует особо подчеркнуть – выступает как момент его самоопределения в ситуации его методологической работы в психологии, или иначе: как момент организации его собственного мыследействования, осуществления определенного социо– и культуротехнического действия по реализации проекта «новой психологии».
Теория кризиса, стало быть, сама выступает у Выготского с самого начала как важнейшая часть «общей психологии», то есть особой методологической дисциплины, призванной ответить на вопрос об условиях возможности построения новой научной психологии сознания, о «пространстве» этой работы, то есть о способе ее организации.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?