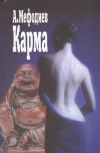Читать книгу "Рассказы из пиалы (сборник)"

Автор книги: Андрей Волос
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Андрей Волос
Рассказы из пиалы
© Волос А., 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018
Мурзик
1
Шумела весна, стояла теплынь, солнце светило с яркого неба, а у нашего Мурзика была чумка, и он умирал.
Он расслабленно лежал в углу дивана на сложенном вчетверо байковом одеяльце. Нос был сухой и горячий. Полузакрытые глаза безучастно смотрели в стену.
Я осторожно касался пальцем потускневшей, свалявшейся за время болезни шерсти.
– Мурзик! – тихо звал я. – Мурзик!
Мурзик не реагировал. У него была чумка, а коты от чумки умирают.
Чтобы не нагнетать лишнего напряжения, скажу сразу, что он, слава богу, не умер. То есть что значит не умер? Теперь-то его все равно уже нет на белом свете – ведь кошки не живут долго…
А к нам Мурзик попал совсем маленьким, чуть только не слепым. Не буду распространяться о том, каким он был славным в этом нежном возрасте. Котята все смешны и похожи: все они примерно одинаково скачут за бумажкой на ниточке, валяются по полу, кувыркнувшись с разбегу через голову, охотятся за тапочками, горбятся, грозно идут боком вприпрыжку и, припрыгав почти вплотную, вдруг, дико вытаращив глаза, совершенно по-человечьи встают на задние лапы, широко раскинув передние, точь-в-точь как это делают старые друзья, случайно встречаясь на улице.
Потом он вырос и превратился в большого боевого кота. В сущности, ничего примечательного в нем не было – самый обыкновенный кот самой плебейской тигриной расцветки. Серенький в полоску.
Жилось ему у нас неплохо. Холеный, закормленный, летом и осенью он был толст, медлителен и вальяжен, ступал с достоинством. Окном в мир, равно как и дверью, ему служила форточка. Он часами сидел на ней, рассматривая шевеление листвы и прыгающих в пыли воробьев, а потом вылезал наружу.
Все окна первого этажа в нашем большом доме были забраны решетками. Нагулявшись, Мурзик молча вспрыгивал с земли на оконный карниз, несколько времени топтался на нем, глядя вверх, на форточку, примеряясь и нервно перебирая лапами, наконец отталкивался, норовя попасть головой в одно из ромбических отверстий решетки, а затем неистово продирался внутрь, скребя когтями, мучительно сплющиваясь, кособочась, на воровской манер протискивая сначала одно, а потом и другое плечо.
В середине зимы Мурзик начинал гулять. Скоро бока западали, глаза на сухой морде начинали светиться сумасшедшим огнем, весь он покрывался болячками и шрамами, совершенно терял рассудок и превращался в жалкое безмозглое существо, способное только пьяно орать по ночам.
Зато когда он теперь ненадолго заглядывал домой – вроде как на побывку: помыться, побриться и вообще передохнуть перед новыми боевыми действиями, – решетка уже не представляла для него серьезного препятствия. Он змеился сквозь нее, словно куница.
Мать встречала его попреками:
– Пришел! Явился не запылился! Где шлялся три дня, дурак старый?! Гуляешь все! Смотри, догуляешься! Прибьют тебя где-нибудь!..
Мурзик ковылял за ней по кухне, с яростным мурлыканьем бодал ноги. Наконец она ставила на пол мисочку. Сиротски выставив острые лопатки, он припадал к ней, косясь по сторонам, глотал, давился, жевал, хрустя попадающимися на зуб жилами и выворачивая голову то на один бок, то на другой. Когда миска пустела, он некоторое время одурело сидел перед ней, потом отходил пошатываясь, садился возле шкафа. Начинал было послеобеденный туалет, вылизывал один бок, но тут силы его покидали. Он плелся в комнату и засыпал по-солдатски – то есть где сон сморил, там и повалился.
2
Надо сказать, что сейчас, много лет спустя, вспоминая, как он вспрыгивал на колени, как щурился и вытягивал пушистую шею, если кто-нибудь из нас почесывал ему подбородок и горло, как ярился, как суживал глаза и бил лапой (играя с Мурзиком, я подчас доводил его до последнего градуса бешенства, и в его злобном взгляде начинало сквозить сожаление, что он не может стать на минуточку тигром, чтобы меня сожрать), – представляя себе его сытую степенность, невозмутимую холодность, барскую походку и то искреннее изумление, которое неизменно воцарялось на усатой физиономии, когда он обнаруживал, что опять кому-то до него есть дело, – представляя себе все это, я не могу отделаться от ощущения, будто речь идет не о коте, а о человеке.
Так устроено воображение. Наверное, мы не могли бы испытывать к животным ни любви, ни жалости, если бы не полагали, что они мыслят и чувствуют так же, как мы сами: как люди, но люди небольшого роста и не вполне самостоятельные – забывчивые, требующие нескончаемых напоминаний и повторов одного и того же даже в тех случаях, когда, казалось бы, все можно отлично запомнить с первого раза; о которых всегда приходится заботиться и наставлять на путь истинный. Люди – но как будто не взрослые. Короче говоря, мы числим их детьми.
За примерами далеко ходить не надо. Один мой приятель жутко расстраивался, если в присутствии его шотландской овчарки звучало бранное слово. Другой под занавес дружеской вечеринки просил пару-другую зерен кофе, чтобы перебить запах спиртного; жуя, то и дело безнадежно махал рукой и сокрушенно повторял: «Черт возьми, вот ведь не хотел пить, не хотел… Все равно Семен учует… Его не проведешь… Будет думать, что я алкоголик…» Излишне объяснять, что Семеном звался его доберман-пинчер.
3
Или, например, однажды наш шофер поймал сурка. Сурок – это довольно большой и смышленый зверь, толстый в заду; вид у него чрезвычайно мирный и разнеженный, будто он только из-за праздничного стола. Я их много видел. Всегда они сидят возле нор и посвистывают. Этот замечтался, уши развесил на солнышке, а когда спохватился – поздно, его уже в мешок сунули. Шофер радовался – дуриком получилось.
Солнце садилось, степь розовела, холмилась, тени вытягивались по траве. Мы были возбуждены – еще бы, удача такая, на шарап сурка поймать, – громко хлопали дверцами, переговаривались, и голоса по равнине летели далеко-далеко.
Машина у нас была закрытая – «уазик». Сурку все равно убежать некуда, поэтому его вытряхнули из мешка. Он забился в угол, стал озираться. Поглазели мы на него, еще немного посмеялись, а шофер даже подразнил палкой, и сурок бросался и фыркал. Потом шофер сел за руль, я тоже уселся, и машина поехала. Поначалу медленно, переваливаясь и подпрыгивая на кочках. Скоро на дорогу выбралась, прибавила ходу и стала уезжать все дальше и дальше от того места, где жил этот сурок. И было все это для него, должно быть, очень страшно. Сурок сел столбиком, как возле норы (это ему с трудом удавалось, сидеть столбиком, потому что машину трясло и качало, и он то и дело чуть не падал на бок, переступал и горбился), прижал передние лапы к глазам. А из глаз градом текут крупные частые слезы. И вот он сидит таким манером, трет кулачками глаза и горестно вскрикивает:
– Ма! Ма! Ма!
Ну просто все равно что «мама»!
Так мы ехали минут пятнадцать или даже меньше, а потом шофер – суровый, даже жестокий человек, много всякой гадости повидавший на своем шоферском веку, – вдруг остановил машину:
– Да ну его к черту, крикуна! Давай выгоним!
И я тут же обрадованно согласился:
– Да конечно, ну его к черту!
А все дело было в том, что, когда шофер за ним охотился, сурок только царапался и бился и вовсе не был похож на человека. А теперь стал, да так, что мурашки по коже. Мы оба его пожалели, но друг перед другом, как это бывает, жалости своей показывать не хотели. Поэтому вылезли из машины нарочито шумно, чертыхаясь – вот, мол, из-за всяких дурацких сурков то и дело останавливаться, когда времени нет, – грубо затопали по сухой пыльной земле сапожищами. А сурок свое:
– Ма! Ма!
И кулачком слезы вытирает.
– Вот же гад, а! – сказал шофер и полез в задний отсек открывать дверь, зашумел там: – Иди, иди, пошел вон, иди отсюда!
Сурок не стал дожидаться повторения – прыг в проем и шеметом по степи, вскидывая задом.
Шофер ему злым голосом кричит:
– У, сволочь жирная!.. Надо было тебя сапогом под зад, чтобы знал!
И долго мы еще вслед его дружно материли.
А потом сели в машину и поехали дальше, смеясь.
А если бы не увидели в нем человека, сурку пришлось бы худо: кричи не кричи, а довезли бы его до места, там бы, наверное, убили, из шкуры сделали шапку, а сало вытопили и пользовали бы им легочных больных.
4
Это длинное отступление, приведшее к вовлечению в круг нашего внимания еще двух собак и сурка – как будто одного кота мало! – понадобилось мне только для того, чтобы никто не подумал, будто я совершаю какую-то ошибку, написав: а все-таки странный он был человек, этот Мурзик!
Нет, ну правда. Мы, люди, относились к нему совершенно так же, как если бы он был человеком. Он к нам – иначе. Грубо говоря, он, в свою очередь, не хотел признавать в нас котов. И вот убей меня, я до сих пор не могу понять, чем же мы были для него нехороши.
Казалось бы, стоит ему на минутку задуматься, как все станет понятно – кто какую ступень эволюции занимает, кто какую роль играет в прогрессе, кто, в конце концов, венец творения, а кто – всего лишь мелкая зверушка, начисто лишенная такого необходимого в быту чувства, как благодарность.
Мы его кормили, поили и давали кров. Мы обращались к нему уважительно, по имени… Да если вспомнить все, что мы для него делали, перечень займет целую страницу. И – хоть бы хны! Как об стенку горох! Пусть бы это был какой-нибудь незначительный, мелкий знак, свидетельствующий о том, что он благодарен, что понимает, чем обязан, – мы были бы удовлетворены.
Дудки!
Он упрямо не хотел родниться с нами.
Если бы он сделал хоть малую уступку, ему легко удалось бы нас обмануть, представ в образе этакого романного героя: снаружи мрачного затворника, кичащегося независимостью и одиночеством, а внутри в высшей степени доброго существа, всегда готового отдать последнюю рубашку и защитить от хулиганов.
Да, мы были бы рады обманываться, но увы, увы – он и в этом направлении лапой не пошевелил. Он не хотел иметь с нами ничего общего, кроме еды и дома, не собирался уступать, и ни лесть, ни ветчина не могли склонить его к признанию того факта, что все-таки мы немного похожи.
А если кто-нибудь начинал громко выговаривать что-нибудь в этом духе ему, дремлющему после сытного ужина, Мурзик, прекрасно понимая, о чем идет речь, едва разлеплял свои наглые, рассеченные грифельными зрачками глаза. Но отнюдь не поворачивал головы в сторону говорящего, не удостаивал его взглядом, а смотрел сквозь эти свои щели туда, куда бог привел, – на пол так на пол, на миску так на миску. На его недовольной насупленной морде отчетливо читалось: когда ж ты замолчишь-то, наконец! Если поток беспокоящих слов не прекращался, он, так и не раскрыв глаз хоть немного шире, лениво приподнимался, затем вспрыгивал на форточку и был таков.
5
На чем основывалось это бесконечное превосходство? Может быть, он был – или считал себя – умнее? мудрее? многоопытнее? Не зря же, в конце концов, бытует мнение, что кошки – мудрые животные. Один мой приятель любит рассказывать о своем коте историю, которая якобы свидетельствует о его (кота) безграничной мудрости и в какой-то степени о мудрости кошек вообще. История сама по себе очень простая. Уж я не знаю, какая в том была нужда, но как-то раз этот мой приятель лежал среди бела дня в постели с женщиной. Излагая историю, он всегда умалчивал о том, что и в какой последовательности выделывал, только когда в конце концов угомонился, с понятным стыдом и трепетом заметил вдруг, что кот сидит прямо над его головой на шкафу и с ленивым любопытством наблюдает происходящее. «И в его глазах, – говорит мой приятель, и голос его начинает подрагивать от нешуточного волнения, – я увидел такую мудрость, такую ласковую снисходительность, такую мягкую насмешку, которую можно было бы прочесть разве что во взгляде отца, следящего за тем, как резвятся его глупые дети! Казалось, он говорил: да-а-а, что делать, жизнь такова, она и впредь будет подсовывать вам множество самых никчемных занятий!.. Что делать!.. Как мне винить вас, несмышленыши! Все пройдет со временем, а пока… пока вы юны, глупы и беззаботны, кровь туманит ваш слабый мозг, опыт еще не остудил сердец… Что делать, гуляйте, ребята! Хотелось бы, конечно, чтобы вы не плодили ненужных иллюзий и не думали, будто занимаетесь каким-то важным делом, – ведь это пройдет, как прошло многое, слишком многое…» Вот каким содержательным взглядом смотрел кот со шкафа. Во всяком случае, так утверждал мой приятель.
Не знаю. Мудростью мы не мерились, а вот ограниченность своего ума Мурзик выказывал неоднократно. Так, например, он панически боялся кофемолки. Зато, как только представлялся случай, ярился и вопил, порываясь вступить в честный поединок с маминой мутоновой шапкой, коей то ли запах, то ли цвет приводил его в неистовство. Должно быть, он полагал, что им двоим – ему и шапке – тесно на земле, почему и стремился ее немедленно задушить. Шапку прятали, тогда он немного успокаивался, горделиво расхаживая, словно побоище уже состоялось и он вышел из него победителем.
Или вот нашел я однажды в горах здоровущий выползок – змеиную шкуру, сброшенную во время линьки. Она была длинная, сухая, полупрозрачная, блестящая и при каждом прикосновении издавала скрипучий шорох. Я скатал ее рулончиком и сунул в карман.
Когда дома я бросил ее на пол, где она стала с опасным похрустыванием разворачиваться, Мурзик взлетел на стеллаж и повис на самой верхотуре.
– Ну что ты, дурак, – сказал я, – это же просто шкура, она не кусается!
В качестве доказательства я пошевелил ее ногой, отчего она снова захрустела и зашевелилась. Мурзик обреченно напрягся и завел боевую песнь. Судя по всему, он решил живым не даваться и готовился продать жизнь подороже.
Но даже и в этот момент, изготовившись к самому худшему, он все же предпочел остаться независимым: не бросился ко мне за помощью, не прижался к ногам, как сделала бы в подобной ситуации собака… Что говорить! Собаки видят в людях себе подобных, и такой взгляд ничуть не оскорбителен, а кошки – нет, и почему-то это обидно.
В конце концов он спустился и подошел, обнюхал и даже потрогал лапой – и сделал все это сам, без моей помощи, о чем недвусмысленно напомнил мне победно задранный, подергивающийся хвост, когда Мурзик отвернулся и пошел прочь. При этом одарил меня таким взглядом, словно это не он, а я битый час висел на стеллаже.
Вот такой он был странный человек, этот Мурзик: просто глупый сноб, презирающий людей за то, что они не являются кошками!
И лишь один-единственный раз он выказал нам свою благодарность искренне и преданно, как благодарят равных. Один раз за всю жизнь!..
Для того, чтобы рассказать об этом, мне придется вернуться к началу.
6
Итак, у Мурзика была чумка, и он умирал. Немного утешить нас могло только то, что сам он, по крайней мере, не знал об этом – ведь животные не имеют представления о смерти.
Иногда мне приходит в голову, что идея о том, что животные не имеют представления о смерти, выдумана, чтобы оправдать ту легкость, с какой мы относимся к их жизни.
Ну, в самом деле, у кого бы смогла подняться рука хотя бы даже на барана, если определенно знать, что хоть и бессмыслен этот баран, косящий в сторону ножа розоватым выпуклым глазом, а все же и он, помертвев от испуга, возносит сейчас последнюю молитву, потому что знает: человек, нарочно повязавшийся заскорузлым покоробленным фартуком, вот-вот подойдет к нему, повалит наземь, больно придавит коленом и станет с силой водить ножом по горлу, пока наведенное только что лезвие не прорежет кожу и не вопьется в плоть; там уж недалеко до артерии, и кровь пылко ударит на воздух – в первый момент позванивая, словно молоко в подойник, а уж потом широкой свободной струей разбредаясь по соломе… Кто бы смог это сделать, если бы подозревал, что мохнатое четвероногое так же боится смерти, как и он сам? Только убийца.
Но животные о смерти не знают. Смерть всегда где-то в будущем, а будущего они представить не могут. Будущего у них просто нет. Есть только настоящее – вот это мгновение удовольствия или муки. И, конечно, прошлое – правда, очень размытое, неясное, довольно убогое прошлое, все перепутанное, скомканное, перегороженное бессмысленными радужными пятнами, в которых время от времени пробегает нечто опасное или съедобное. В общем, смерти они не ведают, не представляют себе, что это такое – смерть; поэтому и причинить ее им нельзя. А раз нельзя, люди легко обращаются с их жизнями – кормят, растят, лечат, а потом возьмут и зарежут. Даже и поговорка есть на этот счет: скотина нож любит.
Вот и Мурзик – умирает, но не знает об этом. И хорошо, что не знает. Его жалко, очень жалко. Но все же не так, как было бы жалко человека. Потому что человек – знает, он – лицом к лицу. А Мурзик – нет, он не может этого знать. И хорошо.
Но однажды Мурзик заплакал.
Он лежал в углу дивана на сложенном вчетверо байковом одеяльце. Дыхания не было слышно. Полузакрытые глаза смотрели куда-то в стену. Веки подрагивали. Вот еще две слезинки выкатились и сбежали по шерстке, оставляя влажный след.
Он умирал и плакал, хотя должен был оставаться равнодушным, и это было необъяснимо…
Плакал он зря, потому что на роду ему было написано выздороветь.
Не знаю, что оказало свое действие, – таблетки ли, которыми его пичкала мать, или молоко, которое она вливала в него пипеткой, или то, что мы не забыли о нем, не бросили одного бороться с хворью, – но тонкая, очень тонкая ниточка стала понемногу крепнуть, утолщаться; вот он перевалил какой-то рубеж, что-то переменилось; вот начал пошевеливаться, вот стал широко, как раньше, раскрывать глаза. Однажды вечером он самостоятельно спрыгнул с дивана и побрел на кухню, едва ковыляя на подламывающихся лапах.
– Мяу! – как будто немного смущенно сказал он, появившись из коридора.
Я подхватил его с пола и осторожно усадил на законное место. Это был поставленный на попа вьючный ящик, где всегда лежала подстилка.
Мы ужинали, Мурзик сидел на ящике, моргая и немножко покачиваясь от слабости.
И вдруг в кухне появилась мышь!
Я не знаю, откуда и зачем она выскочила в столь неподходящее время. Возможно, это была оголтелая любительница котлет, не сумевшая побороть соблазна. Может быть, у нее были здесь какие-нибудь срочные дела. Не исключено, в конце концов, что она решила покончить с собой и выбрала почему-то именно такой, для всех нас мучительный способ. Даже если она не была безумной с самого начала (в чем у меня и по сей день остаются некоторые сомнения), она неминуемо должна была, выскочив из-под шкафа, обезуметь от света, шума, запаха и присутствия кота. Так или иначе, она принялась метаться из угла в угол.
– Мышь! Мышь! – закричали мы хором.
Мурзик смотрел на нее в немом изумлении. По-видимому, он не мог себе и помыслить, что за время его болезни либерализация отношений между людьми и мышами достигнет таких высот, что эти серенькие создания начнут совершать прогулки прямо во время ужина.
У него не было сил прыгнуть. И он имел полное право не прыгать. Он был так слаб, что в любом случае поединок с мышью следовало отложить, поскольку его исход был сейчас непредсказуем. Однако он шагнул к самому краю ящика, и когда она в очередной раз семенила внизу, Мурзик повалился сверху, нелепо растопырив лапы.
Плюх!
Он лежал на полу и смотрел на нас. Этот взгляд не был ни безразличным, ни просительным.
Он все знал, этот Мурзик. Знал, что должен был умереть. Знал, что мы спасли его от смерти. Он был в долгу. Но теперь отплатил.
Он лежал на полу и смотрел вверх, на наши лица, моргая и тяжело дыша не то от волнения, не то просто от чрезмерного усилия. Он хотел знать: видим ли мы, что он поймал для нас мышь?
Мы это видели.
Больше он не болел, и поэтому нам не приходилось спасать его от гибели.
Какой была его настоящая смерть, я не знаю. Прожив бок о бок с нами двенадцать лет, Мурзик ушел, когда мы переехали на новую квартиру. Он исчез на третий день – разумеется, не попрощавшись. Мать пришла в старый двор. Стоило ей покликать, как он появился и подбежал, радостно мурлыча. Она посадила его в сумку и вернула к месту новой прописки. Он сбежал тем же вечером. А когда она явилась за ним снова, Мурзик выглянул из зарослей пыльного палисадника, приветливо посмотрел на нее, извинительно мурлыкнул, но в руки уже не дался.
Веревочка
Дед вставал рано. Сквозь сон я слышал, как он пыхтит и брякает гантелями в другой комнате, представлял его сухое, жилистое тело и снова засыпал. Потом я проснулся окончательно. В голове, замутненной сном и солнцем, запрыгали первые случайные слова.
– Ты не брал у меня веревочки? – спросил дед, положив гантели.
Я не брал. Так и ответил: не брал, дескать.
– А где же она? – подозрительно спросил он.
Я не знал. Вообще, я хотел есть, а не разбираться с какой-то дурацкой веревочкой. Я ее и в глаза-то не видывал.
Встала бабушка.
– Таня, ты не брала у меня веревочку? Из ящика…
Бабушка не брала.
Дед переставлял на кухне стулья и чертыхался. Он был сердит.
– Господи! – сказала бабушка с досадой и трепетом.
Веревочка не нашлась. Ее не было ни под стульями, ни под столом, ни на полу в коридоре – нигде.
– Что?! – сказал мне дед. – Ты врешь?!
Я, однако, не брал веревочки.
– Врешь?! – кричал дед. – Да у меня дети никогда не врали!
Он был отчасти прав: кроме меня, веревочку брать было некому.
Но я не брал.
Бабушка металась вокруг нас, заламывая руки.
– Прочь! – рявкнул он. – Прочь! В угол!
* * *
Дед куда-то ушел, напоследок хлопнув дверью, а я стоял в углу и рыдал.
– Господи, ну, может быть, ты все-таки взял эту треклятую веревочку?.. Сознайся, легче будет, – увещевала бабушка.
Я вспоминал сквозь слезы. Нет, не брал. Кажется, не брал… Дед всегда был справедлив. Неужели я взял?.. Да ведь нет, не брал!.. Ну а как же тогда дед? Разве он станет просто так?.. Неужели все-таки я?.. Брезжили какие-то смутные образы: вот подхожу на цыпочках, беру ножик и отрезаю кусок веревки. Нет, не так: я просто взял и сунул ее в карман. Смотал клубком и… А из кармана потом вынул и куда-то перепрятал… иначе почему ее нет в кармане? Перепрятал, но куда? Под диван? Да нет, почему бы это вдруг под диван?.. В жизни я ничего не прятал под диваном… Может, просто-напросто выбросил? Да зачем?..
Да, да… наверное, выбросил – ведь эта веревочка наверняка и слова доброго не стоила. Какая-нибудь мусорная, дрянная веревочка, каких полно в кладовке… далась ему эта чертова веревочка!
Кладовка у деда ломилась от нужных вещей. Предметы здесь были собраны самые разнокалиберные: деревянные бруски, обрывки проволоки, куски ржавой жести, обрезки труб, обломки кирпичей, банки с загустелыми красками… Казалось, они вечно лежали там в пыли и покое, никогда не меняя ни роли, ни положения, – хлам и есть хлам. Но присмотришься – и видишь, что лоскут жести обхватил треснувшую ногу горемыки стула, деревяшка подперла забор, проволока поддержала упрямые виноградные плети, свисающие во дворе с неказистых, но прочных и опять же доморощенных шпалер. Кирпич утвердился под ларь, трубки легли, засыпанные землей, поперек арычных дамбочек, и теперь по ним течет, когда надо, вода. А кладовка опять полна калеками, не дожившими своего законного века.
Это был не мусор теперь. Это были вещи. Пусть даже сломанные. Дед брал их в руки и начинал доводить до ума. Дед упрямо колдовал, и в конце концов случалось волшебство – они оживали. Вода текла, дерево росло, стул стоял, гвозди вбивались, завязывались плоды, взрывались бутоны на розовых кустах.
Земля, воздух, огонь и вода в своих простых и конкретных проявлениях – все это были его родные стихии. Желтый суглинок покорно крошился под сверкающим лезвием кетменя, горячий ветер осторожно смахивал пыльцу с цветов, пламя послушно съедало кучи сухой травы и обрезки лоз, а животворная вода теснилась в арыке и сверкала на солнце мелким крапом золотистых песчинок…
В городе их отношения выглядели несколько смазанными. А вот в саду…
* * *
Сначала никакого сада не было. Был просто длинный лоскут неугодий вдоль канала, выделенный под садовые участки.
Все казалось огромным. По огромному полю, огороженному толстющей проволокой на огромных столбах, ходили большие сердитые люди и вытаскивали из разбитой на огромные комья земли длинные членистые плети. Трава называлась – гумай. Только и слышно было: гумай да гумай… Чертов гумай переплетал дикую землю, вылезая на свет божий пучками жестких стрелок, о каждую из которых можно было порезать руку. Никакая другая трава, никакое дерево там не приживалось – должно быть, гумай сосал их, по-удавьи душил и в конце концов сжирал… Гумай! Оставишь в земле хоть один членик корня – через неделю снова увидишь зеленые ростки. Начинай сначала! Гумай – спину ломай! Всаживай лопату в сухую глину под солнцем, намертво приклеенным к сизому от зноя небу!.. Плети сволакивали в кучи, пинали ногами, смотрели удовлетворенно, как лежат они, медленно ссыхаясь и теряя свою гибельную силу. Потом вдоль дамбы, сколь хватало глаз, пошли дымы. Как-то подожгли так же гору сушины – черной узорчатой колбасой из нее выметнулась толстенная гюрза, мелькнула, уходя в хлопчатник…
Весной тут и там понатыкали в глубокие ямы черные прутики – деревья, так сказать. На ближайшей птицеферме принялись покупать машинами птичье дерьмо. Оторвал и дед. Привезли, свалили кучу преющего, тошнотворно смердящего добра. Дед ходил кругом, не веря до конца в такое счастье, возбужденно крутил носом: «Эх, мать честная! Гуано!..» Застучали кругом молотки – сбивали наспех навесы на трех столбах, чтобы в самую жару сидеть в тенечке на клочке брезента и дуть до изнеможения зеленый чай из щербатых пиалушек. И, наконец, побежала по арыку живая вода – медленно потекла, впитываясь в стенки и дно, убегая в невидимые трещинки, заполняя их, чтобы разбухла глина, налилась, загладилась, и тогда уж весело – будто по маслу – зажурчит влага, бросая на затененную стенку едва заметные в ярком дневном свете бледно-голубые блики.
Сколько раз я смотрел потом, как идет вода на сухую землю!
Вот дед двумя точными ударами лопаты рассекает рыхлый насыпной бережок. С тихим шипением первый пенный поточек вырвался на простор, потоптался в ложбинке, будто раздумывая, не остаться ли там, со всеми вместе… робко шагнул, с натугой сдвинул лежащий на пути сухой яблоневый лист… и вдруг набрался сил, отважно поднял его и закружил, понес, немного волнуясь и обрамляя свое течение бурой пузырчатой пеной… Воды больше, больше, вот добралась до ствола и немного даже плеснула на него, замочив серо-зеленую гладкую кору… Вот на пути ломаный зигзаг глубокой трещины. Вода все течет и течет, и пропадает в ней, изнемогая в тщетной попытке напитать эту бездну, – и уж кажется, уйдет в нее вся… но минута еще – и вон она уже где, вода-то!..
Запахло влагой, горячий воздух стал сытнее. Вонючка неторопливо шествует по своим делам и вдруг, наткнувшись на мо́креть, отбегает в сторону и замирает, подняв острое брюшко – вот-вот от возмущения встанет на голову. Прилетела пчела, тяжело села, подобралась к лужице. Пьет. А вода-то уж эвон где!..
Дед то здесь кетменем тронет, то там. То сюда поманит шелковую воду, то туда.
Недолго торчали из голой земли сиротливые спичинки неказистых саженцев. Вылезли вдруг им в компанию настырные зеленые клювы – как цыплята из проколупанной скорлупы. Вытянулись размером со спичечный коробок. Потом со штык лопаты. И заторопились, спеша за недолгий свой век насладиться и солнцем, и водой, и ветром, что шевелит поутру разбросанные на земле мохнатые пряди, и ночной прохладой, наделяющей каждый лист увеличительной каплей росы. Вдруг вспыхнули, засветившись невзрачным желтым цветом, нежные колокольцы из пяти острых лепестков, – так же быстро завяли и скукожились, превратившись в обмахренные ветром тряпочки; а вместо них стали топыриться темно-зеленые пальцы огурцов. Солнце язвило их и так и этак, палило нещадно, вот-вот, казалось, кончится это нахальное племя! Но нет, напыжились-таки, вытянулись, прячась в складках местности и прикрываясь поношенными листьями. Что, впрочем, огурец! Что он в сравнении с дыней, тяжелой свиньей, залезшей под пыльный лист своим растресканным рылом! Или арбуз, выкативший в полную силу налитое полосатое брюхо, завалившийся в гряду и почерневший от апоплексической силы распирающего его серебристо-красного мяса! А тыква, скособочившаяся рядом, а патиссон, а темнокожий принц восточной кухни – синенький, то бишь баклажан!..
Дед косился на всю эту роскошь недобрым глазом, мог даже походя пнуть сапогом, пренебрежительно называл дело рук своих «травой». Зато часто подходил к деревцам, взявшимся в рост после долгого обморока, вызванного пересадкой, разглядывал листья, трогал ветви. Они его больше занимали. Жизнь шла к закату, клонилась, мелела, и, должно быть, хотелось ему чего-то более долговечного, чем этот сиюминутный арбуз, коего судьба – быть съеденным нынче же вечером.
* * *
О-ля-ля!.. Кругом осы! Сахар на руках, пчелы скопом налетают на кучки мезги, высасывая из них последние капли сладкого нектара. Весело осенью давить виноград! Весело вертеть, напирая до упора, винт пресса, весело следить, как течет, побулькивая, в мятое ведро мутный белый сок, полнит его. Плюх! – в бочку. Снова ведро под сток, новую порцию под пресс, снова – плюх в бочку!.. Вон как уже пузырится в бочке, гуляет вовсю, о-ля-ля! Недели через три наедут гости да за разговорами, за дымокурством и песнями ополовинят бочку с суслом, – ведь сладкое-то пьется легко, весело, и плевать, что потом наотмашь бьет в ноги силой сконцентрированного солнца.
И точно – на кривом колченогом столе расстилалась скатерка. Составлялись к столу два стула с высокими прямыми спинками, табуретки, перевернутые ведра, чурбаки. Наливались стаканы из кувшина, быстро пустеющего под таким натиском (благо бочка рядом! – встал да наполнил, опустив в кувшин обрезок красного шланга).
Отпивают по глотку, мнут на языках. Гости молчат, хозяева мычат многозначительно, качают головами, причмокивают, заговорщицки переглядываются, кивают. Опорожняют второй кувшин, истово прислушиваясь к тому, как после каждого глотка холодит нёбо, как сладкой терпкостью обволакивает горло. Гости молчат. Слушают ритуальные речи.
– Кислит.
– Кислит, кислит.
– Не кислит.
– Точно кислит.
– Кислит, кислит.
– Не кислит. М-м-м… Нет, не кислит!
– М-м-м… Ц-ц-ц… Да кислит же, кислит!
– А я тебе, отец, говорил: тот куст, что у забора – не мускат, а следующий, – кислит. Говорил? Вот и кислит. Виноград не кислит, а вино кислит. Он и в купажах кислит…
– Вы наговорите! Ни шута не кислит! Наговорите сорок бочек! Ну-ка!