Текст книги "Облака перемен"
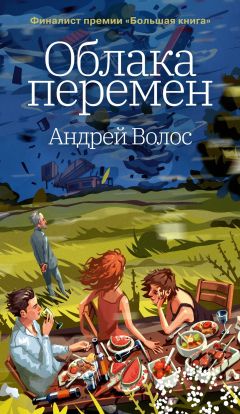
Автор книги: Андрей Волос
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Но кто бы что ни думал о будущем, а вышло вот как: Фаина предварительно разведала в ВПШ, где живёт слушатель Гордеев, приходящийся ей законным мужем, и для наведения мостов явилась прямо в общежитие.
Вахтёрша, пожилая женщина в шерстяной кацавейке, услышав вопрос Фаины, не стала скрывать своих подозрений. Да и к чему ей было их скрывать, её тут не деликатничать посадили, она на посту, а мужское общежитие есть мужское общежитие, какому бы ведомству ни принадлежало, порядки в нём известно какие, против природы не попрёшь.
Но, поглядев затем на девочку, что крепко держалась за мамину юбку, испуганно озирая невиданную роскошь общежитского холла, и прикинув, что какая дрянь ни будь, а с малолеткой по мужикам таскаться не станет, эта добрая женщина пошарила в журнале и нашла нужную фамилию.
«Ого! – сказала Фаина, ощутив прилив объяснимой гордости. И подмигнула Лиде, чтобы приободрить. – Папка-то какой! Слышишь? Целую комнату занимает!..»
Они поднялись на третий этаж и смело постучали. «Сейчас папулечка нам откроет, – прерывающимся голосом сказала Фаина. – Лишь бы дома оказался!..»
Но открыл им не папулечка, а незнакомая тётя, которая, судя по тому, как прищурились её кошачьи глаза, с первого же взгляда всё о них поняла…
Что думала теперь Фаина, также выходило за рамки приблизительных сведений, в целом имевшихся у Кондрашова об этой истории.
– Не знаю, не знаю, – задумчиво говорил Василий Степанович.
– А по-моему, всё понятно, – возражал я. – Нормальное женское поведение. Ей же хотелось вернуть мужа!
– Разве так возвращают? – фыркал Василий Степанович. – Мужа трудно вернуть. Не всем удаётся… Но допустим, что так, хотела вернуть. Тогда зачем заявление?
Это и правда было не совсем понятно. В заявлении на имя руководства ВПШ Фаина подробно и не скупясь на эпитеты, то есть красочные определения, описала моральный облик Гордеева, с которым судьба ошибочно связала её узами брака.
Возможно, в той ситуации скупое изложение голых фактов говорило бы о Гордееве больше, чем её запальчивые обвинения. Но Фаина не собиралась прятать правду. Она писала, что фронтовые награды Гордеев получил не благодаря проявленным им качествам командира и политрука, а посредством интриг и, возможно, предательства. Так что дело было за арестом и следствием, по окончании которого подсудимому предстояло понести суровое наказание по самым безжалостным законам военного времени.
– Это бабушка сама мне рассказывала, – кивал Василий Степанович. – Я маленький был, но запомнил, очень уж необычно звучало. Вот, говорит, Вася, слушай, какой подлец у тебя был дедушка!.. – И горячился: – И что? И зачем? Чего она своей глупой цидулей добилась? Что Гордеев бежал от неё как от огня? А чему удивляться? Конечно! Побежишь тут! Его по этому заявлению из ВПШ отчислили – каково? Катастрофа ведь!.. Правда, задним числом отчислили, чтоб анкету не портить. Справку в зубы, что слушал курс, – и в Адыгею, на Северный Кавказ, зерносовхозом руководить. Этого она хотела?..
* * *
Караванов был родом из России, из города Балашова. Он тоже прошёл войну, служил в лётных войсках. Но в сталинские соколы не вышел, самолётов не поднимал, состоял по технической части. Не то даже по интендантской, точно Василий Степанович не знал, а теперь (я уже привык к этой формуле) и спросить было не у кого.
В мирной жизни Караванов принадлежал к прослойке руководителей среднего звена, не поднимаясь выше, но и не опускаясь ниже неких номенклатурных границ: телеателье было под его началом, банно-прачечный комбинат, иные предприятия такого же калибра, небольшим мясокомбинатом заведовал.
Василий Степанович звал его дедушкой Каравановым. Это бабушка Фая так поставила: не просто «дедушка», а вот именно «дедушка Караванов» или хотя бы «дед Караванов». Наверное, чтобы всякий раз тем самым отмечалось, что у Васи есть и настоящий дедушка, какой ни будь он предатель и подлец. Вероятно, так причудливо переплетаются подчас распоряжения судьбы с представлениями о порядке кровной родственности.
Подростком Василий Степанович застал последнюю должность деда Караванова, с которой тот вышел на пенсию, – директор Октябрьского рынка.
Даже сделавшись пенсионером, Караванов на всякого производил серьёзное впечатление. Он никогда не повышал голоса – наоборот, о чём бы ни шла речь, говорил с мягкой вкрадчивостью, не употреблял ни бранных, ни даже просто грубых выражений и всегда был прилично одет, то есть в костюме и при галстуке. «Представляете, Серёжа, – качал головой Василий Степанович, – даже если на помойку с ведром, и то без изъятий! Железный был человек!..»
И во взгляде Караванова не было ничего пугающего: спокойный взгляд серых, всегда мягко прищуренных глаз.
И всё же было в его взгляде нечто такое, что, где бы Караванов ни тянул лямку, у подчинённых не возникало даже малой мысли о прекословии.
Припоминая облик и повадки деда Караванова, Василий Степанович часто запинался, искал новые слова, чтобы точнее выразить то, что его по-настоящему в нём удивляло. Новых не находил и повторял заново:
– Суровый был человек… ой суровый!.. – И тут же поправлялся: – А ведь так-то и не скажешь… по разговору-то. Разве злой?.. Совсем нет. И смотрит хорошо… Даже ласково смотрит… Я его не то чтоб боялся, что мне было бояться?.. родной, по сути, человек… но побаивался точно. Вот даже не знаю почему. Никогда ничего от него плохого… Что в нём было? Военная закалка? Время его таким сделало?.. – Недоумённо качал головой и завершал неожиданно: – Настоящий был коммунист!..
А ещё, говорил Василий Степанович, выйдя на пенсию, Караванов взял за правило писать. Василий Степанович по этому поводу неоднократно шутил: мол, может, в нём самом эта тяга от деда, пусть и неродного. Но оговаривался: у него-то тяга застарелого эстетического свойства, а дед Караванов писал в инстанции, добиваясь порядка. Тогда принято было писать: чуть что не так, всякий за перо, вот и он тоже. Не в жилконтору, значит в исполком, не в газету, так в прокуратуру.
А писал Караванов хорошо: крупно, ровно, строка к строке, просто загляденье, будто печатал, а не писал, – буковка к буковке. Заполнив страницу, тщательно перечитывал, выискивая ошибки, и если таковых не находилось, приступал к расстановке знаков препинания.
При этом, как казалось малолетнему Кондрашову, на последнем этапе дед Караванов руководствовался не синтаксическими, а некими пространственными, геометрическими и, по сути, тоже эстетическими соображениями: расставлял запятые и точки, чтобы итоговый документ радовал глаз соразмерностью, а не так, чтобы где-то густо, а где-то пусто.
* * *
Фаина встретилась с ним в начале зимы сорок шестого года.
Было пасмурно. Большие снежинки торжественно летели с неба – опускались без суеты и спешки, нисходили, не теснясь, предоставляя зрителям возможность рассмотреть каждую в отдельности и восхититься её чудным сложением. Ах, если бы они явились чуть раньше, всего несколько лет назад!..
Как бы им радовались дети! Как бы привставали на цыпочки, протягивая ручонки, как ловили, а, осознав ошибку, подставляли бы уже не тёплые ладошки, а холщовые рукава и, бережно отнеся на сторону, кричали и хвастались друг перед другом: «Смотри, у меня самая большая!.. Нет, у меня!..»
Но кружево небес опоздало.
Ныне не было никого из тех, кто стал бы задирать к ним голову, встречая и приветствуя.
Снежинки разочарованно падали на неживую, замусоренную землю: на кирпичный щебень – свидетельство былого существования крепкого дома, на древесную щепу – свидетельство былого существования бревенчатой избы.
В самом начале войны несколько немецких и румынских авиационных налётов разрушили бо`льшую часть городка.
Что уцелело, безмолвствовало.
Певучая еврейская речь, гортанные цыганские восклицания если и блуждали кое-где в руинах улиц, то лишь призраками, неслышными переливами умолкших голосов. Люди же, некогда ими обладавшие, тысячами и сотнями тысяч лежали во рвах близ Тирасполя, на Вертюжанах и в Секуренах, в Косоуцком лесу, в десятках иных мест…
Фаина шла к рынку, а в одной из развалин какой-то человек в шинели хватко, со скрежетом и пылью ворочал каменюки, норовя что-то из-под них вытащить. Вот рванул со всей дури – и кирпичный осколок, стрельнув снизу, угодил Фаине в плечо.
– Ой! – вскрикнула она от неожиданности. – Гражданин! Вы что? Вы же меня ударили!
Человек распрямился и сказал, утирая лоб:
– Ну что вы! Я никогда не бью нежного женского тела.
Голос у него был негромкий, даже какой-то вкрадчивый, а взгляд такой, что Фаина просто оторопела.
* * *
Дед Василия Степановича по отцу, Фёдор Кондрашенко, забогател на службе у румынского генерала.
Это было всё, что, со слов отца, знал о нём Василий Степанович. Подробностей не существовало. «Я же ясно говорю! – раздражался Кондрашов. – Румынский генерал! Что непонятного? Обыкновенный румынский генерал!»
Напрасно я толковал, что определение «румынский генерал» ничего не говорит и не может сказать тому, кто хоть краем уха слышал о Первой мировой, обо всей сумятице, что внесла она в жизнь Европы, о той дикой мешанине границ и понятий, в которой терялись представления не только о государственных, но даже и о национальных принадлежностях.
Мои рассуждения Василия Степановича не урезонивали, а только пуще заводили. «И что теперь, Серёжа? – вопрошал он, иронично на меня глядя. – Будем учебники истории переписывать? Фальсифицировать начнём?»
Я, в свою очередь, не мог взять в толк, что он разумеет под «переписыванием учебников». Но вопрос повисал в воздухе, и я вынужденно смирялся.
Тем не менее общими усилиями мы пришли к заключению, что генерал вышел в отставку. Должно быть, служба позволяла ему иметь денщика на казённый счёт, а содержать такового на собственный он посчитал нецелесообразным.
Прослужив у него много лет, сделавшись благодаря этой службе по крестьянским меркам богачом, а с уходом генерала со службы тоже выйдя в тираж, Кондрашенко поднял семью и вернулся в родное село.
Появление Кондрашенки во всём блистании богатства там, откуда он когда-то сбежал оборванным мальчишкой, произвело немалый шум и породило множество вопросов.
Фёдор не тянул с ответами. Он купил земельный надел и капитально обустроился: построил дом и завёл конюшню.
Лет через пять его лошади, побывав на нескольких ярмарках, получили известность в округе под названием «кондрашенковские» и начали приносить заводчику неплохой доход.
Кондрашенко жадно интересовался коневодством, всем иным – по мере необходимости, а политикой – никак.
Поэтому, когда двадцать шестого июня тысяча девятьсот сорокового года Вячеслав Молотов вручил румынскому послу требование советского правительства о передаче СССР Бессарабии и Буковины, это не стало для Фёдора громом среди ясного неба. Возможно, он вообще никогда не узнал о дипломатических обстоятельствах дела.
Утром двадцать седьмого Румыния в ответ объявила всеобщую мобилизацию. Но ближе к вечеру король Кароль II решил удовлетворить советское требование и мобилизация прекратилась. По этому поводу позже ходили кое-какие слухи, преимущественно радостного характера, – но Фёдор и в них особо не вникал, ибо сам для армии был староват, а дети, наоборот, ещё не доросли. Хотя старшие уже подтягивались.
Зато, когда двадцать восьмого Красная армия начала занимать спорные территории, Кондрашенко сделался прямым участником событий, ибо по окончании быстрой и бескровной операции вся жизнь вокруг начала стремительно меняться.
Пусть его косяки не шли ни в какое сравнение с табунами настоящих заводов и имели исключительно областное значение, но всё же прежде Фёдор гордо называл себя коннозаводчиком. Однако уже к новогодью сорок первого его горделивость потеряла всякие основания: его единым духом превратили в рядового колхозника.
Дом тоже был утрачен – в хоромине поселился Алексеевский крестьянский клуб. А семейство Кондрашенок – сам Фёдор, жена и шестеро детей (рожала-то Анна восемнадцать, да не все выжили) – получило милостивое разрешение обременить собой шаткую сторожку на краю участка.
Многие недоумевали, отчего и Кондрашенок не присовокупили к пассажирам тех двух или трёх куцых обозов в несколько телег каждый, что, сопровождаемые бойцами НКВД, увезли кое-кого в Калараш, на ближайшую станцию железной дороги.
Понятно было, почему в числе арестованных оказался отец Митрий с женой и детьми: всё равно службы прекратились, а требы батюшка кое-как совершал, пока церковь не закрылась окончательно; не могло быть двух мнений насчёт семейства Галицких – известные на всю округу богатеи; не вызывал вопросов и Петру Ракаш, отъявленный мироед; а с чего бы коннозаводчика Кондрашенко со всем семейством оставили? – просто умом разойдёшься.
Может быть, случай: кто-то промашку дал, не проявил должной бдительности, спустя рукава обязанность исполнил; а может, ещё какие обстоятельства сыграли роль.
Так или иначе, а дальше всё покатилось, будто так и должно было: человек ко всему привыкает и находит новую форму существования.
Вот только делать Фёдору стало совсем нечего, и некоторое время он маялся, не находя себе места.
Но чем от века хорош этот край, хоть Румынией зови, хоть Молдавией, так это тем, что уж чего-чего, а выпить всегда найдётся.
Последние несколько лет Фёдор провёл в таком состоянии, будто к самым его глазам поднесли неотступную лупу титанических крат. Благодаря её несуразному, ни с чем не сообразному увеличению всё кругом размывалось в цветные пятна и становилось уютным маревом. Из мешанины линялых красок нельзя было извлечь конкретных деталей. Он не хотел – да и не мог ничего взять в толк: ни того, что началась война, ни что снова явились румыны, ни что потом и немец заскакивал, ни что ноги ему отказывают, ни что голова отчего-то стала трястись…
Бывшая колхозная конюшня давно пустовала (ещё с тех пор, когда советский красный командир, отступая, реквизировал сколько было лошадей на предмет пополнения артиллерийских упряжек), но запах оставался. Фёдору проще было завалиться в пустые ясли, чем искать пятый угол в семейственной сторожке.
Там он однажды и упокоился.
* * *
От румын повзрослевшие братья Кондрашенки каким-то образом уворачивались.
А в сорок четвёртом, когда советские войска освободили Алексеевку, всем лицам семейства первым делом выдали учётные бумаги. Записали при этом на русский лад – Кондрашовыми. Вдова Фёдора, мамка Анна, пыталась возражать против нововведения, но с ней не очень-то рассусоливали: по сю пору неграмотна, тётка, крест поставь, где надо, и не умничай, тут лучше знают, кого как писать. А хлопцы хоть и недоросли, а уже всякого навидались, наслышались и того больше; лишь бы до печей дело не дошло или газовых камер, а там хоть и горшком зовите – ничего, можно.
После этого четверых старших забрали добивать фашистов. Полгода спустя взяли в армию ещё одного, а потом и младшего, Степана.
Степану повезло: война кончилась, он служил в оккупированной Австрии, причём в самой Вене, в Двадцать втором районе.
Все оставшиеся в живых братья (какой ни куцый хвост войны им выпал, а всё же двоих недосчитались), воротившись к родному пепелищу, двинулись ясной крестьянской дорогой: иных мыслей у них не водилось и взяться им было неоткуда.
Но Степан на срочной сделался комсоргом роты, а в Алексеевке как раз комсомольского-то активиста и не хватало.
Австрийский дембель, вообще-то, желал бы ближе к механизации. Но председатель, прочтя характеристику, сказал так: слушай сюда, отставной ефрейтор Кондрашов. Старая механизация приказала долго жить, новая ещё не завелась. Разве что на танках пахать, да все они горелые по буеракам – ещё не вывезли за труднодоступностью. И потом, на трактор где сядешь, там и слезешь. Если хочешь настоящей перспективы, берись ячейкой командовать. Дело живое, на виду. За трудодни не волнуйся, колхоз со всем пониманием, не поскупимся. Дай лишь из разора проклятого выйти, а там уж развернёмся.
Степан для виду покряхтел, а потом согласился, и правильно: сразу видно, когда человек себя находит.
* * *
Что же касается Лиды, то, пока она не познакомилась со Степаном, её жизнь тоже складывалась непросто.
До встречи с Каравановым Фаина понимала себя преимущественно её матерью – матерью любимой дочки Лидочки.
Даже те полтора года, что она прожила (точнее, пробыла) в статусе жены, который вроде бы возвратился к ней с письмецом Гордеева, не изменили её понимания. Когда же после поездки в Киев и окончательного разрыва унялось кипение её несчастной души (и обида, и оскорбление, и ненависть, и – было и такое – зависть к гадине-разлучнице), она ощутила одиночество острее прежнего.
И вцепилась в единственную свою Лидочку как в спасательный круг.
Первое время просто ни на шаг от себя не отпускала, то и дело вскидывалась: «Доча! Доча! Ты где подевалась?!»
Но потом она встретила Караванова.
И когда он оцепенил её своим необыкновенным взглядом, оказалось, что Фаина способна к такой любви, какой прежде в себе и не подозревала.
Они сошлись быстро и зажили хорошо.
Разумеется, Лида была при них, и год за годом Караванов относился к ней как к своей. Так что не его вина, что после шестого класса Фаина решила отправить дочку к Гордееву.
Караванов удивлялся и недоумевал, говорил мягко, даже вкрадчиво, даже смотрел в упор, что было последним средством убеждения, – но сладить не смог.
Он причин такого решения не понимал. А Фаине было стыдно признаться, что она просто хочет остаться с ним вдвоём. Ну месяца на три хотя бы.
Таков был её план.
Однако папаша Гордеев столь куцего плана не понял. На его взгляд, три месяца было дело пустое, только на дорогу тратиться.
Письма порхали туда-сюда.
Поначалу, войдя с ним в переписку на самом холодном тоне, Фаина сообщила, что какая он сволочь ни будь (это лишь подразумевалось, на письме она бранных слов себе не позволяла), а всё же девочке отец. И что она понимает его чувства: обидно, наверное, что дочь растёт на стороне совсем без него. Но если она тут ошибается, а в действительности он как был бездушной сволочью, так ею и остался (это тоже только подразумевалось), то пусть просто скажет. Так и так, мол, видеть Лидочку у него нет ни желания, ни времени. И дело с концом, никто никогда больше его не потревожит.
Фаина старательно путалась в словах, пытаясь высказаться как можно определённее. И что-то, вероятно, терялось в этой путанице, а что-то, возможно, наоборот, проговаривалось помимо её желания.
В целом дело было неясное, возникали подозрения, не поймёт ли Гордеев её превратно, не подумает ли, получив письмо, что она пишет одно, а думает другое, что говорит о дочери, а на деле подбивает клинья, втайне желая не мытьём, так катаньем повернуть его жизнь на прежнюю дорогу.
Поэтому ей хотелось бы выразиться яснее.
Но конечно, у неё и в мыслях не было прояснить всё до какой-то там окончательной ясности. Такая бывает исключительно в романах, а в жизни всё как было мешаниной, так мешаниной и остаётся. Да и романов Фаине на её веку читать не довелось, не до того было.
И конечно, глупо было бы думать, что она решила от дочки избавиться, потому что разлюбила. Просто большенькая уже стала девочка, дела пошли вон какие, всё за то, что скоро ей своих рожать, так что ж ей у мамкиного подола безотрывно, можно ведь и на свет глянуть.
Тем паче она и самостоятельная, полдома точно на ней: Караванов от темна до темна на службе, Фаине в садике от детишек тоже не оторваться (она для этого год отучилась на педкурсах). Лидочка сама шустрит: и на рынок сбегает, и борща наварит, и картошки начистит. Ну и так далее.
Но Караванову было неприятно, что есть какой-то там Гордеев. К которому теперь зачем-то нужно отправлять Лиду. И он Фаину всё-таки добил: она от своей идеи отказалась.
Каково же было общее изумление, когда вдруг обнаружилось, что у Лидочки к тому времени образовалось собственное мнение, которое она решительно и бескомпромиссно высказала: хочу к Гордееву (она его иначе не звала), и всё тут! Сами говорили, а сами вон чего! Он же уже написал, что ждёт! Мне эти ваши Бельцы вот где! Я в Адыгею хочу! В зерносовхоз! Ну пожа-а-а-алуйста! В Бельцах ваших сами видите как, а там я на одни пятёрки буду, обещаю!..
* * *
– Вот её и отправили. А там…
– Подождите, Василий Степанович! – бывало, останавливал я Кондрашова. – Куда вы так спешите? Ну вот сами послушайте, что сейчас сказали! «Её отправили, а там…» У вас между двумя словами самое главное потерялось.
– Прости, Серёжа, что главное? – недоумевал он.
– Дорога! Где дорога? Дорога – это же и есть в жизни самое главное. Вы представьте! Девочка, тринадцать лет, едет одна бог знает в какую Адыгею!.. Общие вагоны, чужие люди, пересадки, толчея, чемоданы да узлы!.. В те-то годы из Молдавии в Адыгею… с десятью небось пересадками!..
– Мама говорила, с двумя, – ворчал он.
– Будто ребёнку этого мало! Проводница поначалу почти враждебно: это куда же тебя, такую пигалицу, одну-одинёшеньку!.. А суток не прошло, полустанках, может, на двадцати всего постояли, так она уже и ласково: Лидочка, деточка, пойдём-ка супчику похлебаешь, а то что же всё всухомятку… А поезд тянется и тянется, и такие же, как она, пассажиры вокруг… о чём она с ними говорила? О чём думала?
– Вообще-то, да, – признавал Василий Степанович, кривя ус. – Это правда, мама именно эту свою поездку всю жизнь вспоминала. У Гордеева-то всё довольно обычно оказалось… Ну Адыгея… ну зерносовхоз. Работа да заботы, вот и все дела. Гордеев спозаранку директорствовать, она в школу… Мачеха её, правда, невзлюбила, вот ведь какое дело… Да…
Василий Степанович замолкал, хмурясь, потом вдруг заново оживлялся:
– О диване ещё говаривала, вот что! Гордеев поселил её в своём кабинете, там стол хороший – уроки делать. Так вот спать ей пришлось на кожаном диване. Она о нём прямо с ужасом: твёрдый, говорит, скользкий, простыня сползает, два года она с той простынёй билась… С другой стороны посмотреть – не такая уж и трагедия… А вот сама поездка!..
– Вот видите! Поездка! Вот бы где повспоминать-то по-настоящему! – говорил я. – Вот в чём покопаться!
– Да что вспоминать. – Он пожимал плечами. – Я-то что могу вспомнить? Что я знаю? Ну доехала она до нужной станции… Станция – одно слово, что станция. Пустырь, домишко у самых рельсов – вокзал. Никто не встречает. Полдня толклась. То в тенёчке посидит, то пройдётся. А куда идти-то ей? Карагач, да кусты, да бурьян на пустыре… Мальчик коз пригнал, сел неподалёку с хворостиной. Пока они щипали, всё на неё поглядывал, а она прикидывала: заговорит, не заговорит… Через часок пришла ему пора дальше животин гнать – так и не осмелился, молчком ушёл… Дело к обеду – приезжает «победа». Выходит кто-то из машины, озирается. Лида к нему – Гордеев? Она же отца не видела никогда, только на молодых фотографиях с мамой, откуда ей знать, какой он. Нет, говорит, я не Гордеев, я шофёр. А если ты Лида Гордеева, тогда садись, к папке поедем. Восемь классов там окончила – и в Сороки махнула, в медучилище.
* * *
Судя по всему, Степан и впрямь обладал природной склонностью к организации: успевал и подъелдыкнуть отстающих, и ободрить передовиков, и подначить тружеников на соревнование, и заорать насчёт нашей бучи, боевой, кипучей, и когда пригрозить проработкой, а когда посулить участие в коллективной поездке за мануфактурой. Что бы ни стояло на повестке дня, Стёпка брался за дело с огоньком, с задором, с искренним комсомольским энтузиазмом – и всё ему так или иначе давалось, обо всём он мог отчитаться положительно.
По-боевому работал, не зря же то и дело кто-нибудь из комбайнёров грозил ему набить морду: он дёргал их то по взносам, то на протест военщине и в защиту мира.
Через пару лет его ввели в состав комитета комсомола районного центра Унгены, и Стёпка, несмотря на молодость, стал зваться Степаном Фёдоровичем.
А Лида Гордеева приехала заведовать Алексеевским ФАПом, то есть фельдшерско-акушерским пунктом.
Лиду направили сюда сразу по окончании Сорокского медучилища. Несмотря на свою ярко проявлявшуюся во внешности молодость и объяснимое отсутствие опыта, она справлялась со службой. Врач из Унген наезжал не чаще раза в месяц: задним числом одобрить совершённые действия консультативного характера (но в некоторых случаях и родовспомогательного, и хирургического) и прояснить вопросы на будущее.
Стали заглядывать к ней два молодых человека.
Визит по-боевому настроенного Степана производил на Лиду большее впечатление, чем появление умного школьного учителя Кузовченко: Степан частенько изловчался, чтоб подбросили на председательском газике, а Кузовченко притопывал на своих двоих.
Когда умный учитель Кузовченко осознал, сколь малы его шансы на взаимность, то в отчаянии перестал пользоваться даже пешим, единственно доступным ему способом передвижения.
А Стёпа и Лида той же осенью сыграли свадьбу.
– Ну и вот, – спешил Василий Степанович закончить с очевидно неинтересной частью пока ещё устных воспоминаний. – Потом они переехали в Унгены. А потом я родился и поступил во ВГИК.
* * *
Если бы начало нашего романа было пронизано надеждой – гибельной, но захватывающей и пусть неясной, но ошеломительной в своей безграничности; или радостью, сжигающей влюблённого без изъятий – подобно ядерной вспышке, что испепеляет плоть, оставляя лишь тень былого существа; или нестерпимым ужасом счастья, память о котором остаётся в душе навеки подобно этой мёртвой тени, – тогда даже подумать страшно, сколь трагично могли бы сложиться наши отношения.
Но на такое способны далеко не все: одни вовсе не представляют, что с ними могло бы произойти нечто хотя бы отдалённо похожее, другие догадываются, но не смеют переступить черту и только вчуже вздыхают о несбывшемся.
И действительно, в большинстве случаев такие начала если и не кончаются смертельной катастрофой, то оставляют по себе непоправимые душевные увечья. Поэтому тот, кому посчастливилось их пережить (слово «пережить» здесь следует понимать в смысле продлить своё тусклое существование, а не погибнуть вместе с ними), даже не надеется на повторение. Или, точнее, надеется, что такового с ним не случится.
Так или иначе, следует признать, что пламя нашей любви по-настоящему не разгорелось.
Возможно, мы сами виноваты; виноват кто-нибудь из нас; не исключено, что сам я и виноват.
Когда всё начало рушиться, Лилиана говорила, что это именно так, виноват я. Ты, ты виноват, говорила она; ты сам виноват.
Потому что с первого дня она ждала, что я скажу какие-то важные, воистину судьбоносные слова: они позволили бы ей окончательно увериться в настоящем, начать всерьёз надеяться на будущее и в целом посчитать свою жизнь состоявшейся.
В каком смысле состоявшейся? – как минимум в том, что больше её не одолевали бы сомнения, будет ли у её детей постоянный и любящий отец.
Что же касается того, зачем ей дети, хорошо ли она обдумала это своё ещё не реализовавшееся решение, собирается ли как следует его обдумать, перед тем как принять к исполнению, то все эти вопросы совершенно излишни. Это вопросы праздные, какие задают и обсуждают, исключительно чтобы почесать языком, а рожать она будет, несмотря ни на что, вопреки всему или благодаря чему угодно, уж как получится, это тоже не имеет значения.
При этом она втайне надеялась, что её ожидания сбудутся именно со мной. Поэтому, если бы я вовремя произнёс эти по-настоящему серьёзные слова, она, со своей стороны, сделала бы всё, чтобы им воплотиться.
Да, именно так, она сделала бы всё, что можно вообразить, ответила бы на любое, даже самое фантастичное требование жизни. Её счастье, как часть нашего общего, было бы уже совершено и совершенно, и, если бы это потребовалось для его сохранения, она бы пошла мыть подъезды или торговать селёдкой.
Но ведь я не сказал этих важных слов, так на что мне теперь рассчитывать…
Может, и так. Хотя не уверен, очень далеко не уверен. Представляется, что дело всё-таки не в словах. Стоило нам и дальше быть рядом, окончательно переплестись корнями, чтобы уже нельзя было разделить нас без серьёзных повреждений… Дальнейшее неизвестно в деталях, но в целом определено.
Мне подумалось именно о корнях; особого значения это не имеет, но всё-таки неверно подумалось – не корнями, нет. Корни глубоко в земле, корни не могут переплестись ни с чем новым, они давно переплелись с тем, что растёт рядом, а ни до чего стороннего им не дотянуться.
Так что не корни, а ветви. Ветви могут. Человек во многих отношениях похож на дерево, но главным образом тем, сколько отходит от его главного ствола представлений, расчётов, мечтаний, иллюзий да и просто забот, просто мыслей о насущном. Вот они-то и переплетаются, мало-помалу образуя такую чащобу, что по прошествии времени он и сам не в состоянии понять, что откуда растёт, что куда тянется, где чьи листья, где чья смола, что за соки текут в нём от корней к вершине.
Так я думал.
Но Лилиана говорила, что это я виноват.
Даже если это было не совсем так – или даже совсем не так, или было попросту неправдой, – сказать, что она лжёт, у меня язык не поворачивался. Я знал устройство её памяти и её воображения; я понимал, что ей самой непросто разобраться во всей их путанице. Каждое из несовершенных повторений пересказываемого прошлого она искренне полагала истинным и случившимся в действительности.
Ничего удивительного не было и в том, что она говорила искренне. Ведь искренность – дочь уверенности: стоит увериться в чём-нибудь, искренность приходит сама собой…
Возвращаясь же к периоду нашей полной безоблачности, скажу, что, несмотря на отсутствие (и даже, возможно, благодаря таковому) того таинственного, глубокого и грозного, которое единственное способно превратить отношения между мужчиной и женщиной во всегда полуобморочное состояние, что является любовью и чем нельзя позаниматься между делом, как бы кто ни разглагольствовал, нам с Лилианой всё-таки было хорошо.
Переменчивое русское лето плескалось, переваливая из вёдра в дождичек, а наутро снова поворачивая на высокую, тут и там пышно опе́ненную синеву. Плескалось-полоскалось, как полощется на неровном ветру парус при перемене галса – или просто чистая простыня на верёвке. Дня по три стояла жара, пару раз ночами лило не на шутку, в берёзках за Большим прудом колосовик пёр так, что едва не валил ограду. Лилианина комната располагалась в выступающей части второго этажа и нависала над волнами цветника, подобно корме испанского галеона.
В этой чудной трёхсветной комнате нам не от кого и незачем было прятаться, шторы почти всегда были полностью раздёрнуты, чтобы не мешать распахнутым створкам, и в те летние ночи мы то и дело становились умилёнными свидетелями неспешного, торжественного шествия луны – с каждым выходом всё более округлой – от левого окна, в котором она призрачно проявлялась над лесом, через среднее к правому, где постепенно растворялась, подобно кусочку сахара.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































