Текст книги "Фабрика мухобоек"
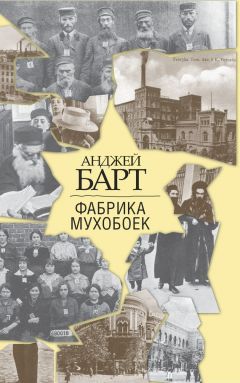
Автор книги: Анджей Барт
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Регина подумала, что на его месте поступила бы так же. Нельзя допускать подобные сравнения.
– А я рекомендую господину адвокату не отвлекать судью несущественными мелочами – для его клиента это может плохо кончиться. – Казалось, Вильский, угадав, о чем она подумала, хочет оборвать ход ее мыслей. – Мне бы, конечно, не следовало давать советы защите, но это я так, по доброте душевной… Говорите. Вы бежите на Лагевницкую, чтобы забрать из больницы отца…
Етля Яблонская раскрыла рот, но тут же закашлялась. Когда-то она была очень хороша собой, да и сейчас на ее лице проглядывали следы былой красоты. Только вот кашель не оставлял сомнений, что жить ей осталось недолго.
– Я знала, что первым делом будут забирать из больниц детей и стариков. А у меня отец лежал в больнице, он где-то заразился туберкулезом. Дома я хотя бы могла его спрятать – например, под кроватью… у нас была высокая кровать…
– При всем моем уважении к вашему отцу, попрошу рассказать только о том, что делалось перед больницей. Мне не разрешено долго с вами говорить…
– Я несла папе пальто, чтобы он надел его на пижаму, и так мы бы вышли. Издалека я увидела грузовики и оцепление – к больнице никого не подпускали. Я поняла, что опоздала. Стояла и плакала…
– И что еще вы увидели?
– Гестаповцы с верхних этажей выкидывали подушки. Я даже удивилась: ведь про них никак нельзя сказать, что они не берегут добро. На следующий день я узнала, что это были маленькие дети… их выбрасывали вместе с постелью. Папу, конечно…
– Спасибо большое за ваш рассказ. – Вильский поклонился и обратился к залу: – Вот таким образом маленькие дети, отдать которых просил наш благодетель, покидали его государство. Заметим: государство, созданное бывшим директором приюта. Страшно подумать, что до войны в его руках были судьбы детей…
Регине был отвратителен этот человек, красующийся перед сидящими в зале, будто тенор на концерте в женской гимназии, однако она понимала, что должна скрывать свои чувства. Впрочем, справедливости ради следовало признать, что он мастерски умеет играть на эмоциях. На суде она бы с ним не смогла справиться – одно утешение, что в Лодзи никто б не смог. Разве что ее шеф Эмиль Монтляк разделал бы его под орех, да и то не наверняка…
– Звучит впечатляюще! – воскликнул защитник. – Обвинение пытается возложить всю вину за то, что случилось с евреями, на господина председателя. Я выслушал эти – назовем вещи своими именами – наглые инсинуации с грустью, но и, прямо скажу, с восхищением: надо уметь так ловко водить людей за нос! А сейчас я воспользуюсь тем, что господин судья задумался, и, нарушив правила, задам несколько вопросов свидетелю, который также не был раньше заявлен. Господин Борнштайн, прошу вас занять свидетельское место…
Люди в зале стали с недоумением переглядываться, но никто не встал, да и служитель явно не собирался никого вызывать из коридора. Регина первая заметила, что защитник сам уже стоит за пюпитром, и у нее мелькнула мысль, что он сошел с ума.
– Меня зовут Генрик Борнштайн, – представился он. И тут же задал себе вопрос: – Не могли бы вы рассказать о своей сестре? – Утвердительно кивнул и продолжил: – Ее звали Мириам, так же как ту, что потом стала для христиан Марией. Чудесный ребенок; пяти лет от роду она уже читала на трех языках. – И сам себя одернул: – Нельзя ли покороче? – Ответил: – Да, да, конечно. В гетто она заболела дифтеритом, и мы положили ее в больницу. Узнав, чего требуют немцы, я пошел туда, как и госпожа Яблонская, намеревавшаяся забрать своего отца. Мне обещал помочь мой друг, доктор Хальберштадт – он, правда, работал в другой больнице, на Древновской, но у него было врачебное удостоверение, с которым его всюду пускали. На Лагевницкой стояли армейские грузовики и слышны были душераздирающие крики. Я растерялся, но Людвик – так звали Хальберштадта, и я хочу, чтобы вы запомнили его имя, – велел мне ждать и прошел через оцепление, даже не показав документа. Я ждал и еще надеялся, что сумею где-нибудь спрятать Мириам. Как и госпожа Яблонская, я видел летящие из окон «подушки». Когда машины уехали, я кинулся к больнице и услышал писк, раздававшийся из одной такой подушки. Только тогда я понял, что из окон выбрасывали детей в конвертах или как там это называется… На вопрос, который наверняка сейчас прозвучит: удалось ли спасти мою сестру? – отвечаю: нет. На второй вопрос: какова судьба доктора Хальберштадта? – отвечаю: когда я его отыскал, он был еще жив и силился что-то сказать, но мешала застрявшая в горле пуля. По словам других врачей, гестаповцы увидели, что он пытается спрятать ребенка. Какого ребенка, они не знали – там ведь был сущий ад. – Помолчав, Борнштайн закончил: – Если это все, мы благодарим свидетеля, – и вышел из-за пюпитра.
Регина знала, что подобного рода тишина редко воцаряется в залах суда – тем более там, где каждый ждет очереди рассказать свою невообразимо страшную историю.
– Как, по-вашему, – Генрик Борнштайн подошел к скамье присяжных и поочередно посмотрел в лицо каждому, – должен я считать господина председателя виновником трагедии, которая произошла с детьми, в том числе и с моей сестрой? А почему бы мне не винить себя? – ведь я не бросился на гестаповцев, конвоировавших отъезжающие машины. Я не стану сейчас вызывать в качестве свидетеля господина прокурора и спрашивать, что он делал в тот день, когда из гетто забирали детей, и как ему тогда работалось в архиве, в материалах которого, как все мы знаем, часто встречаются похвалы в адрес обвиняемого. Я даже не спрошу у него – хотя с трудом себя сдерживаю, – помнит ли он, как отплясывал на торжественном вечере, устроенном работниками фабрики щеток по случаю дня рождения господина председателя.
Прокурор возвращался на свое место походкой человека, которому отбили почки. Когда наконец он с видимым облегчением опустился на стул, раздался хруст раздавленного стекла – Вильский так и подпрыгнул, вероятно, не только от неожиданности, но и от боли. Регина заметила, что судья устремил взгляд на нее, но – всевидящий! – он вполне мог смотреть и на Марека. Она б испугалась, если бы – к величайшему своему изумлению – не увидела на лице судьи тень улыбки.
Из Парижа приехал Людвик Левин. Он мне нравится: в нем удивительным образом сосуществуют меланхолия и безмятежность. На этот раз, впрочем, он пребывает в унынии и всем недоволен. Румыны дали миру Ионеско, Элиаде, Себастьяна. Канетти родился в Болгарии, да? А где поляки? Больше всего от Людвика достается польским евреям, у которых, как он утверждает, видимо, мозгов не хватало. За третьей бутылкой мы единодушно решаем подать в Страсбургский суд жалобу на Нобелевский комитет за то, что Яан Кросс[35]35
Яан Кросс (1920–2007) – советский и эстонский писатель.
[Закрыть] до сих пор не награжден.
На сей раз запись в дневнике явно указывает на предстоящую мне в самом скором времени встречу со знатоками Чаадаева. Притом в ситуации, представляющейся вполне реальной, ибо перед тем не было выпито ни капли спиртного.
Утром просыпаюсь в квартире старушки. В предрассветных сумерках очертания комнаты едва различимы, но Доры в ней наверняка нет. Из знакомых предметов узнаю томик Рембо и лежащий на столе футляр с вечным пером. Прежде чем броситься на поиски девушки, я прячу перо в карман, а книжку ставлю на полку так, чтобы корешок немного выступал вперед. Вероятно, для того, чтобы после бабушкиной смерти любитель Брамса ее заметил.
Первые лучи солнца, пробившиеся сквозь легкую дымку, окутывают Прогулочную полупрозрачной желтой кисеей – наверно, неброская красота улицы могла бы вдохновить Утрилло. Дора, к счастью, не ушла далеко: на углу Лагевницкой беседует с тремя мужчинами, сидящими на ступеньках еще закрытого магазина. Конечно, они не подонки – просто адепты деструкции: тут Утрилло верен себе. Трудно угадать, где эти трое провели ночь, но сейчас откуда-то выползли и греются в лучах восходящего солнца. Старик со следами бурно прожитых лет на фиолетово-красном лице вполне может оказаться сорокалетним мужиком, в жизни которого не было ничего примечательного. Хоть ему и худо, но он не забыл побриться и если, обращаясь к Доре, не встает, то исключительно из-за полного отсутствия сил.
– Черт угораздил меня родиться с умом и талантом в этой стране. – Он вроде бы жалуется, но как-то беззлобно.
– Так плохо? – Дора искренне ему сочувствует.
– Побыли бы с нами подольше, вас бы поразила пустота и удивительная оторванность нашего существования.
– Правильно говорит. Не нужны мы миру, но и мы, по правде сказать, не много ему дали. Вы слыхали о какой-нибудь новой идее или хотя бы полезной мысли, родившейся в наших краях? – У молодого человека, который поддержал старика, шея обвернута шарфом из желтой ленты, каковой полиция во всем мире огораживает место происшествия. – Я часто просыпаюсь с криком, когда во сне мне приходит в голову, что, возможно, мы составляем пробел в моральном порядке…
– Вы не замечаете в нашем взгляде чего-то до странности неопределенного? – шепчет самый юный, совсем еще мальчишка, видно пристрастившийся к спиртному с колыбели. У него нет сил открыть глаза, но он мужественно поворачивает голову в ту сторону, откуда доносится Дорин голос. – А немота наших лиц – разве она не заставляет вас вспомнить обличье народов, стоящих на самых низших ступенях развития? Присмотритесь хорошенько к моему старшему товарищу… – Он указал подбородком на старика, который не только не обиделся, но – ради пущего эффекта – скорчил страшноватую рожу.
К беседующим присоединился неизвестно когда и откуда появившийся полицейский. Он молод, но мундир у него уже явно прирос к телу. Никто, впрочем, его не испугался.
– Чешка? Я был знаком с одной чешкой. Не знаю, как вы, девушка, но иностранцы всегда ставят нам в заслугу отвагу и прочие достоинства молодых народов и почему-то не способны заметить ни одного положительного качества, присущего народам зрелым и высококультурным.
Из окна над магазином высунулся атлетически сложенный мужик в майке:
– Черт побери! Да разве Христос допустил бы, чтоб мы позже всех узнали о его существовании, не будь у него насчет нас особых намерений? Наша задача – исправлять ошибки и убирать за теми, кто первыми взялись его прославлять, а теперь отвергают.
– Кстати, пан Яняк, напоминаю, что не стоит употреблять слово «черт» рядом с именем Христа, да еще в присутствии женщины. – Полицейский вроде бы шутки ради похлопал по баллончику с газом.
Старейший из присутствующих выразил сомнение в том, стоило ли принимать христианство:
– Мир уже возводил соборы, а мы ютились в лачугах из бревен и соломы. Остались бы в свое время при Святовите[36]36
Бог плодородия у части западных славян; иногда изображался с четырьмя головами.
[Закрыть], который не зря на все четыре стороны света глядел, нас бы, по крайней мере, уважали за оригинальность. Искусство, господа, вот что самое главное. Пикассо у негров вон сколько наворовал, значит, и у Святовита нашел бы чем поживиться.
Слушать это было невмоготу. Они компрометировали не только себя, но и Польшу. И в этом принимал участие государственный служащий. Хоть все они и были плодами моего больного – возможно, неизлечимо больного – воображения, мне нестерпимо захотелось обнажить саблю. Перед мысленным взором замаячила висевшая в доме деда Антония картина, на которой был изображен князь Юзеф, с гордым видом бросающийся в воды Эльстеры[37]37
Юзеф Понятовский (1763–1813) – польский князь и генерал, маршал Франции, выдающийся полководец. Участвовал в походе Наполеона на Россию в 1812 г., командуя польским корпусом. В 1813 г. в битве при Лейпциге, прикрывая отступление французской армии, утонул в реке Эльстере.
[Закрыть]. Я шагнул вперед и потянул Дору за руку:
– Пойдем отсюда, это не для тебя компания.
– Надо понимать, это ваш знакомый? Иначе я б ему врезал – костей бы не собрал.
Мне понравилось, что, даже будучи разоблачены как фантомы, они до конца держали фасон.
– Спасибо за интересную беседу, – сказала Дора и одарила новых знакомцев чарующей улыбкой.
Все как один галантно склонили головы, а юнец, которому не доставало сил разлепить веки, даже приподнял руку.
– Прости, что бросила тебя спящего, но я не могла там дольше выдержать… А этих людей ты неправильно понял. Они всего-навсего процитировали фразу Пушкина о том, как плохо родиться в неподходящем месте, потому что перед тем я им призналась, что в Праге мечтала о Берлине. Потом в мою честь инсценировали фрагмент о России из «Философических писем Чаадаева». Возможно, кое-что переврали, а ты обиделся… ну а когда пришел полицейский, совсем запутались… Они хотели сделать мне приятное, потому что знали моего отца, он ведь тут жил. Отец написал о России много книг, а его друг, наш президент Масарик, когда заходила речь о Восточной Европе, часто обращался к нему за советом.
Начавшее пригревать солнце спряталось за тучи, но было тепло. Я обнял Дору за плечи, и мы пошли на север. Как образцовый псих, я быстро подсчитал, что, двигаясь со скоростью пять километров в час, через шестьдесят часов покажу ей море.
– Отец не мог снести унижения. Твердил, что должен заботиться о нас с мамой, но у самого желание жить пропало. Не покончил с собой, как его друг, профессор Хлавны, но вдруг начал писать кровью. А ведь у него даже насморка никогда не бывало. – Она зарделась и стала еще краше. – И через неделю умер, хотя врачи делали все, чтобы его спасти. Где-то здесь должна быть эта больница.
Только тут я сообразил, чту ей предстоит увидеть, пока мы дойдем до моря. Больница, довоенная жемчужина лодзинского ар деко, так красиво выглядевшая на фотографиях гетто, превратилась в руины, откуда унесли все, что только годилось на продажу. Я мог лишь надеяться, что Дора не узнает этого места и равнодушно пройдет мимо груды развалин. А на случай, если бы узнала, я заготовил рассказ о бомбардировке больницы на протяжении трех дней и трех ночей: мол, немцы обороняли Лодзь до конца, превратив ее в Festung Litzmannstadt[38]38
Festung – крепость, твердыня (нем.). Лодзь в период оккупации (1939—1944) называлась Лицманштадт в честь немецкого генерала, участника Первой мировой войны Карла Лицмана.
[Закрыть]. В доказательство того, что так бывало в других городах, достаточно будет показать ей в книжном магазине роман «Festung Breslau». Однако я предпочел третий вариант. Повернул обратно.
Регина вспомнила свое первое выигранное дело: Кудановский против финансового управления. После того процесса она совсем по-другому начала входить в зал суда. Вот и Борнштайн, нанеся чувствительный удар прокурору, стал двигаться совершенно иначе; кажется, он даже похорошел – если про него можно было такое сказать. И настолько осмелел, что рискнул напасть на судью.
– Полагаю, сейчас самое время задать вашей чести вопрос, – сказал он. – Я не вижу здесь ближайших сотрудников господина председателя. Где те, кто распоряжался в гетто, когда мой клиент фактически отошел от дел? Почему перед нами не стоит печально известный Марек Клигер? Где Давид Гертлер, который, начиная с сорок второго года, принимал все решения, раздавал награды и устраивал проверки, а председателя выставлял вперед, когда надо было объявить о депортации? У старика еще могли оставаться иллюзии, что власть по-прежнему у него в руках, в его честь еще устраивались торжественные собрания. Про Гертлера говорят, что он выдавал гестапо богатых евреев, – разве такого человека не следует привлечь к суду, ваша честь?
Регина видела, что Хаима покоробило слово «старик», однако судья, выглядевший еще старше него, невозмутимо разъяснил:
– Мы здесь не для того, чтобы осуждать все существующее в мире зло. Защита, вероятно, заметила отсутствие многих виновников страшных преступлений. Мы ограничились вашим председателем, поскольку он стал своего рода символом, но при этом, как и большинство из вас, является жертвой. Впрочем, если защита считает, что нам недостает сильных эмоций, я готов… Попрошу присутствующих вести себя сдержанно. Никаких криков в зале… Я пригласил к нам Ганса Бибова. Зная его немецкую педантичность… он появится примерно через тридцать секунд… Кто хочет со мной поспорить?
Кроме Хаима, в зале не было человека, который бы не повернулся к двери. Только двое посмотрели на каким-то чудом сохранившиеся у них часы. Когда вошел мужчина с обвязанной шеей, воцарилась гробовая тишина. За завтраком Регина едва его узнала, а сейчас он еще имел наглость ей поклониться…
– Учтите, господин Бибов, я много о вас знаю, – произнес судья. – Для начала расскажите о себе что-нибудь хорошее, например, какой вы благородный человек.
– Не смею так о себе говорить, но… в среде торговцев в Бремене я пользовался уважением, это факт. Да и в Лодзи старался самым добросовестным образом исполнять свои обязанности. – Бибов говорил невнятно, но спокойно.
– Расскажите, как вы попали в Лодзь.
– Меня вызвали и назначили руководителем экономической службы. Я понятия не имел, что речь идет о гетто, и уж никак не предполагал, что возглавлю администрацию.
– Вас заставили занять эту должность? – Судья смотрел куда-то поверх головы Бибова.
– Я согласился добровольно, иначе, думаю… был бы вынужден согласиться.
– И стали главой гетто, зная, что людей туда загнали силой?
– Об этом я узнал позже.
– То есть вы полагали, что евреи по доброй воле отправились за колючую проволоку?
Регина услышала несколько смешков – довольно робких.
– Вижу, вы не склонны вдаваться в подробности. Что ж, тогда попрошу вас ответить – без занесения в протокол, разумеется, – на один вопрос. – Судья подался вперед, словно рассчитывая услышать что-то очень интересное. – Признаться, по возможности я задаю этот вопрос любому члену НСДАП. Вас ничего не коробило в человеке, которого ваш народ избрал фюрером?
– Я не очень понимаю… Фюрер это фюрер.
– Вам не мешало, что Бог сотворил его… скажем, немного смешным?
– Раз уж ваша честь упомянули Бога, замечу, что Он также позволил Адольфу Гитлеру стать нашим вождем.
– Ну да, тоже верно. А вступая в нацистскую партию, вы знали, какая участь уготовлена евреям ее программой?
– Тогда я не увидел в программе ничего, предполагающего необходимость физического уничтожения евреев.
– Вы читали «Майн кампф»?
– Честно говоря, начал, но не закончил.
На этот раз весь зал всколыхнулся, кое-кто даже вскрикнул. Регине почудилось, что она узнала голос Тамары Котецкой, которая до войны так чудесно пела. Впрочем, она могла ошибиться.
– Прошу сохранять спокойствие, – судья сказал это не очень громко, будто понимал, что его вряд ли послушают. – Скажите нам, господин Бибов, вы ведь были главной персоной в гетто?
– В том, что касается хозяйственной деятельности, можно сказать – да. Но обо всем прочем решало гестапо, руководствуясь линией партии.
– Что это такое: все прочее – вы знали?
– О том, что евреев отправляют на смерть, я не знал – мои поездки в лагеря уничтожения, как их сейчас называют, носили чисто служебный характер.
– Господин Бибов! – В голосе судьи появилась гневная нота.
– Скажу иначе: знать не знал, но мог догадываться.
– Господин Бибов, надо ли напоминать, что с нашей стороны вам ничто не грозит? Я понимаю, вы стараетесь показаться в наилучшем виде, но это бессмысленно, поверьте. Говоря неправду, вы только выставите себя на посмешище, а вряд ли вам этого хочется.
– Да, вы правы. Мне уже ничто не грозит. И незачем что-либо скрывать. Да, я все знал. Не дурак, в конце концов.
– Разумеется, нет. Зачем же вы все-таки произносили эти лживые речи: «Я, Бибов, ваш добрый друг, я хочу, чтобы вы пережили эту войну. Доверьтесь мне, я переведу вас в безопасное место». А потом тех, кто обоснованно вам не доверял, лично отлавливали по подвалам.
– Простите, ваша честь, не хочу вас обидеть, но вы обвиняете меня в двух вещах, которые нельзя ставить на одну доску. Первое обвинение, относительно лживости моих речей, я легко опровергну. Я действительно считал себя покровителем этих людей. Да, я знал, что большинство погибнет, но что можно было дать им лучшего, чем лишний день надежды? Хотя бы за это я мог ждать благодарности.
– А не приписываете ли вы себе чужие заслуги? Ведь вся политика вашего начальства строилась на схожих рассуждениях. Чтобы убить миллионы, не допустив даже малейших попыток сопротивления, надлежало обманывать людей до тех пор, пока они не переступят порог газовой камеры.
– Не спорю, мы получали такие инструкции. Но их можно было выполнять по-разному: формально или рьяно. Я считал, что, произнося подобные речи, совершаю своего рода благой поступок.
– А почему не просто благой поступок? – поинтересовался судья.
– Признаться, не люблю оперировать религиозными понятиями – после того, как со мной так несправедливо обошлись, мне трудно верить в существование Бога.
– Продолжайте.
– А вот мое участие в розыске тех, кто отказывался добровольно садиться в вагоны, – совсем другое дело. За это мне стыдно. Но я получал приказ: доставить столько-то евреев – и за невыполнение был бы сурово наказан. Личной вражды я ни к кому не испытывал.
– Ни в коей мере?
– У меня есть неоспоримые доказательства. Когда я провожал Якубовича, правую руку Румковского, мы с ним даже расцеловались. Кстати, насколько я знаю, он выжил. Был еще у меня зубной врач еврей… Шмулевич. Вот этот мост, коренной зуб и два зуба мудрости… – Бибов широко открыл рот. – Да разве я позволил бы копаться у себя во рту человеку, вызывающему у меня брезгливость?
– Да, это убедительно. – Судья явно утомился. – Что ж, я выяснил почти все, что хотел. Пускай теперь вас допрашивают другие. Господа… Кто первый? Защита?
У Борнштайна был вид человека, вынужденного для спасения чужой жизни броситься в выгребную яму. Тяжело вздохнув, он поднялся.
– Вы узнаёте сидящего здесь человека? – Он указал на Хаима, который при этих словах вздрогнул.
– Да, это председатель юденрата герр Румковский.
– За что он отвечал в гетто?
– За все.
– То есть и вы были обязаны исполнять его приказы?
– Ну нет, это он исполнял мои.
– Несет ли человек, исполняющий чужие приказы, хоть какую-то ответственность за содеянное?
– Мы все кому-нибудь подчинялись. Я выполнял поручения тех, кто стоял выше на служебной лестнице.
– Как вы считаете: господин Румковский хотел, чтобы обитатели гетто погибли?
– Нет, конечно нет.
– Если бы вы отказались возглавить администрацию гетто, вас бы отправили на фронт?
– Да, этим бы кончилось.
– А если бы господин Румковский отказался стать главой юденрата, его бы расстреляли, как членов предыдущего совета общины?
– Скорее всего.
– Как же вы сравниваете его и вашу ответственность?
– На фронте я бы тоже мог погибнуть от пули.
– Это единственная аналогия, которая приходит вам в голову?
– В настоящий момент – да.
– Как складывались ваши с ним отношения?
– Не скажу, чтоб они были идеальными, но мне бы хотелось иметь такие отношения со всеми своими сотрудниками.
– Он старый человек, верно?
– Я понимаю, что вы имеете в виду. Когда гетто, благодаря организационным талантам председателя, уже работало полным ходом, я решил оставить ему представительские функции, а в повседневных делах опереться на его более молодых заместителей. На Якубовича, Клигера. Хотя последний – тот еще фрукт.
– Я не это имею в виду. Скажите, в Бремене принято бить стариков? Вы ведь избили этого седовласого человека.
– У людей, которые делают общее дело – а для меня таким делом была защита евреев, – часто случаются столкновения из-за несходства взглядов, это нормально. Во время войны стычки могут носить иной характер, чем в мирное время, скажем, за чашкой кофе. Возможны и вспышки агрессии, о чем потом обе стороны жалеют. И даже иногда доходит до драки.
– Вы называете дракой избиение старика, который потом шесть недель пролежит в больнице? У меня есть показания свидетеля, печника по профессии, – он видел, как вы, схватив председателя за волосы, били головой об отопительный котел, пока не пробили стенку котла насквозь…
– Он уже весь проржавел. Да и лечился председатель так долго, потому что очень заботился о своей внешности и не хотел появляться на людях с парой царапин. Ну скажите сами, герр председатель, не так уж это было страшно! У нас и хорошие минуты бывали. Я доверял вам, а вы – мне. Возможно, я не оправдал ожиданий – ваши соплеменники не попали в Палестину, как вы им обещали, – но и мне потом не сладко пришлось!
Регина смотрела на неровно пульсирующую жилку у Хаима на виске. Она знала, чем это обычно кончалось. И сейчас он резко вскочил и чуть не упал – от долгого сидения ноги отказывались повиноваться. К счастью, Борнштайн ловко его подхватил.
– Господин Румковский! – воскликнул судья с явно притворным возмущением. – Вы, глава государства, король, всеобщий заступник – и такая несдержанность?! Нехорошо! Сядьте на место. Простите, господин Бибов. Конечно, у многих в этом зале руки чешутся, но мы не для того здесь собрались. – И, повернувшись к защитнику, добавил: – Проследите, чтобы такое не повторилось… Мало ли что может случиться – все надо предвидеть…
– Из уважения к вам, ваша честь, и из опасения вас обидеть умолчу о том, что, если бы вам пару раз удалось предвидеть, чту может случиться, мы бы сегодня не встретились, тем более на таком процессе… – Регина не ожидала, что Борнштайн осмелится дерзить судье, и испугалась, что реакция будет очень резкой, однако судью, уже открывшего рот, опередил Бибов:
– Все вы видели: я старался не сказать о Румковском плохого слова, но больше не желаю сдерживаться. Ты забыл, сукин сын, как обгадил меня, когда тебя вызвали на комиссию? Думал, немцы не солидарны? Я обо всем узнал еще до того, как ты вернулся в гетто. Нужно было не задницу тебе надрать, а продырявить твою пустую башку…
– Господин Бибов…
– Знаю, выражения слишком крепкие, зато от души. Чего только я не делал для блага гетто! Сколько заказов для нас выпросил в городе! Сколько дарил дорогих подарков, чтобы привлечь клиентов! А начальство? Да я до самого конца твердил, что более дешевой рабочей силы, производящей хорошие и полезные вещи, мы нигде не найдем, а убедить тех, кто идеологию и застарелую предубежденность ставил выше экономической выгоды, было нелегко. Напомню также, что часто я, по просьбе еврейских работников, вмешивался, например, в распределение продовольствия. Сейчас, входя в зал, я заметил человека, который подал жалобу на то, что в Марысине отдыхает в основном верхушка, а не те, кто тяжело работает. Я проверил его слова и приказал разогнать эту шайку. Было так? Пускай присутствующие подтвердят…
В зале никто не отозвался; тишину нарушил потерявший терпение Борнштайн:
– Господин Бибов, отвечайте только на наши вопросы. Вы помните, сколько неевреев было в гетто?
– Конечно. Двадцать два человека. Поляки и польки, а также две немки.
– Откуда они взялись?
– В основном из смешанных супружеских пар, которые не захотели расстаться.
– К ним в гетто относились так же, как к евреям?
– У них не было никаких привилегий. В конце концов, они сами выбрали такую судьбу.
– А теперь предлагаю выслушать человека, который абсолютно беспристрастно расскажет о том, как в гетто относились к свидетелю. Господин Бибов, присядьте на минутку, вот сюда, на свободный стул, а Янину Вонсик попрошу отвечать со своего места.
Все обернулись, потому что Янина Вонсик сидела в последнем ряду. Теперь она встала, опираясь на костыль. Молодая, вероятно, ровесница Регины, с некрасивым и грубоватым, но открытым лицом.
– Расскажите нам, как вы, полька и христианка, оказались в гетто.
– Я сирота, жила в деревне у дяди, работала на него, но он не захотел держать у себя калеку, и я лет за десять до войны уехала в Лодзь. – Голос у Янины был мелодичный, совершенно не вяжущийся с ее лицом. – Дядя не дал мне ни гроша, только заплатил за билет, и я два дня голодная ходила по городу. Когда сил уже совсем не осталось, наткнулась на кожевенную мастерскую Цукерманов. Мира и Зигмунт меня накормили и пустили переночевать. И я у них осталась…
– В прислугах?
– Сперва я убиралась в магазине, но потом они увидели, что мне по душе их дело, и папа стал учить меня ремеслу. Уже через два года я сшила первую сумку, которую купила очень модная дама.
– Вы сказали «папа»?
– Своих детей им Господь не дал, и они относились ко мне как к дочке. Когда немцы стали сгонять евреев в гетто, я собралась и пошла с ними, ведь, кроме них, у меня никого на свете не было.
– В гетто были и другие христиане. Вы с кем-нибудь познакомились?
– Негде было знакомиться. Как оно в большом городе: знаешь только соседей и тех, с кем работаешь.
– Вы работали на кожевенной фабрике?
– Да, вместе с мамой и папой.
– Вы когда-нибудь видели председателя Румковского?
– Два раза. Один раз он приходил к нам с проверкой… Помню, тогда осерчал и давай охаживать палкой тех, кто сильно на него наседал…
– Наседал? Почему? У людей были какие-то претензии?
– Многим хотелось неделю отдохнуть в Марысине, но у него было только пять путевок, и он их отдал начальнику… А второй раз видела на концерте в его честь. Все заранее готовили номера. Даже меня просили выступить, но я-то ведь плясать не могу, а петь постеснялась. Пан председатель сидел в первом ряду, вроде ему очень понравилось, он даже хлопал. Вот и все… Ага, еще я знаю, что за хорошую работу он хвалил, но мог и здорово отчехвостить, кто не слушался…
– А если сравнить с председателем присутствующего здесь немецкого главу гетто, господина Бибова? Его вы когда-нибудь видели?
– Вблизи, упаси Бог, не видела… лучше было ему на дороге не попадаться. Как говорится, настоящий хозяин жизни и смерти. Всех, пока не отправил в газовую камеру, обобрал до нитки. Под конец отбирал даже вечные перья, зажигалки… Все, что могло пригодиться его помощникам.
– Вы были в гетто почти до последнего дня. Не захотели поехать со своими приемными родителями?
– Как же, очень хотела. Уже было слыхать пушки, мы спрятались, но у мамы совсем сил не стало, а тем, кто соглашался ехать добровольно, давали хлеб. Мама сказала, что, если прямо сейчас чего-нибудь не съест, все равно помрет, и пускай будь что будет. Конечно, я бы с ними поехала, но они и слышать не хотели. Я их проводила до вагона.
– И тогда впервые увидели Бибова вблизи?
– Не то, чтоб вблизи, но разглядеть разглядела. Помню, на нем была белая рубашка с короткими рукавами и два пистолета за поясом. Вежливый такой… спрашивал, нет ли среди них хорошей кухарки, мол, на месте очень пригодится. Я сказала маме: разрешите мне поехать, готовить я умею, буду при кухне, и вам, глядишь, чего перепадет. Но они ни в какую. Оставайся, говорят, нас, видать, везут на погибель. А ты живи, скажешь когда-нибудь про нас доброе слово… Вот я и говорю, где могу… – Голос Янины дрогнул.
– Большое вам спасибо. От всех от нас, – сказал Борнштайн. – Мы будем помнить Миру и Зигмунта Цукерманов. Ваша честь, разрешите, я больше ни о чем не буду спрашивать этого Бибова.
– Как хотите. Ваша очередь, господин прокурор. У вас есть прекрасная возможность обвинить председателя в том, что он общался с личностями такого покроя, как герр Бибов.
– Простите, ваша честь, но вы обо мне плохо думаете. Я не намерен строить обвинение на показаниях негодяя. Есть горы документов, которые подтверждают, что Бибов собственноручно убил нескольких человек, десятки тысяч отправил на смерть, унижал и насиловал женщин. О том, как он обирал всех подряд, уж не говорю. Я отказываюсь задавать ему вопросы. Палач, убийца, насильник открыто над нами издевается, а я должен его выслушивать? Скажу больше: я солидарен с господином Румковским… сам бы охотно пустил в ход кулаки.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































