Текст книги "Истинные ценности"
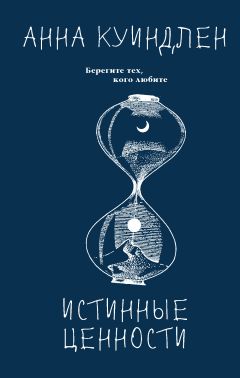
Автор книги: Анна Куиндлен
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Внезапно меня озарило. Я вспомнила, что в тот день мамино лицо точно так же заливал жаркий румянец, как она рассеянно провела рукой по волосам, а потом в коридоре возник отец – неожиданно и шумно: ему не терпелось объявить какую-то великую новость – то ли про отпуск, то ли про публикацию в специализированном журнале, – и мама так и не успела ответить. Но я все поняла, взглянув на ее лицо, и позже, наблюдая за мамой за завтраком иным воскресным утром, когда она выглядела смущенной, сонной и очень довольной.
– Разумеется, я сказала тебе правду, – проговорила она теперь, корректируя воспоминания в нужную сторону. – Но, кажется, тебе не очень понравилось. Ты просто посмотрела на меня – знаешь, когда ты была маленькой, у тебя бывал такой оценивающий взгляд – и пошла наверх. Я все гадала, о чем ты подумала, и это всегда было нелегко.
– Знаю.
– У меня получалось не очень, – продолжила мама, рассматривая собственные руки, беспокойно лежавшие на коленях. – Твоему отцу это удавалось лучше, гораздо лучше. – Она посмотрела на меня и добавила: – Извини.
– Все в порядке. – Меня несколько озадачило ее «извини».
Не за что ей извиняться. Ведь я так долго считала себя девочкой, которая просто взяла и ушла из маминой жизни, что утечет немало воды, прежде чем я задумаюсь: а как насчет другой стороны? Насколько легко она меня отпустила?
Однажды я проснулась утром, смущенная сном, в котором мы с Джо впивались друг в друга на кафедре в огромной аудитории, заполненной студентами. Снизу, из спальни, доносились пронзительные крики, и на секунду мне почудилось, что где-то в доме находится маленький ребенок, который требует, чтобы ему сменили пеленки и дали поесть. Потом я расслышала, как отец зовет меня по имени. Когда я спустилась в их комнату, он сидел на краю постели с полотенцем вокруг талии, а мама плакала, но без слез.
– У нее страшные боли, – сказал он. – Говорит, что в спине. – Он повернулся к ней. – Тише, родная, все будет хорошо. Успокойся. Ш-ш-ш.
– Дайте грелку! – пронзительно выкрикнула мать.
– Она не спала почти всю ночь, – пожаловался отец. – Я не мог отыскать грелку, но она не позволила тебя будить.
– Дай Эллен поспать, – проворчала мама так, будто повторяла эту фразу всю ночь.
Я принесла грелку из своей комнаты, и мы с отцом посадили маму, взяв за руки, каждый со своей стороны. Одеяло было откинуто, а ночная рубашка соскользнула с плеч и запуталась на бедрах, теперь я увидела, что она старалась скрыть. Кожа на руках обвисла, ключицы торчали точно балки, тощие ноги покрывали синяки. Я вспомнила одну девушку в нашем общежитии в Гарварде, которая стремилась похудеть и не ела ничего, кроме бананов и воды. В середине семестра кожаная юбка третьего размера уже сваливалась с ее тощих ягодиц, но она уже не могла остановиться, считала себя толстой и говорила, что ей нужно пробегать по утрам на милю больше.
Мы жили с мамой бок обок полтора месяца, но она щадила меня, скрывая ужас разложения, который она видела каждое утро, снимая ночную рубашку, берегла, когда не впускала в кабинет доктора Кон, когда говорила со мной, используя щадящие выражения из литературных произведений и прошлой жизни, когда закрывала дверь ванной и спальни или изображала веселую улыбку во время наших вылазок.
«Пусть Эллен спит, не надо ее будить», – всегда говорила мама, и теперь я поняла почему: она еще не была готова к тому, что ее дочь стала главным взрослым членом семьи. Она не могла допустить, чтобы болезнь сбросила ее с пьедестала, который она занимала всегда.
Когда мы опять уложили ее, но уже спиной на грелку, она дышала так, будто пробежала несколько миль.
– У тебя лекция в девять часов, – напомнила она отцу, не открывая глаз.
Я говорила по телефону с доктором, когда услышала, как открылась и закрылась входная дверь, и поняла, что он ушел. Хотелось бы мне знать, о чем он думал, глядя на то, что стало с ее телом, что испытывал – печаль или отвращение? И что думала она, когда видела, как он смотрит. Интересно, как оно бывало по ночам, могла ли она сказать или почувствовать во тьме ночи то, что скрывала от меня при свете дня? И, может, отец все-таки лучше, чем я о нем думала?
А доктору Кон я позвонила спросить, как уменьшить боль.
– Знаю, что вы больше не ходите по домам, но…
– Я буду через полчаса, – перебила она деловым тоном.
И ровно в означенное время синий «вольво» с номерным знаком штата Мэриленд и детским креслом на заднем сиденье появилась на нашей подъездной дорожке. Я сварила кофе.
– Ох, доктор, у меня что-то со спиной – может быть, диск? – жалобно проговорила мама. – Боль ужасная.
Я наблюдала, как доктор Кон наполняет шприц, осторожно трогает пальцами кожу вокруг набрякшей шишки над маминой грудью, а потом вкалывает что-то в катетер, уходящий под кожу. Буквально через мгновение мама расслабилась, веки ее опустились и, укладываясь на спину, тихо проговорила:
– Уже лучше.
Доктор осторожно повернула ее на бок и подняла голубую фланелевую ночную рубашку с узором из крошечных цветочков. Я зажала рот ладонью и отвернулась, прижавшись лбом к холодному белому косяку двери.
– Эллен? – позвала мама тихо, в полусне, и я попыталась ответить, но в горле встал ком из страха и горя.
Как ни старалась, я не сумела заставить себя произнести хоть слово. Да и не могла я ей ничего сказать, разве что «мама», будто маленький ребенок.
– Она пошла вниз приготовить мне кофе, Кейт, – сказала вместо меня доктор Кон.
– О, это хорошо, – сказала мама, и через минуту я услышала ее ровное дыхание.
Доктор поправила ей ночную рубашку, накрыла одеялом и пощупала пульс.
Мы спустились вниз и сели за старый дубовый стол с блестящей поверхностью. Доктор Кон молча выпила свой кофе. А потом извлекла из сумки блокнот и начала писать своим красивым ровным почерком. Я ей на это указала, и она сухо рассмеялась.
– Из медицинского колледжа выгоняли и за меньшие прегрешения.
Она подала мне рецепт и сказала:
– Дело не в спине.
– Доктор, я же не дура.
– Знаю, но, как ты могла уже догадаться, ум – это не то, что сейчас нужно, а вот сочувствие просто необходимо. Миссис Гулден испытывает сильную боль, но насколько терпимую, сказать трудно, поскольку, как тебе хорошо известно, она не из тех пациентов, кто жалуется. Ее болезнь прогрессирует гораздо быстрее, чем мы ожидали, и я сказала ей об этом во время прошлого визита. На данном этапе исключительно важно держать боль под контролем. Я уже назначала таблетки морфия: посмотрим, как пойдет. Возможно, придется вводить непосредственно через катетер. Вы с отцом уже обсуждали возможность помещения ее в хоспис?
– Нет, и не собираемся: никакого хосписа, никакой клиники. У меня была хорошая работа в Нью-Йорке, квартира и друзья. Было куда поехать и с кем встретиться, но я все бросила, чтобы ухаживать за мамой. Так что этим я и буду заниматься. Сделаю все, что потребуется.
Она опять начала что-то писать в блокноте.
– Ты к кому-нибудь ходишь?
– Вы имеете в виду мозгоправа?
– Мы предпочитаем говорить «психиатр», но да, думаю, тебе нужно с кем-то поговорить.
– Мы беседуем с мамой.
– Нет, я не об этом. Тебе нужно поговорить с кем-нибудь о твоей маме и о том, что ты чувствуешь. А миссис Гулден могла бы поделиться с кем-то своими ощущениями.
– Мама может все сказать мне.
– Ты в этом уверена? А она говорила тебе, что боится засыпать, потому что может уже не проснуться? Что представляет себе, как вы все будете жить дальше и забудете о ней? Говорила ли, что хотела бы заняться любовью с мужем, но думает, что противна ему и он не захочет? Взгляни на расписной потолок этой спальни, на одеяло на ее постели. Посмотри на деревья за окном, на венок на входной двери – полагаю, она сделала его своими руками? Говорила ли она тебе, как боится потерять все это?
Доктор Кон вырвала листок из своего блокнота и аккуратно положила на стол рядом с рецептом на сульфат морфия. На нем было написано «Джессика Фелд» и номер телефона.
– Эллен, повторяю: тебе нужно с кем-то говорить, а еще необходимо давать Кейт каждые восемь часов таблетки, чтобы уменьшить боль. Глотать их не разжевывая. Я пришлю вам кресло-каталку: скоро ей станет трудно ходить. Завтра я жду вас. Вроде пока все.
Едва она вырулила с нашей подъездной дорожки, как я положила один листок под пресс-папье на письменном столе, где уже лежало письмо от миссис Форбург, на которое я так и не ответила, и отправилась в аптеку. Мистер Сэллинджер выдал мне препарат без обычных шуточек, только сказал: «Передай маме, что мы ее любим».
И я передала, вместе с таблетками. Некоторое время они помогали.
Братья приехали домой во вторник перед Днем благодарения. Увидев маму, Брайан расплакался, опустился на колени перед ее креслом, и она молча притянула его к себе головой к груди, к тому месту, где бьется сердце.
– Нет-нет, Баба. – Так мама называла его когда-то, много лет назад.
Джефф, глядя на них с кривой усмешкой на веснушчатом лице, брякнул:
– Ма, ты ужасно выглядишь.
– Это Эллен виновата, – нашлась Кейт.
– Не-ет, ничего подобного: просто ты не ешь овощи и проводишь на танцульках ночи напролет. В твоем шкафу, за обувной полкой, пустая коробка из-под пивных бутылок. Я тебя знаю!
– Ох, Джеффи, – улыбнулась мама, взъерошив сыну волосы.
Если мамина внешность и явилась для них обоих сюрпризом, то, уверена, не таким, как моя, для Джонатана, когда он неожиданно явился к нам в гости. Я услышала шаги за спиной, и вот, пожалуйста – Джо собственной персоной, такой красивый в голубом свитере и серых фланелевых брюках, спрятав глаза за зеркальными солнечными очками. Вот когда я их и сняла, тогда увидела в его глазах удивление. Он уставился на меня и принялся рассматривать с головы до ног как какую-то диковину. В иных обстоятельствах этот взгляд мог бы польстить, но сейчас вряд ли. На мне был фартук в красную и белую клетку с надписью «Поцелуйте повара» на нагруднике, волосы забраны в небрежный пучок на макушке. Я как раз пекла печенье, так что вся к тому же была в муке. Я обняла и поцеловала Джо, а когда отошла, у него на свитере, брюках, даже на волосах, которые свисали тяжелыми каштановыми прядями надо лбом, остались мучные пятна.
– Вот черт! – буркнул он, оглядывая себя.
– И я тебя люблю, – ответила я радостно – или злорадно, не знаю точно – и с торжествующим видом ткнула его пальцем в середину лба, оставив мучной отпечаток еще и там.
Я сняла фартук и вымыла руки, и только тогда он обнял меня и поцеловал – долгий поцелуй в притихшем доме.
– От тебя пахнет маслом, – заметил Джо, не испытывая, кажется, восторга по этому поводу.
Мы отпрянули друг от друга, заслышав на лестнице медленные шаги. В кухню вошла мама и радостно воскликнула:
– Джонатан!
Он наклонился поцеловать ее в щеку, где бледно-желтая кожа туго обтягивала резко выступившую кость скулы.
Я дала им возможность поболтать о юридической школе, потом приняла душ, и когда мы вдвоем с Джо сидели в нашей машине, он откинулся на спинку кресла, выдохнул, медленно и тяжело, спросил:
– Как ты себя чувствуешь?
– Стараюсь не чувствовать.
– Понимаю.
Разумеется, ничего он не понимал, потому что, вместо того чтобы забыть о чувствах, попросту никогда их не испытывал по-настоящему. В те дни мне нравилось думать, что он меня любит, однако любовь никак не вписывалась в его жизненную установку. Мне не требовалась ни Джессика Фелд, ни кто-либо другой, чтобы объяснить все это страждущей душе. Мать Джонатана сбежала, когда ему было всего два года, а ей двадцать: решила, что поспешила с замужеством, бросив маленького сына, который, когда вырос, оказался неспособным сказать «я тебя люблю» без уверенности, что это прелюдия к расставанию, ощущению ненужности и тычку в зубы.
Сейчас эта женщина жила в Калифорнии, у нее была другая семья и дом с бассейном. Однажды, когда ему было двенадцать, он ухитрился вытянуть из бабушки номер ее телефона, позвонил и спросил, когда она взяла трубку:
– Как можно взять и бросить своего ребенка?
И она ответила, так и не избавившись от бруклинского акцента:
– Просто взяла и бросила.
«Можно было представить, как она пожимает плечами», – рассказывал мне Джонатан. Не так давно я видела его на Мэдисон-авеню с очень красивой женщиной, светловолосой, с пристальным взглядом умных глаз. Уверена, что Джонатан восхищается ею, как восхищался когда-то мной – моим живым умом, решительностью и честолюбием, пылкостью и отсутствием комплексов. Но любовь? Не думаю.
Его отец служил в полиции в Нью-Йорке, вышел на пенсию после положенных двадцати лет и занял непыльную должность начальника службы безопасности Лангхорнского колледжа. Они с сыном поселились в безобразном современном доме на окраине города, который, по словам Джо, был в четыре раза больше квартиры в Бруклине, где они жили вместе с дедом и бабкой.
Он в открытую таращился на меня на лекции по английской литературе, а после я слышала, как спросил у Джеки Белнап, кто я такая. «Гулден? – переспросила Джеки. – Учеба, учеба и еще раз учеба. Сука, сука и еще раз сука».
«Как раз то, что доктор прописал», – сказал Джонатан. Он был по-своему красив: посаженные чуть ближе, чем нужно, глаза, каштановые волосы, решительный подбородок и удивительно, по-женски, полные яркие губы. Они-то и придавали ему невероятно сексуальный вид, вполне соответствовавший содержанию. И все же из нас получилась пара: оба быстрые и страстные, порывистые, не отдававшие себе отчет в том, какое впечатление производим на окружающих. «Голодные щенки», как сказал бы Джефф, а еще он мог бы сказать, что однажды мы сожрем друг друга, только я не стала бы слушать.
Пока мы были в колледже, отец Джо женился вторично – на секретарше из Лангхорна. В этот День благодарения они с женой («Зови ее моей мачехой, если жизнь не дорога», – сказал мне Джо еще раньше) гостили у ее дочери за три тысячи миль отсюда. Мы вошли в дом и начали срывать друг с друга одежду еще до того, как закрылась дверь.
В кино подобные сцены выглядят очень сексуально: серые брюки, красная водолазка, трусы в цветочек – Гензель и Гретель отметили свой путь в спальню. Но я отчаянно сражалась с петлями и крючками, как будто в целом мире не было задачи важнее, чем как можно скорее оказаться голой. Я просто сходила с ума, и в результате к тому моменту, когда легла в постель, все желание улетучилось. Я едва не проговорилась: «Я хочу только одного – спать», – но не Джонатану. Только не ему…
Неделя перед праздником выдалась тяжелой. Иногда маму сгибало пополам, и я понимала, что нечто грызет ее изнутри – в животе и пояснице. Складки у рта, которые некогда отмечали улыбку, теперь залегали глубже от гримас. Волосы сделались как пух тонкие и всклокоченные, как у маленького ребенка, и каждое утро она обертывала голову косынкой, выпуская наружу несколько прядок, чтобы смягчить резкие линии костей, так явно проступавших на лице.
И начались приступы гнева. Самый ужасный был в тот день, когда я выкатила кресло-коляску. Как только боль вступала в свои права, мама превращалась в настоящую фурию, и я ее не узнавала. Началось с того, что набросилась на Минни, которые хотели сделать ее почетным председателем на церемонии украшения елок, чтобы избавить от необходимости трудиться самой, потом накричала на миссис Дуайн, которая погладила ее по спине («Я что, собака?»). Эти приступы ярости делали маму так непохожей на самое себя, что я даже подумала, будто у рака есть голос и я его слышу. Или то был голос морфия?
– Я не инвалид! – выкрикнула она, когда спустилась вниз после дневного сна и впервые увидела стоявшее в углу кресло-каталку. – Сначала ты накачиваешь меня снотворным, а потом пытаешься превратить в инвалида. – Тяжело опустившись на кушетку в гостиной, прижимая, как щит, подушку к животу, она потребовала: – Убери его немедленно, Эллен, пока я не выбросила его не улицу. Это унизительно.
Мама схватила пенопластовый шарик и дрожащими руками попыталась прикрепить к нему блестку канцелярской кнопкой, но ничего не получилось: блестка полетела на пол.
– Я просто хочу, чтобы тебе было удобно, – собрав волю в кулак, сказала я.
– Нет! Ты хочешь… вы оба хотите, чтобы я умерла, а вы с отцом могли жить так, как хочется.
Она ошибалась. Я надеялась, что кресло-каталка поможет ей сохранить некоторое достоинство, а не напомнит о смерти; надеялась, что смогу отвоевать для нее хотя бы несколько недель, еще одну книгу, может быть – еще несколько уроков из старой домашней жизни, которая была ей так знакома, но знала: единственное, что могло вернуть ее в прежнее состояние – когда она на цыпочках день-деньской танцевала вокруг духовки, с мукой в волосах, и держала черные мысли при себе, – так это начать с чистого листа смерти. Тогда прежняя Кейт Гулден будет вечно жить в моих воспоминаниях. И я боялась новой Кейт, злобной высохшей самозванки. Она была права: я действительно хотела, чтобы эта незнакомка исчезла. Как долго я удивлялась прежде, почему мама не проклинает ни отца, ни свою долю, ни цену, которую пришлось заплатить, но теперь, когда видела вспышки ярости, ощущала их как черное чудовище с зубами и когтями, благословила ее спокойствие, которого мне сейчас отчаянно не хватало.
Я попыталась рассказать обо всем этом Джонатану. Доктор Кон была права: мне нужно выговориться. После того как мы занялись любовью, я лежала, тупо глядя вверх, на потолочный вентилятор, и слезы бежали по моему лицу.
– Если бы мне хватило смелости, я задушила бы ее подушкой.
– Не смей так говорить, – испугался Джонатан.
– Ох, ты не понимаешь! Ты пьешь кофе в кафетерии и проговариваешь аргументы, чтобы потом разыграть в аудитории сцену суда, а я наблюдаю, как на моих глазах эта женщина медленно превращается в труп, и могу думать только о том, что это мой последний шанс узнать ее, быть с ней, не пренебрегать ею из-за того, что она не работает, не училась в университете и не верит, что мир рухнет, если не узнает, действительно ли за сонетами Шекспира стоит пресловутая «Смуглая леди». А дни летят. Она ненавидит Элизабет Беннет, можешь себе представить? Просто ненавидит.
– Какую еще, к черту, Элизабет Беннет?
– Из «Гордости и предубеждения».
– Ага, ну да. Это все объясняет, – сказал Джонатан, приподнимаясь на локте (на лице – последние отблески дневного солнца, сияющего сквозь жалюзи в его спальне). – Послушай, Эллен, тебе нужно отдохнуть, иначе сойдешь с ума. Не мог бы папочка Джордж дать тебе передышку, чтобы мы могли провести выходные вместе?
– Джонатан, я не могу никуда уехать. Никогда заранее не знаешь, что будет с ней через час, даже через минуту.
– Думаю, ты преувеличиваешь, перегибаешь палку.
– Джо, ты не понимаешь…
– А как насчет этой палки? – быстро сменил он тему на свою любимую и толкнул меня назад.
Потом мы оделись и поехали к моему дому.
– А ты заметил, что за все время мы ни разу не поцеловались? – сказала я.
– О-о господи! Уймись, Эллен, – сказал Джо раздраженно. Получив то, что хотел, он вернулся в свое обычное состояние.
Остаток вечера я посвятила подготовке ко Дню благодарения: резала лук, чистила сладкий картофель и фаршировала индейку – то есть наготовила прорву блюд, как всегда делала мама. После того как Джонатан привез меня домой, я переоделась в ночную рубашку и засела на кухне, но вдруг поняла, что делаю все это ради ощущения стабильности, как будто этот День благодарения ничем не отличается от любого другого. Я старательно поддерживала, питала и создавала иллюзию – с помощью подливки, тыквенного пирога и густого крема, как прежде делала мама, – того, что все хорошо, что жизнь устроена просто и надежно, что мужья не изменяют, что дети растут, что тело не старится, чтобы в конце концов умереть. Что земная ось проходит через кухню и гостиную, заставляя крутиться весь мир, кроме нашей семьи, застывшей в неизменном благополучии.
Утром Дня благодарения мама выглядела ужасно, поэтому старательно подкрасила лицо, словно хотела с помощью румян и теней для век создать собственную иллюзию, видимость, что все у нее хорошо, но ее внешний вид не обманул братьев, и те отказались ей подыгрывать. Вместо того чтобы отправиться к приятелям, они остались дома и целый день шатались то в кухню, то обратно, болтали про школьные дела и расспрашивали, как мы тут живем, а потом вместе с Джонатаном устроились на кушетке – смотреть футбол. К ним вскоре присоединился и отец с газетой в руках и принялся делать уничижительные замечания:
– Величайшее в США собрание будущих торговцев автомобилями с владельцами ресторанов фастфуда!
– Значит, Боб Лейвер тренирует теперь деревенских парней, – заключил Джефф. – Громадная разница!
– В теннисе есть изящество, – заметил отец, – стиль и грация.
– Это спорт королей, – кивнул Джонатан.
– Да ладно, Джо! – усмехнулся Джеффри. – Ты же любишь футбол. Единственное, что может отвлечь твои мысли от себя, любимого, так это Суперкубок.
– Еще Уимблдон, – сказал Джонатан. – И я не соглашался. Я комментировал.
– То есть вонял, – буркнул Джефф.
– Слушай, терпеть не могу это слово, – возмутился отец и, повернувшись ко мне, кивнул в сторону кухни.
– Твоя мать там?
– Нет, наверху с Брайаном.
– Эллен, не заставляй ее чувствовать себя обузой.
– А ты не внушай мне чувство вины.
Выругавшись, я начала поправлять ткань, в которую, как в саван, была обернута моя индейка. Я начала говорить о еде так же, как мама: «моя начинка», «мой сладкий картофель», «моя индейка», «мой суп из цуккини», который навсегда теперь останется «моим супом из цуккини» – с влитой в него чашкой чая.
Наверху, в своей комнате, мама сидела в большом кресле у окна, положив ноги на диван. На ней было красивое платье сливового цвета с большими медными пуговицами, которое я купила для нее в торговом центре. Увидев, что ярлычок срезан, она обрадовалась.
– Выгодная покупка! Сколько?
– Не важно, – с улыбкой, будто платье почти ничего не стоило, хотя заплатила за него семьдесят долларов, ответила я, а ярлычок срезала, потому что на нем было написано «Для будущей мамы». Моей матери теперь нужны были платья для беременных, чтобы скрыть разбухший живот.
Я поднялась наверх проведать ее. Брайан сидел рядом с диваном, скрестив ноги, с книгой на коленях, и читал вслух, но когда я вошла, быстро сунул книгу под мятое покрывало кресла.
– Что у тебя там, Брай? – спросила я. – «Тропик Рака»[16]16
Роман (1934) американского писателя Генри Миллера, получивший широкую известность благодаря откровенному и выразительному изображению секса.
[Закрыть]? Крамольный «Пейтон-Плейс»[17]17
Сборник (1956) американской писательницы Грейс Металиос, который включает роман Б. Картленд «Звезды в волосах».
[Закрыть]? «История О»[18]18
Эротический роман (1954) французской писательницы Доминик Ори на садомазохистскую тему.
[Закрыть]?
– Еще неприличнее, – ответила мама.
Брайан извлек книгу из-под кресла и протянул мне. Это оказался готический роман, на обложке которого была изображена красотка в смятых нижних юбках, страстно прижимающаяся к мускулистой груди мачо, весь наряд которого составляли брюки для верховой езды.
– Твой отец вызовет полицию, – засмеялась мама.
– Полицию нравов, – добавил Брайан. – Они все будут в твидовых пиджаках и так промоют тебе мозги, что ничего, кроме Оксфордского словаря английского языка, ты читать не станешь.
– Ах, дорогой, – рассмеялась мама, – нельзя с таким неуважением отзываться об Оксфордском словаре!
– Тебя посадят в камеру, выдадут наушники и заставят слушать, как Орсон Уэллс[19]19
Уэллс Орсон (1915–1985) – американский кинорежиссер, актер, сценарист; работал на радио, в кино.
[Закрыть] читает «Сайлес Марнер», – сказала я.
– Вот уж действительно тайна, покрытая мраком, – сказала мама. – Как может человек написать сначала «Мидлмарч», а затем такую нудятину как «Сайлес Марнер»? Она размазала кашу по тарелке, как сказал бы Джеффри.
– О-о, мам! – воскликнул Брайан. – Тип, Джордж Элиот, который написал «Сайлес Марнер», был «голубым».
Мы с мамой возопили, подняв глаза к потолку, и я назидательно проговорила:
– Господи, Брай, если папа тебя услышит, то выгонит из дому и отправит назад в Филадельфию пешком. Джордж Элиот – женщина. Это был ее литературный псевдоним, а имя – Мэри Энн Эванс.
– Ты уверена? – с сомнением спросил Брайан.
– Расслабься, милый. В политологии ты точно преуспеешь. Только смотри, чтобы тебя не слышал папа. Это да еще вот это, толкнула я книгу ногой, – его прикончит. Так и вижу заголовок в «Трибюн»: «Дурной литературный вкус убивает профессора. Подозревается сын».
Раздался стук в дверь, и когда в комнату заглянул отец, мы все рассмеялись.
– Что это с вами? – несколько обескураженно спросил отец.
– Немножко обознались, – ответила я.
Когда стол красного дерева в столовой, где красовалась горка для фарфора и стулья, некогда принадлежавшие моим деду с бабкой, был уставлен множеством блюд, мама взяла за руки Брайана и Джеффри и сказала:
– Я хочу произнести благодарственную молитву.
И мы ее произнесли, впервые за этот год:
– Благодарим Тебя за светлый мир, за пищу, что едим, за птиц, которые поют, – за все благодарим Тебя, Господь.
Когда я отпустила отцовскую руку, подняла голову и взглянула на отца, в его глазах стояли слезы.
На десерт я приготовила тыквенный пирог, и как раз разрезала его на кухне, когда вошла мама. Она выглядела усталой, почти вся помада с губ исчезла, и теперь казалось, что у нее фальшивые восковые губы, какие приклеивают на Хеллоуин.
– Эллен, мне нужна таблетка.
– Мама, ты уже выпила одну, после второго завтрака. Не могла бы немного подождать, хотя бы пока мы съедим десерт?
– Пожалуйста, Эллен, сделай так, как я прошу! – выкрикнула мама, да так громко, что в столовой тут же установилась гробовая тишина. – Не забывай, что пока это мой дом.
В ее голосе послышались нотки приближающейся вспышки гнева, и я тут же бросилась к шкафчику с лекарствами, но успела услышать как она говорит Брайану:
– А теперь я хочу знать все про твоего соседа по комнате и приличных девушек.
– А когда мы пойдем погулять, расскажешь о неприличных, – сказал Джефф.
Но Брайан гулять с нами не пошел. После того как мы выпили кофе в гостиной, и помогли маме лечь в постель, он остался с ней и сидел в темноте, прислушиваясь к ее дыханию.
– Только смотри и сам не засни, – шепотом сказала я, но брат не ответил: ясно, что он будет здесь сидеть, пока не придет отец.
Наш Брайан, ласковый и серьезный Брайан, с легкостью выиграл бы конкурс на лучшую сиделку для смертельно больной Кейт Гулден. Как-то Джефф заметил: «В нашей пищевой цепочке Эллен живет, чтобы оправдать надежды папы, а я – чтобы оправдать надежды Эллен». – «А как же я?» – жалобно спросил Брай.
«Тебе, малыш, не надо оправдывать ничьих ожиданий, – сказал Джефф. – Вам с мамой только и нужно, что вставать по утрам и присутствовать на этой планете».
Очень предсказуемо, что разоблачения начались в баре. Именно туда мы: Джонатан, Джефф и я – отправились после того, как были вымыты тарелки. Бар назывался «У Сэмми», в честь Сэмюела Лангхорна, хотя он был такой же Сэмми, как Томас Джефферсон – Томми, или Джон Адамс – Джек. Место представляло собой мрачную имитацию английского паба, с дешевыми, массового производства витражами в окнах и большой стойкой темного дерева с вырезанной на ней геральдической бессмыслицей. Бар был забит городскими ребятами, которые приехали домой на каникулы, и студентами колледжа, у которых и каникул-то не было. Джеффу пришлось пробиваться сквозь море приветственных рук и широких улыбок. Одна девица провела рукой по его облаченной в хаки ноге, от колена до бедра, и сообщила:
– Он явился меня повидать!
– Это еще кто? – спросил Джонатан.
– Некая веселая дамочка по имени Дженнифер, – сказал Джефф.
– Их всех зовут Дженнифер, – заметила я. – Во времена молодости наших мам их звали Кэти да Пэти, а лет через десять это будут Эшли или Тары.
– Злюка, – буркнул Джефф.
– Да, это мое второе имя.
– Эл, как бы ты ни притворялась, я вижу тебя насквозь.
– Имеешь в виду мою глубоко романтическую натуру?
– Нет, просто добрую девочку.
– Бога ради, вы что, комедию разыгрываете? – улыбнулся Джонатан, разглядывая Дженнифер, которая не сводила с него глаз.
– Не по полной программе, Джо, – шепнула я, когда мы уселись за стол с тяжелой полированной столешницей и дежурной круглой красной свечой, мерцавшей в центре.
Я не пила с тех пор, как вернулась домой. Это было неправильно, но принималось как данность. Как и сексуальная печать, которую я чувствовала между ног, когда предыдущей ночью чистила и стряпала в мамином доме. Я воспринимала их как необходимость держать себя в руках, быть рядом с ней: на случай кризиса, чрезвычайной ситуации. Я думала: как было бы ужасно, если бы она осталась дома одна, обреченная на страдания, пока я предавалась бы радостям жизни в спальне Джонатана, где над кроватью висели его вымпелы и награды. Что, если она позовет, а я, в алкогольном угаре, не услышу?
Однако сейчас, анализируя собственное поведение, я решила, будто обязана была отказывать себе в чувственных удовольствиях, содроганиях страсти, пьянящем глотке водки. Будто я плачу за ее боль, будто удовольствие могло ее оскорбить.
В тот вечер в баре, когда сидевший напротив Джонатан столь многообещающе улыбался, когда красноватый свет бросал янтарные отблески на его лицо, я забыла обо всем и выпила две порции пива, потом нечто под названием «Праща Сэмюела», затем фруктовый сок с какой-то мешаниной – один из тех коктейлей, которые так легко вливаются в глотку и быстро сносят голову. Моя нога под столом забралась в штанину Джонатана, в то время, как они с Джеффом болтали о футболе, обсуждали курсовые, своих преподавателей. Я оборвала Джеффа на середине фразы, ляпнув:
– Он меня просто убивает.
– Кто? – не понял Джо.
– Мой отец. Он меня просто убивает. Сидел и ждал, пока вы, ребята, уберете со стола. Не сказал мне ни слова про обед. И всегда смывается прежде, чем она успевает заснуть: говорит, что у него куча работы. Как будто мы прислуга! Как будто мы обязаны его обслуживать. Нам нужно выпить еще! – крикнула я на весь зал, махнув официантке.
– Да уж, просто необходимо, – буркнул Джефф.
– И так с самого первого дня, представляешь? Его просто нет. А я делаю буквально все.
– Твоя мать жалуется? – спросил Джонатан.
– Дело не в этом, – едва ли не выкрикнула я.
– Эл, присутствующим вовсе не обязательно быть в курсе наших дел, – сказал Джефф, и пожав плечами, взглянул на Джо. – Мама никогда ни на что не жалуется.
– Вот именно! – сказала я. – Потому что некому – его никогда нет рядом.
– Его и раньше не было, – возразил Джефф.
– Раньше она не умирала, – буркнула я.
– Каждый переживает тяжелые времена по-своему, – добавил Джо.
– Вот мы и добрались до сути, правда? – сказала я. – Когда вы, ребята, говорите, что каждый переживает тяжелые времена по-своему, это означает, что вы не переживаете вообще. Вы просто ждете, что все рассосется само собой. Вы не хотите помочь. Не хотите слушать. Не звоните. Не пишете. Это мы переживаем по-своему, разгребаем дерьмо. Мы, женщины. Мы вам готовим, наводим порядок, разгребаем дерьмо и слушаем, как вы рассуждаете о том, что переживаете по-своему. Как это – по-своему? Да никак.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































