Текст книги "Истинные ценности"
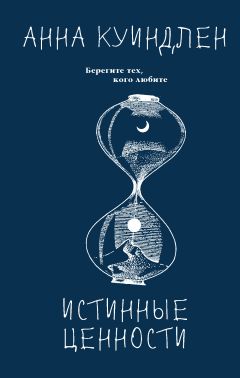
Автор книги: Анна Куиндлен
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Дженнифер у стойки смотрела в нашу сторону, как и другие посетители. Я показала им всем средний палец, и Джефф перехватил мою руку.
– Воу! Не пора ли нам отсюда убираться?
– Я не твой отец, Эллен, – заметил Джо, когда официантка принесла напитки, но взял мой стакан с подноса и поставил на свой край стола.
– Нет, Джо, разумеется, нет, – согласилась я, перегнувшись через стол, чтобы схватить стакан.
Мы тянули каждый в свою сторону, и, в конце концов, стакан перевернулся прямо ему на колени.
– Господи! – вскочил он с места, и Джефф предложил:
– Идем?
– Я готов, а Эллен и вовсе давно пора. Хочешь, мы забросим тебя домой?
– Я иду с ним, Джо, – заявила я. – У меня выдался тяжелый день, тяжелая неделя, тяжелый месяц. Это очень утомительно – быть моей матерью.
– Эллен, ты запуталась: ты совсем не такая, как твоя мать, и никогда не была такой. Вы с ней вообще небо и земля.
Я взяла свой жакет со спинки стула.
– Джо, за всю жизнь ты не говорил ничего глупее. И я ухожу.
– Я не видел тебя три месяца.
– И кто же в этом виноват?
– О господи!
– Остынь, Джо, – посоветовал Джефф. – Ты трахаешься каждый день: и вчера, и позавчера, и, наверное, в прошлую субботу.
– Эй, Джефф, моя сексуальная жизнь тебя не касается, как и ее: она большая девочка.
– Да, но не такая, как все думают.
– Если бы вы прекратили говорить обо мне так, будто меня здесь нет, то я бы предпочла пойти домой и просто лечь спать. Да, напилась, да, устала, и меня тошнит от вас всех. И я не хочу, чтобы меня везли: пройдусь пешком, чтобы побыть в одиночестве, – для разнообразия.
И я пошла домой одна сквозь холодную ноябрьскую ночь, бросив разозленного Джонатана, который переглядывался то с Джеффом, то с Дженнифер: ее намазанные блеском губы и взъерошенная челка казались мне нереальными, словно из другого мира. У меня текло из носа, глаза слезились, и я чувствовала себя усталой домохозяйкой, да и выглядела соответствующе: в свободных вельветовых брюках и хлопчатобумажном свитере. Когда я добралась до дому, мама сидела в гостиной и читала.
– Тебе не стоило меня дожидаться, – сказала я.
– У меня болит спина.
На следующее утро братья дали мне поспать подольше. Проснувшись, я услышала за окном воинственные крики, выглянула наружу и увидела, что мама под присмотром Брайана катит по улице в кресле-каталке, а Джефф занял позицию внизу, в конце небольшого уклона, чтобы там ее остановить. Глядя на нее, я вспомнила, как мы в первый раз катали Брайана на санках в парке над рекой: на мамином лице застыло такое же выражение – смесь страха и восторга.
– Вперед! – орал Джефф, широко расставив руки, чтобы ее поймать. – Давай сюда!
У меня болела голова, язык не помещался во рту. Я забралась опять под одеяло и проспала почти до полудня, а когда проснулась и спустилась вниз, мама уже спала на кушетке в гостиной, сунув ладони под щеку и укрыв ноги покрывалом. На кухонном столе лежала записка от отца: «Задерживаюсь в колледже». В большой комнате братья что-то бурно обсуждали, мне не хотелось вмешиваться, и я вышла на крыльцо, где и просидела, набросив на плечи свитер, до самого заката. Похолодало, и я вернулась в дом, чтобы сделать сандвичи с индейкой.
Джонатан не позвонил в тот вечер, а я не звонила ему, и только в субботу он сообщил, что рано утром возвращается в Кембридж: надо доделать какую-то работу, – и попросил подумать насчет следующих выходных – возможно ли провести их вместе.
– Ничего не выйдет, Джо, – сказала я.
Мы не условились ни поговорить, ни встретиться, даже не пытаясь что-либо объяснить. Никаких «я тебя люблю», «целую»… Наверное, так и должно быть, решила я тогда: вернусь к Джо, когда стану прежней Эллен.
И только много месяцев спустя я узнала, когда они оба давали показания под присягой, что он провел ночь Дня благодарения и почти все утро пятницы в отцовском доме, в постели с Дженнифер. Что ж, вполне предсказуемо и совсем не удивительно, учитывая произошедшее той зимой.
Первый этап маминой болезни стал для меня опытом детства, такого, которое могло бы у меня случиться, будь я другой девочкой, мама – другой женщиной, а необходимость угождать отцу не столь всепоглощающей. Праздничная суета, салаты на День благодарения, истории детства и замужества – теперь все это обрушивалось на меня с такой неотвратимостью, словно мама в школе здорово отстала от одноклассников и теперь выполняла дополнительные задания, словно ей выпал шанс получить такую дочь, какая могла бы у нее быть, которая, как Брайан, была бы просто счастлива сидеть у ее ног и вместе с ней смеяться.
Стоило маме начать пользоваться креслом-каталкой, и наши отношения перевернулись с ног на голову: теперь она была ребенком, а я – матерью. Ей было трудно самой передвигаться по дому: дверные проемы оказались слишком узкими, стали преградой и ковры. Возможно, поэтому она так упорно сопротивлялась. И хотя я придвинула мебель поближе к стенам, пришлось свернуть и старинные восточные ковры, а ей было сейчас нужно видеть вокруг себя красивую и знакомую обстановку.
Однажды она задумала отправиться в город пешком («и на колесах»), чтобы купить три новые книги в магазине Дуайнов. Мама надела голубой жакет, который всегда так замечательно на ней сидел: элегантный и облегающий, он скрывал и ее худобу, и впалую, как у птенца, грудную клетку.
– Как насчет косметики? – спросила я. – Просто на тот случай, если мы кого-нибудь встретим.
– Мне кажется, твой отец никоим образом не предусматривал, что ты сделаешь карьеру косметолога.
– А почему нет? Я могла бы подвизаться на этой ниве в «Трибюн».
Мама любила говорить, что каждое объявление о помолвке в местной газете – непременно о косметичке, которая выходит замуж за некоего сотрудника строительной компании. Отец жутко злился, когда она зачитывала эти объявления вслух, и совсем уже слетал с катушек, когда читала про свадьбы: обо всех подробностях вроде умопомрачительно низкой посадке талии, рукавах епископа и тюлевом водопаде, обрушивался с головы какой-нибудь невесты.
– Ах, Элли, ты упоминалась в «Трибюн» чаще всех за исключением Эда Беста и мэра. Иди наверх, загляни в мой альбом с вырезками. Состязание по орфографии, конкурс сочинений, твоя речь на торжестве в честь окончания школы… Ты всегда в «Трибюн».
– А ты что, ведешь учет?
– Конечно, почему бы нет? А теперь вперед – сделай мне легкий макияж, не увлекайся.
Задача оказалась труднее, чем я предполагала. Когда я нанесла основу, румяна и тушь и подчеркнула карандашом линию ресниц, то мама стала похожа на ту, что я рисовала, когда мне было лет пять: круглые красные пятна на щеках и черные ресницы как растопыренные паучьи лапы. Я не достигла эффекта, которого добивалась: иллюзия, что Кейт Гулден ничуть не изменилась, оказалась недостижимой.
– Очень трудно накрасить кого-то другого, – попыталась я объяснить неудачу.
Мама наклонилась к зеркалу на комоде в коридоре.
– Ты никогда раньше не делала макияж рыжеволосой, вот в чем проблема.
Она взяла маленькую губку из косметички, которую я держала в руках, и принялась оттирать лицо.
– Так гораздо лучше, – заметила я.
– Твоя карьера косметолога закончилась, не успев начаться, – заключила мама.
– Зато ни один из них не пишет так, как я.
– Да, ты выдающийся писатель, – сказала мама, и я застегнула ее жакет и натянула на голову берет.
С изможденным бледным лицом она смахивала на стареющую модель, хотя всегда была хорошенькой. В отличие от многих женщин, которые на свадебных фотографиях напоминают скорее своих дочерей, чем самих себя, мама сумела сохранить и свежесть лица, и яркость глаз.
Я надела свой пушистый жакет и покатила кресло-каталку вниз по ступенькам крыльца: «клик-клик-клик» (эту манеру я подсмотрела в городе у мамочек с колясками). Мама осторожно и медленно спустилась с крыльца и села в кресло.
– Наверное, это глупо, но мне ужасно хочется выйти из дому, – сказала она. – А то чувствую себя затворницей. Да и ты тоже: никуда ведь не выходила с тех пор, как твои братья уехали после Дня благодарения.
Мы двинулись по улице – медленно, потому что я боялась, что не смогу удержать кресло на спуске, а еще потому, что (насколько я могла судить, глядя, как мама вертит головой по сторонам) она внимательно смотрела на окружающий мир, словно туристка в собственном квартале.
– Надо же: Джексоны уже поставили елку в гостиной! А Джеки Белнап надо бы укрыть чем-нибудь вон те розы, иначе погибнут, если ударят ранние морозы. И зачем это Бесты перекрасили дом? Белым он был так красив.
Казалось, она схватывала взглядом все, что только мог ей предложить тот день, все без исключения, каждую незначительную и восхитительную подробность, все до последней.
У подножия холма мы свернули на Мейн-стрит сразу за «зеленой площадкой». Цветов, которые высаживались вокруг флагштока, сейчас не было. Двенадцать больших елей стояли сами по себе, и размах их ветвей, как ангельские крылья, радовал глаз.
– Они так и не запомнили, что делать, когда астры уже отцветают, а елки наряжать еще рано, – заметила мама. – В первый год, как только мы сюда приехали, тут была одна новенькая, жена проректора, кажется, которая пожертвовала двенадцать пуансеттий. И рабочие высадили их все, не задаваясь вопросами. И никто, похоже, не знал, что пуансеттии, «рождественские звезды», растения тропические, и в холодном климате их следует держать в помещении. На следующее утро мы увидели печальнейшее из зрелищ. Все растения полегли, как воины на поле боя. Вернувшись домой, твой отец сказал, что это поучительная история, а я сказала, что знала, чем все кончится, с самого начала, как только они их посадили. Но поскольку мы только сюда переехали, я не знала, кого предупредить, и промолчала. Твой отец гордился, что у него такая умная жена, и на каждом рождественском обеде рассказывал эту историю, но с каждым годом я у него становилась особой все более хитрой и коварной. Да, история вышла замечательная, только вот жена проректора потом многие годы держалась со мной очень сухо.
В тот день было очень холодно, но мы все равно останавливались не меньше десяти раз, чтобы мама могла поговорить со знакомыми. Было трудно перетаскивать коляску через бордюр и толкать по неровному тротуару, и временами она выражала нетерпение. Потом ей захотелось зайти в обувной магазин, и мне пришлось повозиться у входа: придерживая дверь бедром, маневрируя креслом с его большими колесами, резиновые покрышки которых отказывались преодолевать ребристый коврик на полу возле двери.
– В точности как та чертова коляска, что я купила, когда родился Брайан, – заметила мама. – Я пыхтела, пытаясь протиснуть ее в дверь, кричала тебе вдогонку, чтобы вернуть, но ты была уже далеко на улице.
Она взялась за поручни, встала и вошла внутрь, а я вернулась на улицу поставить кресло-каталку на тормоз и понаблюдала за ней сквозь витрину. Вот она склонилась над лоферами с кисточками, потом – над крепкими прогулочными ботинками, поговорила с продавщицей, затем села. Встав на цыпочки, я видела, как она сняла туфли на плоской подошве, собираясь что-то примерить, но тут меня отвлекли:
– Эллен?
Я обернулась и увидела миссис Форбург, мою учительницу по английскому, с кучей коробок в руках.
В парке и серых брюках она выглядела как десятилетняя девочка, вот только кожа ее была как у сушеного яблока и волосы совсем седые, что делало ее старухой.
– Твоя мама там? – кивнула она в сторону двери.
– Да, выбирает туфли. Вот уже не думала, что они ей нужны.
– Разве женщины только за этим ходят в магазин? – сказала миссис Форбург, разглядывая собственные серые туфли на шнурках. – Покупка новой обуви всегда возвышает нас в собственных глазах, дает ощущение, что многое еще впереди. – Нагнувшись над креслом, она погладила меня по руке. – Ты получила мое письмо?
– Да-да, получила, но была так занята, что не выбрала времени вам позвонить. Джефф и Брайан приезжали домой на День благодарения, и пришлось помочь маме: мы сейчас делаем все вместе, – ну, вы понимаете…
– Это тебя ни к чему не обязывает. Просто я хотела, чтобы ты знала: я всегда буду рада помочь и за спагетти выслушать, что тебя заботит.
Над дверью обувного магазина раздался веселый перезвон колокольчиков, и появилась мама с сумкой в руке.
– Вот купила новые лоферы, красивые! – объявила она, тяжело опускаясь в кресло. – О, миссис Форбург!
– Рада вас видеть, миссис Гулден.
Мама извлекла из сумки коробку и достала туфли: цветной выделанной кожи, украшенные кисточками, – продемонстрировав мне, что ее черные лодочки на плоской подошве несколько сносились на пятках. В общем, разыграла настоящее представление, но по глазам миссис Форбург я поняла, что ее это не обмануло. Это был тот же самый взгляд, которым она одарила меня однажды, возвращая проверенное сочинение с оценкой всего-навсего «В». В сочинении я разносила Шарлотту Бронте[20]20
Бронте Шарлотта (псевд. Каррер Белл) (1816–1855) – английская писательница, мастер социально-психологического романа.
[Закрыть], основываясь исключительно на суждениях отца. «В следующий раз, Эллен, только собственные мысли», – спокойно сказала она мне, но это отнюдь не прозвучало как упрек. Сочувствие в серых глазах, особый тон голоса был тот же самый, что и сейчас: она умела зрить в корень, эта миссис Форбург. Она была не только моей любимой учительницей, но и обоих моих братьев, хотя ни тот ни другой не испытывали такого благоговения перед английской литературой, как я. Миссис Форбург искусно руководила мной в художественной литературе и поэзии, аккуратно редактировала мои стихи – хорошие, но не совсем прочувствованные, и в выпускном классе заставила меня вести дневник. Думаю, однако, она понимала, что получает прилизанную версию моей жизни.
– Она для меня по-прежнему лучший преподаватель английской литературы, – сказала я однажды вечером, вернувшись домой во время моего последнего года в университете.
– В таком случае ты посещаешь не те курсы в Гарварде, – сухо отозвался отец.
Я была шокирована так, что не нашлась что возразить.
– Ты просто ревнуешь, Джен, – спокойно заметила мама.
– Ревную? Что ты хочешь этим сказать?
– Вовсе не обязательно, чтобы у Эллен был один-единственный преподаватель, – ответила мама, не глядя на него.
Раздался резкий звук – это отец, вставая, оттолкнул стул:
– Ты неправильно судишь обо мне, Кэтрин!
На улице перед обувным магазином мама улыбнулась миссис Форбург и взяла ее за руку, собираясь распрощаться, но та сказала:
– Миссис Гулден, я бы хотела пригласить Эллен к обеду. Скажите, это не сильно осложнит вашу жизнь?
– Нет, никоим образом! Она же безвылазно торчит дома и становится довольно сварливой, хотя сама не признает этого. Я непременно прослежу, чтобы она позвонила вам и вы могли назначить день.
И мы, распрощавшись с миссис Форбург, покатили вниз по улице.
– Я не знала, что тебе нужны туфли, – сказала я.
– Они мне и не нужны, – ответила мама.
День выдался хлопотным, и мы сделали остановку у Фелпса. Хозяин магазина встретил маму с объятиями, но в глазах у него блестели слезы.
– Только не вздумайте разрыдаться, – предупредила мама, сияя улыбкой, и тогда он дал ей телефон одной юной мамаши, которая заходила к нему спросить, как лучше нанести цветочный трафарет на детскую кроватку.
– Я хотел, чтобы вы ей что-нибудь посоветовали, но не знал, как вы к этому отнесетесь, – сказал мистер Фелпс.
– Я ей позвоню, как только доберусь до дому, – пообещала мама.
В книжном магазине к нам вышли оба супруга, чтобы решить, что нам следует читать дальше, и я заметила, как миссис Дуайн бросила в нашу сумку готический роман, на обложке которого была изображена страдальческого вида девица в кринолине. Подошли жены двух преподавателей с нашего факультета, чтобы сделать маме комплимент по поводу ее внешнего вида, и она наклонилась в своем кресле, чтобы посюсюкать с их детьми, едва начинавшими ходить карапузами. Долговязая девочка лет восьми-девяти смотрела на нее во все глаза, наверняка вспоминая, как родители шептались на кухне: «Кейт Гулден… такая молодая… подумать только». Одна из дам, что жила в нескольких кварталах от нас, заговорила о гомеопатии и лекарственных травах, но мама с улыбкой прервала ее:
– Не сейчас, Фрэнсис.
Потом мы вышли на улицу, купили по рожку мороженого, и я покатила кресло домой, толкая одной рукой, потому что во второй было мороженое и с удовольствием его лизала.
– Хорошо, что ты принарядилась, – заметила я. – Мне казалось, что я вместе с Джимми Стюартом в конце «Этой замечательной жизни».
– Это они из жалости, – сказала мама.
– Да ладно тебе: все и не так вовсе. Они действительно были рады тебя видеть, потому что любят.
– Знаю, но поняли это они только сегодня.
– Ужасно!
– Ты не можешь их судить, Эллен: все люди разные и любят по-разному – то обнимают и целуют, то еще что-то делают, а бывает, что ничего не чувствуют. Так уж они устроены.
– Как кто, например? – спросила я, затаив дыхание.
– Твоя бабушка была такой. В детстве она жила в ужасной бедности, юность тоже была трудной, и я так и не поняла, каким образом она сумела выйти замуж за твоего деда. Их союз вряд ли можно было назвать браком по любви. И я думаю, что какая-то часть ее души корчилась и умирала оттого, что ей не нашлось применения, что она не смогла развиться. Если она и сумела кого-то полюбить, так это моего брата, но вместо сына у нее остался сложенный треугольником флаг, который она так и не развернула, и оттиск его имени, высеченного на вьетнамском мемориале, который прислал ей один из племянников, после того как побывал в Вашингтоне.
Я повернула кресло на мощенную известняком дорожку, ведущую к крыльцу нашего дома. Мы никогда здесь не ходили: предпочитали попадать в дом через кухню, – но там было шесть ступенек, а здесь только три, и к тому же низкий порожек в коридор.
– Скоро надо будет украшать дом, – сказала мама, когда я, обойдя кресло, помогла ей встать.
Она подняла руки, чтобы ухватиться за меня, я обняла ее, и мне показалось, что ее тело превратилось в невесомый мешок костей, а ребра под моими ладонями напоминали какой-то хрупкий музыкальный инструмент.
– Спасибо, Элли.
– Тебе нужна таблетка?
– Я возьму сама, и знаешь что…
– Да? – отозвалась я, толкая кресло вверх по ступенькам.
– Позвони миссис Форбург и непременно сходи к ней на обед.
Мама медленно двинулась на кухню, держась рукой за стену – пальцы, как маленькие паучки, выглядели желто-белыми на фоне обоев, – и могло показаться, что она не только хромает, но еще и ослепла.
Некоторое время я лежала, вытянувшись на кушетке, а потом все же заснула, потому что устала почти так же, как мама, а когда пробудилась, сквозь шторы гостиной пробивались янтарные огни уличных фонарей. По звукам, доносившимся с кухни, я поняла, что мама там, и мысленным взором увидела ее за дубовым столом: округлые плечи, розовая чистая кожа, безмятежный взгляд – все как было всего полгода назад.
– Главное, что вам следует помнить, – услышала я ее назидательный голос, тот самый, который когда-то выговаривал мне: «Ты не будешь играть в этом платье во дворе у Бакли», – прежде чем начнете красить, вы должны стряхнуть краску с кисти. Кисть должна быть практически сухой.
Потом:
– Это точно девочка? О-о, просто чудесно! У меня одна дочь, и вы себе не представляете… двадцать четыре… да, она… да, и я тоже… о-о, я знаю, но к этому привыкаешь… что ж, вот и прекрасно. Какой рисунок вы выбрали?
Та самая молодая мамаша, которая не знала, как расписать детскую кроватку. Ну разумеется. Я смотрела на уличный фонарь, и мне казалось, что вижу, как падают снежинки, подсвеченные его мягким сиянием. Миссис Белнап должна поторопиться со своими розами, а Элли Гулден следовало натереть мазью полозья санок, которые по-прежнему хранились в гараже, рядом с санками Джеффа и Брайана Гулденов, и на поперечной планке было написано красными буквами ее имя.
Все санки подписала Кейт Гулден. Отец никогда не ходил с нами ни на горку, ни в парк: колледж не предусматривал «снежных дней» – выкатываешься из постели, и сразу в класс. У преподавателя, который мечтал возглавить кафедру, не было выходных, как не было их и потом, когда он ее возглавил.
Зато я видела маму: вот она стоит под горкой, где была яма, а за ней колдобина, шапка надвинута глубоко, так что видны только глаза, нос да рот и кричит на нас: «Не так быстро! Помедленней. Господи, Джеффри, у меня будет разрыв сердца». Вся жизнь как серия живописных полотен; проживая ее, мы так много упускали, так много скрывали, столько оставляли несделанным и несказанным. Однажды на этой горке Джефф сломал руку, и мама взяла темперу и нарисовала во всю длину гипсовой повязки солдатика, чтобы ему было не так страшно.
Хлопнула задняя дверь, вернув меня в реальность. Пришел отец, и мама воскликнула:
– Джордж! Так рано?
Почти как в тот день, когда я впервые вернулась домой. «Элли! Ты дома?»
– Выйди на улицу, – услышала я его тихий голос.
– А что там такое?
– Пошел снег.
Потом открылась и захлопнулась со щелчком дверь кухни, а я пошла наверх, спать, и больше уже ничего не слышала. Утром никакого снега уже не было: он остался только в маминой памяти.
– Я поймала снежинку языком, – сказала мама за завтраком, будто ненароком положив ладонь на руку отца. – Было очень красиво.
– Да, – улыбнулся он ей в ответ.
Однажды я где-то прочла: «Никто не знает, что происходит внутри брака». Афоризм заканчивался так: «…за исключением тех двоих, что в нем живут». Однако подозреваю, что это неправда, что даже те двое, что женаты много-много лет, приобретают лишь поверхностное сходство своих восприятий и ожиданий. Кажется, еще я где-то читала, что социологи, опросив множество пар, обнаружили что супруги многое видят по-разному, начиная от любимого десерта своей второй половины до позиции, которую та предпочитает в сексе.
Иногда я чувствую собственную ограниченность, потому что слишком многое приходится додумывать, исходя из того, что я читала в книгах или научных статьях, но по личному опыту знаю, что меньше всего способны видеть в истинном свете брак дети, которые в этом браке рождаются. Мы лепим их такими, как нам нужно, чтобы оправдать собственные ошибки, чтобы защитить себя от собственной смертной природы, которая не допускает исключений. Помню, какое огромное облегчение испытала, когда впервые прочла про эдипов комплекс: оказывается, треугольник, в котором я оказалась, явление в общем-то типичное, – а потому в ту зиму, день за днем наблюдая за родителями, не могла с уверенностью сказать, меняются ли их отношения или действительно вижу их впервые в жизни.
Однажды в начале декабря отец пригласил меня пообедать в ресторан, который находился в нескольких милях от кампуса. Это было несколько претенциозное заведение с тусклым светом, достаточно удаленное, чтобы устраивать тайные свидания.
– Часто сюда ходишь? – спросила я, когда официант принес напитки и отправил нас к салатной стойке.
– Чаще всего у меня нет времени на обед, так что ем прямо на рабочем месте, за письменным столом.
– Я польщена.
– Эллен, я пригласил тебя сюда, чтобы прояснить ряд вопросов, и в первую очередь намерен узнать, почему ты так враждебно настроена. Понимаю: нам обоим сейчас нелегко, – однако, мне кажется, вы с мамой отлично справляетесь. Так почему же, приходя домой, я каждый раз встречаю такой холодный прием?
– Ты о чем?
– Господи! – воскликнул он. – У нас же не публичная дискуссия. Ты отлично знаешь, о чем речь. Тебе нужна помощь? Может, нанять приходящую сиделку?
– Когда у меня была ветрянка, мама сама за мной ухаживала.
– Это не ветрянка, так что ограничь свой сарказм этой фразой. Хочешь салат?
– Нет, если это кочанный салат и консервированный нут.
– Это оно и есть.
Официант принял наш заказ, и воцарилось долгое молчание, нарушаемое только грохотом роняемых на кухне – то ли в припадке злости, то ли по причине невероятной неуклюжести – кастрюль и сковородок. Брат одного из членов попечительского совета остановился у нашего столика поздороваться, а когда отошел, я сказала:
– Послушай, папа, я не хочу с тобой воевать. У меня жуткий стресс, и мне ничего больше от тебя не нужно. Я просто преодолеваю все это, день за днем.
– Я отлично понимаю, Эллен, но понимаю и другое: каждый раз, когда речь заходит о происходящем, мы говорим о тебе: что ты чувствуешь, как ты несчастна. Полагаю, пришла пора поговорить о твоей маме. От тебя требуется немного сочувствия.
– Это как раз то, чему я так и не научилась, – заметила я. – Ты никогда не учил меня сочувствию.
– Так научись сейчас! – сказал он тоном, не допускающим возражений.
– А ты? Где твое сочувствие?
– Я уже говорил тебе…
– Не желаю ничего слышать! – не дала я ему договорить. – Колледж предоставил бы тебе отпуск в любое время, только заикнись. Ты брал творческие отпуска, чтобы писать книги, так что вполне можешь взять еще один ради того, чтобы принять участие в самом важном событии, которое может случиться в твоей жизни, черт возьми!
– Говори тише.
– К черту, папа! Это я веду себя достойно, по твоему же собственному выражению, а вот ты как раз нет. Ей нужно, чтобы ты был рядом.
– Она тебе это сказала?
– Ей не нужно говорить об этом мне, как не должна она говорить и тебе. Вчера она двадцать минут сидела с этим чертовым рождественским венком на коленях, пока я не повесила его на входную дверь, не выпуская его из рук, будто слепая, будто смысл жизни заключался в сосновых шишках, которые она прикрутила к венку проволокой. Я спросила, нужна ли ей помощь, а она только и сказала: «Красиво, правда?» Иногда она идет к себе, будто бы спать, а сама перебирает все это барахло в коробках: ленточки да картинки, которые мы рисовали сто лет назад, старые газеты тех времен, когда она заканчивала школу. Сидит и смотрит на них, просто смотрит. Почему она сидит одна и смотрит на картинки, сочиняет воспоминания о вашей совместной жизни, если может по-настоящему вспоминать вместе с тобой? Все в нашем доме изменилось, потому что я учусь сочувствовать, а она ждет смерти, но ты не в курсе ни того ни другого, потому что ведешь себя так, будто ничего не случилось и жизнь идет своим чередом. Жизни, такой, как мы ее знали, больше нет. Конец. Финиш.
Отец поглощал полусырой стейк, не глядя на меня, потом спросил:
– Ты даешь ей морфий?
– Да, и буду увеличивать и увеличивать дозу. Если таблетки окажутся неэффективными, я могу установить маленькую помпу, чтобы вводить препарат прямо в катетер, который ей вставили в грудь. Но я не ты: я не могу справиться с болью, которая у нее в голове. Она просто идет со мной рядом. Она все еще думает, что должна меня защищать, успокаивать или что там еще. Ты ее муж. Ей нужно говорить с тобой.
Он смотрел в тарелку и сооружал из еды некий натюрморт: сухой ломтик белесой печеной картошки, красный клин мяса, еще один и еще, – как будто играл в шахматы с собственным обедом. Работая ножом и вилкой, выкладывая из еды загадочные узоры, он тихо заговорил (теперь он не сможет есть, пока не выговорится):
– Иногда я вспоминаю, как впервые увидел ее в университете и какой она была. Такая энергичная, будто хотела увидеть, понять и узнать все на свете, но не так, как студенты, которые раскладывают по полочкам, залезают внутрь и постепенно забывают за ненужностью или оставляют про запас. У нее было стремление… – Он перестал резать мясо, подыскивая нужное слово в спертом и мутном воздухе над нашим столиком. – …жажда впитать в себя. И это было очень живое, все равно что потрогать ее щеку и убедиться, что она теплая. Да, такой она была. И такой осталась. Почти не изменилась за все эти годы. В ней еще живо это чувство – ненасытность. Иногда я думаю, куда все это денется. Не верится, что просто исчезнет, будто выключат свет. Литература описывает это как великую тайну смерти, смертной природы, но мне теперь кажется, что они упускают самое главное.
Он взглянул на меня, и вилка застыла в воздухе, как оружие или сигнал к капитуляции.
– Я не могу представить себе погасший свет.
– Ты говоришь о ней так, будто она уже умерла, – сказала я.
– Я знаю ее столько лет, – сказал он, и взгляд его был как у больного животного.
– А я всю жизнь.
– Да, – кивнул отец. – Наверное, для вас, детей, это еще большая несправедливость, однако ваша жизнь продолжится. А мне трудно представить, как я буду жить без нее.
И он начал есть: медленно, но с удовольствием, – будто покончив с неким весьма утомительным заданием, а закончив, поднял голову, сардонически вскинув брови, опять становясь самим собой, и заявил:
– Хватит монологов! Собственно, я вот о чем: мне невыносима сама мысль, что она испытывает сильные боли. Часто она не спит по ночам и мучается.
Вздохнув, я сказала то, что он хотел услышать:
– Я могу об этом позаботиться.
– Ну а я постараюсь сделать так, чтобы у нее появилась возможность выговориться.
– Папа, речь идет не о возможности выговориться: если бы ей нужно было только это, я просто повезла бы ее к этому психиатру, которого рекомендовала доктор Кон. Ей нужно, чтобы рядом был ты, чтобы слушал ее, чтобы сумел убедить, что это в порядке вещей – говорить с тобой, доверять тебе и облегчать свою душу. Скажи ей что-нибудь из того, что говорил сегодня мне.
– Но она все это знает.
– Иногда приходится повторять одно и то же несколько раз, пока тебе не поверят.
Принесли кофе, горький и чуть теплый. Секретарша с кафедры английской литературы склонилась над нашим столиком и сообщила, как мне здорово повезло с родителями: они у меня такие замечательные, – потом подмигнула отцу и махнула рукой, скрываясь в полумраке ресторана. Уж не спала ли она с ним?
Сырный пирог на вкус оказался точно приторная шпаклевка, да еще и кофе пролила на свитер. К счастью, месяц назад мама научила меня выводить пятна от кофе с помощью обыкновенной соды.
– Полагаю, нам нужно решить, как организовать похороны, – сказал отец.
– Папа, ты забегаешь вперед, как всегда.
Я пошла в туалет, а когда вернулась, он мирно допивал свой кофе и разговаривал с братом члена попечительского совета. Я вспомнила, что мне нужно купить гирлянду из лампочек дневного света, чтобы развесить на кустах азалии возле нашего крыльца, а еще молоко и очиститель для унитаза, поэтому попрощалась и отправилась в торговый центр, а затем в супермаркет.
Когда я вернулась домой, мама спала на кушетке в гостиной: рот открыт, ресницы трепещут, как будто кто-то ее во сне преследует. На кухне усевшись за стол, на котором валялись записки, я выбросила ту, что про лампочки для кустов, трафареты с изображением цветов и лошади-качалки, позвонила в офис доктора Кон. Медсестра сказала, что они пришлют новый рецепт, но через пять минут, когда я все еще разбирала записки («Купить рождественские подарки для Дж. и Б.», – гласила одна из них), телефон зазвонил.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































