Текст книги "Портрет неизвестного с камергерским ключом"
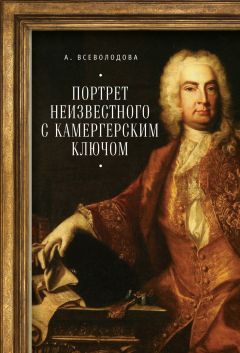
Автор книги: Анна Всеволодова
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
На светлой неделе Фрол с сестрою свиделись наконец с Елизаветой Алексеевной. Свидание вышло радостным. Не только весёлый вид детей и здоровье их делали счастье матери, казалось и вся природа вторила за сердцем её. Вокруг родного крыльца гуляющие курицы уже выклёвывали из тёплой почвы, не вполне ещё пробуждённых после долгого покою, лакомых жителей подземных. Тропинка, по которой Налли с Фролом более года назад пробирались к реке, чтобы встретить поезд казанского губернатора и судьбу свою, поросла мать-и-мачехой и, совсем просохшая, словно приглашала вновь увлечься по ней следовать. С сельской колокольни то и дело слышался нестройный звон, устроенный всяким желающим оповестить о празднике.
После христосования с немногочисленной дворней семья Кущиных села за пасхальный обед.
– Не придумаю теперь чем потчевать дорогих гостей, – восклицала Елизавета Алексеевна, – верно, после столичных кушаний свои за неволю станут.
– Родному пирогу как не раду быть, – возразил Фрол.
– Правда, что живём не по-княжески, да на наш век станет. Учись, Налли, доброй хозяйкою быть, не век же в девицах сидеть, осенью двадцать первый год пойдёт, пора своё гнездо вить. Благо, ты, голубка моя, совсем теперь здорова, даже будто платье узко стало. Зачем, ты Фрол сестру привёз в том же платье, в каком год назад увозил? Не стыдно ли ей себя столь просто держать? Пишешь, будто нужды ни в чём нет, а сам сестру на выданье наряжать не усердствуешь. Куда это годится?
– Матушка, Фрол тут ни в чём не повинен, – едва удерживаясь от смеха, отвечала Налли, – я за особливую честь почитаю сестрою господину секретарю приходится, и с своей стороны стараюсь иметь плезирный всегда вид. Платьев к тому пошито не мало, а столько, что вполне званию брата достойно. Только для дороги я их пожалела, в том винюсь. На паре тащились и измызгались порядном.
– «На паре тащились!» – ах ты столичная персона, – засмеялась Елизавета Алексеевна, – Теперь со спокойной душою, не как в другой раз, тебя провожу. Вижу, сколь много пустого о вреде Петербургского воздуха люди говорят, тебе он стал за настойку.
– Всё милостью господина Волынского, – вставил Фрол, – шлёт ей со стола шоколаду по три чашки на дню, оттого и платье узко стало. «Фрол, – говорит, – развяжи нас Бог бледные да больные лица кругом себя видеть. То в грех себе вменю, коли мои люди и ближние их в болезни пребывают, а николи же от меня нет им полезного».
– Разве Налли так плоха была, что на глаза господина Волынского, совсем больна?
– Только с дороги, как до Петербурга добрались, – успокоил мать Фрол, приметя знаки, подаваемые сестрою.
– Я должна благодарить в том тебя, любезный сын! Но похвались же своею службою, поведай обо всем с тобою произошедшим. Я ведь, из-под надзора тебя отпустила, ото души своей, не за привычку, а впервые. К тому же я по сию пору у господина Волынского – «в передней». Льщусь, о дурачестве твоём, господину Волынскому, ничего не ведомо и видит в тебе душу образовану, как благородному дворянину надлежит иметь?
– Разве же я в самом деле не таков?
– Хоть вы любопытны, матушка, оставьте же братцу прежде покушать, – просила Налли, когда Фрол, в свою очередь сделал ей отчаянный взоры, – а коли непременно безотлагательно новостей о нём желаете, позвольте мне пересказать. Ведь между мною с братцем никакой тайности нет.
– Что за нрав, вечно вперёд других ты сыщешься! И против прежнего, на мои глаза, ещё смелее сделалась, всё не спросясь меня, всё бы скорее и враз. Не дева, а штаб-офицер. Расскажи, коли брата упредить ищешь, чему научился он в дому генеральском?
– Весьма многому, матушка. Ибо с сыном его латинский и немецкий языки изучал и геометрию.
– Много чести, но я этого не понимаю. Скажи же мне, Фрол из латинского что-нибудь.
– А то ещё, – поспешно продолжила Налли, уловив на себе грозный взгляд брата, – за не новость братцу расчисление законодательное, что есть вопрос о суде, о том где и когда бывали такие законы, чтобы частного человека от несчастия уберегали, а целые народы – от унижения и упадка. Ему случалось о том с первыми персонами говорить, но, более, конечно, слушать их, и он почитает сие за большую пользу.
– Пожалуй, я готова уже согласиться с тобою сын, что господин Волынской не знает о твоём дурачестве. Ты в самом деле за пользу почитаешь себе слушать, поселить в голову и сердце, рассуждения о ревностной службе гражданской?
– И за великое удовольствие и приятность, любезная матушка, – отвечал Фрол, уписывая пироги.
– А чтоб вам, матушка, выйти из «передней» в другие покои, скажу, что в доме господина Волынского, и особенно – в любимой им московской усадьбе – вполне всё просто и сообразно с нравом хозяина. Люди все в доме честны, сердечны и строгих правил в подражание ему. Главные доверенные лица его – управляющие Филипп Борге и Андрей Курочкин. Им он доверяет не имение только, но и несоизмеримо более ценное для сердца богатство – детей своих. Пишет к ним: «Бога ради, поступайте с детьми совестно. Пусть в селе подмосковном на детских лошадках резвятся сколько пожелают, но чтоб не во вред учению. К тому принуждайте без строгости, но с учтивостью, умейте без печали им, при помощи Зейгера и других наставников, доставить юному уму всё потребное для достоинства и добродетели. А если лениться станут – мною стращайте». Только, матушка, молодые Волынские вовсе не страшливы, ибо знают, как сильно отцом любимы, и как малейшая их печаль его огорчает. Он зовет их «любимые мои Amis». Петровским постом просил он старшую дочь кушать скоромное, потому что она была в то время нездоровою. Анна Артемьевна, в подражание отцу, строга бывает в благочестивых правилах, и оттого приказ сей был ей несносен. Если б вы слышали, матушка, какими нежными упреками дочь уговаривала отца его отменить, а он ее – оному следовать.
Вы изумитесь, матушка, когда я скажу вам что на учение детей отец их тратит более 2000 рублей в год, и ещё собирается к тому приложить, ибо имеет непременное желание видеть дочерей своих искусными в живописи. Он сам выбирает и шлёт им карандаши и краски. Анна Артемьевна, в свою очередь, радует его, не только тушеванием гравюр и разучением фуг, но, когда отец в отъезде бывает, изготавливает собственными руками варенья и маринады, чтобы прислать к нему. Привязанность более крепкую, чем существует между ними, трудно вообразить. Мне кажется, Марья Артемьевна не менее старшей сестрицы любит родителя, но при том, столь же сильно его робеет, и потому может показаться сдержаннее в своем чувстве. Разумеется, главное упование свое Артемий Петрович полагает в сыне. По этой причине, Петр Артемьевич, несмотря на свой самый юный возраст, вдвое против сестриц отягощен учением, которое дается ему легко и с приятностью.
Живя в Вороново, дети господина Волынского часами гуляют пешие и конные, танцуют с учителями и бывают заняты всякими потешками – и всё на воздухе. Меры эти, принятые отцом их, который кажется ничего столько в сем свете не чает, как здравия им и всякой пользы, вполне достаточны лишь для Марии Артемьевны. Что до старшей дочери и, особенно – сына, то они не всегда здоровы бывают, и тем делают отцу их много печали. А что, до повседневных обычаев Фрола, то встаёт он в седьмом часу и идёт к должности. В дому господина Волынского до обеду пишет, что старший секретарь укажет, обедает вместе с хозяином, если тот в доме, и снова или пишет или другие поручения исполняет. Он в первое знакомство очень сдружился с господином де ля Судой – секретарём иностранной коллегии. Де Форс также ему большой приятель, рад встретить в дому сына своего отечества, и зовёт его попросту Жаном. Хотел бы братец сойтись короче и с другим секретарём и адъютантом господина Волынского – господином Родионовым, ибо нашёл в нем человека умного, честного, безукоризненных правил. Он служил вместе с господином своим в войне с великою похвалою, он враг праздности и всего излишнего и порочного, он легко может стать наставником отроку самой благородной крови, от него нельзя услыхать не грубости, ни лести. Одним словом, сей Родионов истинный есть Ментор.
– Кто сей Ментор, сын?
– Генерал, как и господин Волынской. Почтенный кавалер.
– Князь, должно быть?
– Кажется, князь, матушка, – отвечал, после некоторого колебания, Фрол.
– Родиться князем мудрено. Ещё мудренее сделаться полезным отечеству и сиять качествами, какими Налли представила господина Ментора. Служи усердно сим благородным господам, и не будешь несчастлив.
– Служу изрядно и без пороку, матушка.
– Хозяин всегда ли хорош с тобой? Каково встретил светлый праздник?
– Всегда, матушка, – отвечал Фрол, налегая на свиную голову.
– Светлый праздник! – в восторге повторила Налли. – Ах, матушка, что это был за день! Сколько много радости имел Фрол! После пасхальной заутрени он христосовался со своим патроном и развлекал его декламациями из сонетов Донна. Хотите послушать их?
«С углов Земли, хотя она кругла
Трубите ангелы! Восстань из мглы
Душ неисчислимый стан!
Спешите души в прежние тела,
Кто утонул, и кто сгорел дотла,
Кого война, суд, голод, мор, тиран убил
Кто Богом осиян
Кого вовек не скроет смерти тлен!
Пусть спят они,
Мне ж горше всех рыдать
Дай Боже над виной моей кромешной.
Там поздно уповать на благодать,
Благоволи ж меня в сей жизни грешной
Раскаянью всечастно поучать
Ведь кровь Твоя – прощения печать».
– Или из Герберта «Пасхальные крылья». Артемию Петровичу нравится Герберт.
«Я с той поры как на земле возник
Одних постыдных дел алкал
Но Ты меня казнил за них
И я от кар сиих поник
Теперь, с Тобой слиясь, хочу
Петь подвиг Твой,
Мое крыло с Твоим сращу
Пусть скорбь моя рождает взлет крыла!»
И еще Герберта же – «ода в ответ на вопрос может ли любовь длиться вечно»:
«Нет, и в заоблачном пути любовь не ведает утрат.
Где добродетели царят
Сей дар тем более в чести.
Вновь очи встретятся с очами,
Вновь будут руки сплетены,
И счастье нынешней весны там навсегда пребудет
с нами».
– А слыхали вы, матушка, вирши иеромонаха Кариона Истомина? Господин Бункорковский поет их, играя на гуслях или бандуре, древней манерою. Музыкант этот – крепостной человек господина Волынского, замечательная личность. Он еще в самых молодых годах, был послан своим господином, слыхавшим игру его на самодельном рожке, учиться певческому искусству в Москву. Артемий Петрович очень любит русскую старину и всегда мечтал иметь домашнего музыканта, разделяющего ту же склонность. Не удивляйтесь, матушка, что я называю дворчанина «господином Бункорковским» – окончив свое московское образование, он глядится и держится, совершенно таковым. Говорят, он мог продолжить занятия в Италии, но предпочел вернуться к своему доброму хозяину. Фрол не умеет так хорошо петь, как господин Бункорковский, но иногда подстраивает голос во след ему. Артемий Петрович находит исполнение былин на два голоса не лишенным приятности и вполне в новгородской манере. Хотите, я попробую одна пропеть вирши о первом удельном князе Холмском Всеволоде Александровиче?
– Довольно, Налли, уморила меня виршами. Ужели ты, Фрол, в милость ими вошел? Не придумаю, как генерал не уснул, их слушая, еще и, выстояв заутреню.
– Чем я не умник и хуже ли французишки де Суды, что всякий день с хозяином за всеми столами – за обеденным, за карточным, за конторским и за бильярдным? Благодарение Богу, кажется, ни в чём природою не обижен, – возразил Фрол.
– Я вам развяжу эту загадку, – добавила Налли, – господин Волынской так добр, что, однажды приняв кого в дом, в другой раз жалеет велеть того прочь гнать.
Она рассмеялась.
– Вот чем нашла отблагодарить братца! – воскликнула Елизавета Алексеевна, – да разве я твоего разумения спрашивала, сударыня?! Ужели и часа тебе нет для удовольствия своего, милый Фрол? Ужели столько делу привержен, что одни ночи без оного проводишь?
– Занят, таки, порядком, матушка, – отвечал Фрол, приняв на себя вид сурового сознания значимости своей, – изредка только и могу себе разрешить пофехтовать. К тому все желающие и небольшие деньги имеющие, возможность не упускают, и для того рядом с конюшней герцога Бирона манеж бывает к услугам. В нём некоторые недоросли, да и служащий люд, с учителями из гвардии офицеров упражняются. Потому как, матушка, без того умения кавалеру никак прожить не можно. А видели, бы вы коней герцога, что тут же в манеже бывают, – добавил Фрол с возрастающим увлечением, – неаполитанские жеребцы так хороши, что глаз отвесть не хочешь, и червонца, чтоб только поглядеть не жаль. Берберийской породы – те помельче будут, и в холке не так казисты, а черкасские с русскою породою – те, когда необъезжаны и персидским в кураже не уступят и в ногах крепче прочих. Но после науки много в характере смиренства являют противу турецкой и персидской породы, потому не только кавалерам, но и для дамского седла годны.
– Господин Волынской в Бронницах и на реке Пахре, где его конные заводы стоят, учередил для отроков людей на тех заводах занятых, школы для учения природного и латинского языков, с тем ещё, чтобы на латинском языке знали травы и растения и всё что может иметь касательство до медицины, прилежащей для пользования лошадей. И для этой цели много нанято было по контрактам немцев и французов, – добавила Налли к слову о лошадях.
– Расход не малый. Во что же те школы господину Волынскому встали? – спросила Елизавета Алексеевна.
– Не упомню, но что-то много в самом деле, – отвечал Фрол.
– А каково его жалование?
– Восемь тысяч.
– Ты говорил, братец – шесть, – поправила Налли.
– Матерь Божия! Бывает же такое богатство! – воскликнула Елизавета Алексеевна.
– Кабы все также употребляли его, как то делает господин Волынской! – отвечала Налли, – Он истинный благодетель нашего Отечества, и отдаёт ему гораздо более, чем те, что вдвое его богаче.
– Ужели есть и такие?! – изумилась мать.
– В столице всякого народу довольно, – заметил Фрол.
– В самом деле, Налли, что нам за нужда в кузене твоём. Он правда добрый человек, и как мне думается, не запнулся бы со сватовством, но разве нет между состоятельными людьми также и добрых? Фрол, на тебя полагаюсь, я, отложив мысли устроить замужество сестры.
– Не тревожьтесь, матушка, – отвечал Фрол, – дайте срок, всё устрою в лучшем виде.
– Воля ваша, матушка, а только знай я, что вы снова приметесь за сии разговоры, ни за что бы не приехала, – прибавила Налли, – с меня много и вполне довольно того вами писано.
– И правда, матушка, к чему сестрицу смущаете, её дело девичье и так с ней говорить не годится, – вступился Фрол, – сказал «не тревожьтесь». От слова сего не отступлю, а вы, извольте сестрицу не печалить.
– Виновата, господин секретарь, – отвечала, смеясь Елизавета Алексеевна, – вперёд не стану.
Таким образом, проговорив очень весело ещё с час, семья разошлась чтобы, по заведённому Елизаветой Алексеевной порядку, прилечь после обеда. Дни свидания с родным жильём пролетели быстро, но не для Налли. С трудом удавалось ей скрыть сердечную печаль и нетерпение, причинённые разлукою с Волынским. То ни час – он перед мысленным её взором, что ни молитва – о нём, что ни вздох – от огорчения не видеть лица его, что ни удар сердца – в надежде к нему возвратиться. В уме её рисуются всевозможные катастрофы, готовые над ним разразиться. Здоров ли вечно хворый сын или убил горестию отца своего, опасно занемогши? Не обрушил ли кто кредит Волынского перед государыней? Всё ли учтиво в доме, не оскорблён ли хозяин его каким непорядком, плутовством, неусердием людей своих? Кроме сих повседневных волнений, тревожил сердце Налли покой Волынского в самых сокровенных мыслях его. Не намерен ли искать нового брака? Имеет ли сердечную склонность? Достоин ли его выбор? Желала бы Налли обладать изряднейшей красотою, острейшим умом, изящнейшим обхождением, ангельским нравом, чистотою, превосходящей снега, покрывающие альпийские вершины – конечно, для любезного Волынского. Круг него все должно быть самое лучшее.
«Господи, одному Тебе ведомо, что нам полезно. Ты любишь его более чем это возможно сердцу человеческому, более чем умеет любить моя душа. Ежели должно ему иметь спутницею молодую жену, не допусти ему несчастья. Пусть она любит его столь предано и чисто, сколько это возможно для создания Твоего, пусть он обретёт всё блаженство, какое допустимо в жизни сей. Береги его от всякого ущерба, порока и огорчения, ибо никто и ничто не возможет противиться Тебе».
* * *
Солнечным утром, вошедший в канцелярскую де Суда, застал Налли скрипящей бойко пером. Экстракты и мемориалы все были убраны в сторону.
– Рад ты был, Фрол, нынешней чести, да жаль торжеств ее не видал, – сказал де ля Суда и Налли услыхала рассказ, как Волынского поздравляли кабинет-министром.
– Государыня жалует Артемия Петровича министром, а кабинет-секретарь Яковлев – плахою. Поднес ему некую «форму присяги», о которой слышно прежде не было, в которой грозится смертною казнью за малое радение. Для него специально сочинил. Не иначе вице-канцлером к тому ободрен был. Артемий Петрович, попомни мое слово, Яковлеву сию продерзость не оставит, да и поджигателю его накладно выйдет. Пусть вникнут, кто есть теперь патрон наш – второй класс по табелю рангов, «его высокопревосходительство», никто выше, только канцлер и лица императорской фамилии. К кому ты все пишешь, Фрол?
– К матери, – отвечала Налли, не прерывая своего дела.
– Не хочу быть нескромным, но что до сих записей, они заставляют меня усомниться в твоей откровенности. Коли желаешь хранить сердце в тайне, не раскидывай своих черновиков.
Налли страшно смутилась и молча приняла из рук де Суды записку, которую машинально составила за изготовлением экстрактов и, отвлечённая другим делом, позабыла между бумаг.
«Votre honneur vous engageat a m’abandonner,
Je n’ose plus vous prier de m’aimer.
Je n’ose vous donner mille noms de
Tendresse que vous m’etes cher.
Adieu, je ne puis quitter ce papier, il
Tombera entre vos mains, je voudrais
Bien avoir le meme bonheur»[8]8
«Ваша честь обязывает вас меня покинуть, Я не смею более молить вашей любви, не смею дать вам тысячи нежных имён. Сколько вы дороги мне! Прощайте, я не в силах оставить бумагу, которая упадёт вам в руки, как желалось бы мне иметь тоже счастье».
[Закрыть].
– Иногда хочу поупражняться в такого рода сочинениях, как ты – стихосложении. И тоже иногда переписываю у других, более удачливых сочинителей, – заметила Налли, негодуя на свою неосторожность, дозволившую ей, поддавшись чувству, изливать его письмом, которому, разумеется, никогда не предназначено было попасть в руки кабинет-министра. Уловка её удалась, и де ля Суда, задетый последним её замечанием, тотчас переменил разговор, спросив «когда же он похищал чужие стихи»?
В эту минуту вошедший Родионов, приказал Налли принести мемориалы, относящиеся до рассуждений Шафирова, Головкина и Трубецкого о конных заводах и сделать из них экстракт об качествах местности необходимых для их устройства.
Воротившись в канцелярскую, Налли застала в ней Еропкина за разговором с де ля Судой и Родионовым. Слова их поразили её словно громом. Она опустилась перед своею конторкой и, взяв перо, сделала вид принявшейся за работу. Литеры прыгали у ней в глазах, рука дрожала, мемориал казался китайскою грамотой. Родионов меж тем продолжал:
– Хотя и не урождённая княжна, но хорошей дворянской фамилии, и думаю, не сделает бесчестия роду Волынских. Не посватается ли Артемий Петрович?
– По усердию к государыни племяннице, её двору близок и обо всём в нём бывающем от фрейлины сей уведомлён. Но только не путайтесь и меня не путайте, Иван Васильевич. Мне кажется, всякому должно отдавать ему принадлежащее – Артемий Петрович, овдовев скоро, новым браком обзавестись не намерен, дабы совершенно для государства безраздельным быть. В этом не имейте никакого сомнения, – возразил Еропкин.
– В ином браке безраздельным государству быть не только возможно, но и весьма ловко. Какого бобра Артемию Петровичу не подстрелить? – с улыбкою гордости за своего патрона, ответил де Суда, но, поймав предостерегающий взгляд Еропкина, умолк.
– Правду сказать, добра ему желая, обнадёжился, а упования не много. Было ласкались сватовством Салтыковых, родством преавантажным, всё напрасно. Артемий Петрович делу конец положил, к дяде отписав что ему «и в чужом доме неприятно людей видеть, коих поступки низкими почитает, так каково же таковых в собственном дому терпеть», и что «лучше желает с совестию умереть, чем оную потерять и со стыдом доживать».
– Со всей моей похвалою – фрейлина сия не такого характеру, чтобы в каждом кавалере ждать сватовства и вовсе не нетерпелива, как многие её и ваши, судари мои, соотечественницы, – сказал де ля Суда, – напротив того, небезрассудлива, может говорить и усердствовать о деле, и кабинет-министру быть конфиденткою.
– Такова и является и проект государственный вместе с девицами нашими слушивала, – подтвердил Еропкин.
– Что за великую честь почитает.
– Смолоду много путешествовала и составила изрядные записки.
– Она и по сейчас молода. Ужели в отроческих годах сочиняла?
– Должно так.
Налли непременно хотелось узнать имя фрейлины, но она понимала, что вопрос сей задавать было бы неучтивостью непростительной. При всей почтительности речей, собеседники избегали произнести её имя.
«Должно не имею благородной души, кою льстилась носить, коли не радуюсь всей силою её о столь достойной особе, на преданность которой, по словам знающих характер её, можно полагаться Артемию Петровичу. Ужели нрав мой, в отличии от качеств сей дамы, столь низок, чтоб не быть довольну и покойну, коли Артемий Петрович нашёл приятность в персоне благородных свойств? Теперь должно преданной сей даме быть, и ради Артемия Петровича, прилежать её покою и чести. Лишь бы не лишиться мне бескорыстной добродетели даже до смерти, жить и умереть неразлучною с тем, кто дороже других всех людей. Да не узрит Всемогущий другую Налли».
Хоть сердце вторило словам её, оно переполнено было воздыханиями. Впрочем, укоряя себя за них, Налли нашла сил удержаться от слез и даже проникнуть в содержание мемориала. Скоро перо её твёрдо и ровно стало ходить по бумаге, в то время как мысли продолжали доискиваться значения, каждого слышанного слова. «О каком бобре поминал ты, де Суда?».
Дни шли, но как ответа на сей вопрос не давали, так Налли и начала надеяться на праздность его. Мелькнуло короткое северное лето. Осень, с роскошеством золота и бронзы своих, наступила. Пришла пора парфорсных охот – любимого удовольствия государыни. Министр покидает иногда для него государственную деятельность вместе с домом. С тоскою глядит Налли на, окропленные дождем, оконные стекла, думает: «Круг Артемия Петровича составился ряд лиц, клиентов и друзей его. Он любит их, доверяет им свои мысли, планы, рассуждает о делах государственных и приватных. Не только персоны титулованные, архиерей, генералы и придворные чины, удостоены сей чести, среди них младшие офицеры, де ля Суда, даже Кубанец. Отчего со мною Артемий Петрович мало так говорит о делах? Должно, уверился в моей неспособности. Ах, зачем не иметь мне склонности к предметам политическим, какою обладают вице-канцлер, Эйхлер, Татищев, Новосильцев? Для чего не слыть первою красавицей Петербурга, как графиня Рагузинская, или самой близкой к государыне, как статс-фрейлина ее – Чернышева. К ним тоже бывает Артемий Петрович, считает их полезными для дела своего, может, и приятными».
Но вот думы ее оборачиваются радостью – ее приносит крик егеря, прыгающего с седла взмыленной лошади:
– Протопить палаты, назавтра господину министру воротиться со всем семейством.
Не одна Налли, друзья Артемия Петровича также скучали по нем.
Они собираются за игрою в биллиярд. Налли слышит стук шаров, когда дверь в канцелярскую отворяется, и камердинер министра объявляет:
– Его высокопревосходительство приказали платонова «Федра» принесть.
Через минуту Налли с книгою в руках стоит в одном из покоев, исполняющих роль биллиярдной.
– А вот мы его спросим, – восклицает Волынской, – иди сюда, голубчик. Мы тут дискурс имели на мое рассуждение «О дружбе человеческой». Все свои голоса подают, что есть сей предмет. Платоновы слова мне всего внятней. Читывал ты «Федра»?
Как помнит читатель, обязанности, налагаемые чином секретаря, превышали способности Налли и решительно не оставляли сил для изучения философов. Впрочем, приметя, сколь высоко ценит Артемий Петрович искусство живописи, и как хочет видеть дочерей своих в нем преуспевшими, Налли, надеясь выиграть тем в глазах его, осаждала Еропкина просьбами преподать ей несколько уроков. Петр Михайлович нашел в ней некоторую к рисованию склонность, и Налли немало потратила времени и сил, чтобы развить ее. Как горько сожалеет она теперь, что не догадалась вместо того читать Платона!
– Виноват, Артемий Петрович, не читывал.
– С Кущиным ли о философах толковать, – заметил Кубанец, – уж на что я делом своим от сего предмету далек, а и то все что ни есть в библиотеке вашего высокопревосходительства, напамять знаю. А он, Кущин, я побожиться готов, никакой книги, окромя романишков да стишков французских, своею охотою в рук не брал. Разве лгу? – прибавил он к Налли, с вызовом.
– Ежели вы моего суждения спрашиваете, – отвечала она, не удостоив Кубанца взглядом, – то оно вполне в христовых словах заключено. «Нет больше той любви, кто душу свою положит за други своя». Сими словами Спаситель наш определил свойство любви и дружбы, и что они суть одно.
– Суть одно? – рассмеялся князь Трубецкой.
Близко подошед к Налли, он, с добродушной насмешкою, ее оглядел.
– Мой милый философ, вам бы недурно, прежде чем составлять суждения о сих предметах, хоть малость преуспеть в одном из них. Тут неподалеку, за домом Головина, для театров, актерки во втором этаже стоят, да и девичья Артемия Петровича, коли он строг к вам не будет, сгодится для философского опыта.
Тут Трубецкой дотронулся до, связанных назад кудрей Налли, желая еще что-то прибавить, и явно имея в виду развеселить общество, но был перебит хозяином его:
– А вы, князь, нынче не во втором этаже, и не в девичьей, так извольте сей предмет оставить. Впрочем, ежели он вам по сердцу, неволить не стану – можете и свое рассуждение о том предложить. Хоть теперь же прикажу письменный прибор вам подать.
Трубецкой, удивленный резкостью министра, собирался возразить, но приметя, как сильно Волынской сжал кий, что держал в руках, как тяжел стал его взгляд, умолк.
– Я нужен еще вам, Артемий Петрович? – спросила Налли, кладя книгу на угол кабинета.
Насмешки Кубанца и Трубецкого сильно задели ее. Выходки первого встречала она неизменным пренебрежением, поступок второго привел ее в недоумение. Отвечать дерзостью на дерзость вельможи – гостя министра, значило навлечь на себя неудовольствие последнего, чего, разумеется, Налли страшилась пуще всего. Оставить Трубецкого потешаться над нею – дать повод считать себя ничтожеством, нестоящим имени дворянина, и опять – потерять в глазах Артемия Петровича. «Сударь, вы, конечно, не покините границ учтивости, с тем чтоб не лишиться приятности нашего знакомства», – готова была промолвить Налли, но спохватилась, что слова сии, приличны только в устах дамы, и вызовут смех и новые остроты. От Волынского не укрылось ее огорчение.
– Останься, – сказал он, протягивая ей кий, и добавил, понизив голос, – увидишь, каково с Трубецким прощусь.
Игра и беседы возобновились.
– Как же ты изрядный случай упустил, – сочувственно заметил Гладков, – уж министр для тебя «Разговоры дружеские» Эразма Роттердамского и «Рассуждение христиан» не поминал, потому как знает, что ты ни по-польски, ни по-немецки не умеешь. Но как книги платоновы все по-русски списаны, так ласкался сыскать от тебя толку. Граф Платон, как послали за тобой, сказывал: «Когда случится мне Кущина твоего увидать, так «Похваление девицам» на ум приходит. В самом деле столь изрядною добродетелью богат, или только глядится таковым»? Артемий Петрович отвечал: «Но и богаче, чем глядится». Де Суда прибавил: «Точно так, и кроме того, словно тайну в сердце содержит, или свойство очарованное. Как это словом, ныне модным, называется»? «Магнетизм», – промолвил министр. Кабы нашелся с «Федром», не иначе белить свое рассуждение «О дружбе человеческой» Артемий Петрович от Родионова тебе передал.
– Когда так, я счастлив, своею неудачей – Иван Васильевич огорчился бы душевно.
– Друг, по словам Аристотеля, такой человек, который делает для другого человека то, что считает для него благом, притом делает это только ради сего человека. А прекрасным может называться такой друг, что будучи желан сам по себе, еще добродетелен, то есть заслуживает похвалы, – проговорил, подошедший де Суда, сопроводив слова свои значительным взглядом к Налли.
Она рассеянно ему улыбнулась, прислушиваясь к разговору, происходящему между Волынским, графом Мусиным-Пушкиным, Эйхлером, Хрущовым и переводчиком Академии наук Григорием Тепловым.
– Горазд же ты писать. Тут и регулы о том «как содержать конные заводы в добром призрении», и «аристократия от древних государств до нынешних», и «генеральное рассуждение о поправлении государственных дел», и «башкирский вопрос или искусство обхождения с азиатскими народами», и «благородная политика монаршьих дворов и чем она содержится». Теперь и за дружбу человеческую принялся. Отчего она тебе вдруг на ум вспала? – говорил граф.
– Хоть мне и не до заводов теперь, но как «добрым призрением» их обойти, – отвечал Волынской, целясь по шарам и располагая слова свои между ударами, – ежели случается, что драгуны, сходя с коней, на землю их валят. Виды имею русскую породу создать для кавалерии, понеже деликатные породы больше на парад чем к делу способны. Сим сентябрем указ издал о пяти тысячах голов для малороссийских заводов, чтобы в каждом казацком полку были и под конюшенной канцелярией действовали, чтобы ей одной их ревизовать. А там и церковным землевладельцам не грех потрудиться. Пусть хоть одну лошадь со ста душ поставят.
– О генеалогии, что давеча говорили вы, как прикажете государыне докладывать, – спросил Эйхлер, – пространно, или мнение кабинета совсем готово?
– Тринадцатого еще дня августа о том приказывал по кабинету. Положили из знатного шляхетства, из кадетского корпуса, кто изрядно обучен латинскому, немецкому и французскому языкам, чтобы таковых к иностранным дворам посылать для обучения политическим и гражданским делам. Так же для сведения о генеалогии и геральдике, и чтобы гражданскую историю превосходно разуметь. Требую, чтобы и все дворянство, вслед за мною, потрудилось, – кивнул Волынской на изображение своего фамильного древа, украшающего одну из стен покоя, – вот беда настала – насилу шесть колен упомнят, до того чести в шляхетстве не стало. Не диво, что перед подлыми людьми, что напрасно в случай вошли, поклонничают. Комиссию должно учередить, чтобы все рода русских дворян представить в точности. А из незнатных шляхетских фамилий, юношей, что умеют изрядно в рисовании и геометрии, числом до тридцати, приказал, тем же числом, Еропкину выбрать для архитектурной науки.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































