Текст книги "Портрет неизвестного с камергерским ключом"
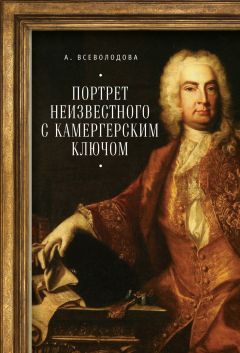
Автор книги: Анна Всеволодова
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Вы обо мне говорите, Артемий Петрович? – откликнулся Еропкин, вылезая из под стола, куда он, за проигрыш, принужден был забраться кондициями биллиярда.
– Коли о пользе России, так значит и о тебе, мой друг.
– Государыня желание имеет, дабы сенат заботился о размножении серых куропаток, и чтобы соловьев из Псковской провинции, с 50 птиц, наловили и ко двору предоставили, – заметил Эйхлер.
– Слыхал, Петр Михайлович? Вот она честь, – насмешливо отвечал Волынской, – и в том мне потрудиться, так? Всенепременно проект свой государственный оставить и о соловьях и «баранах с витыми рогами» в кабинете рассуждать! Знаю, кто о том печется, да и сам о нем порадеть готов. Представлю записку, сколько задолжено ведомству жалования, что егеря его по году не видят, так отучу мне соловьями докучать. «Ловля куропаток»… я ему таких куропаток настреляю, век не забудет!
– Как станете «куропаток стрелять», Артемий Петрович, не забудьте атамана Персицкого, – вставил Теплов, – пускай в военной коллегии объявят, отчего Федора Иванова доношение не рассматривали, так что бедный казак до государыни идти тщился и уж в жизни своей отчаялся.
– С Соймоновым то дело разберешь и экстракт – ко мне. А заодно с сим делом и советника Полицмейстерской канцелярии послушаем. С ним о непорядочных поступках известной персоны говорить стану. К тому свидетельств довольно: и постои солдатские по дворам деланы не равно, а сообразуясь с кредитом у сей персоны, и экзекуции с жестокостью непомерной производились, по слову той же персоны.
– Опять запрется говорить без закрытия, – махнул рукой Мусин-Пушкин.
– Коли советник Полицмейстерской канцелярии страшлив свои же бумаги представить, противные помянутому лицу, что же от других желать, – вздохнул Эйхлер.
– Припугните его и вы, Артемий Петрович, не то как бы вовсе протоколов не пожег, – предложил Теплов.
– Меня переговорить пошлите, – вставил Кубанец, давно прислушивающийся к разговору, – не прогадаете.
– Всем ты взял, Василий, нетерпелив только. Не время.
– Слова цесаревны к сему делу применяете? – спросил Еропкин.
– Откуда достал? – с неудовольствием возразил Волынской, – не слыхал от ее высочества.
Еропкин смутился и отошел на другой край стола, будто наметив, для удару иной шар.
– К слову о генеральном рассуждении – читывал побеленную главу «о магистратах». Много лишнего пишете, Артемий Петрович, – снова вставил Теплов.
– Пишу лишнего? – изумился Волынской, и даже руками развел, – не много ли берете на себя, господин поручик? Что именно, полагаете вы лишним?
– Как вы спрашивали от меня положений, относящихся до магистратов английских, то и рассудил за доброе усердие, исполнив приказание ваше, и свое рассуждение о сем предмете приложить. Впрочем, оно не более, чем экстракт из указанной главы, с некоторыми уточнениями, и потому, все ваше остается. Я же не в том расположении его составил, чтобы к похвале своего суждения, но дабы пригодным к апробации учинить. Из сего, Артемий Петрович, благоволите заключить, что разумею под «лишним».
– Ежели всякое слово, иным лицам неугодное, лишним почитать, так лучше и мысль о всяком рассуждении оставить. Волка страшишься – в лес не ходи, ступай на двор, запрись, да сиди, – сердито промолвил Мусин-Пушкин.
– Изволишь видеть, каковы нынче переводчики пошли, нас, министров, учить думают, – отвечал ему Волынской, веселым голосом, и добавил к Теплову, – вот так всегда со мною будь открыт, и не несчастлив в жизни останешься. А что до апробации, точно, до нее не вдруг добраться. О беглых крестьянах тому уж скоро год, как мнение представил, а и по сию пору далее учереждения комиссии не успел – Остерманн не в шутку воспротивился. Через иных лиц, сколько втолковывал ему: в том не ущерб, но немалую пользу сыскать можно. Не должно сих несчастных ловить, точно злодеев, и прежним владельцам представлять, но учередить из оных скитальцев вольных земледельцев. То устроить не хитро, и для того мною комиссары в башкирские и калмыцкие земли направлены, ибо их именно и надо наполнять русскими поселенцами. Не злодеев разумею, но тех, кто единственно ради голода и жестокости своих господ покинул. Всем владельцам душ человеческих то радения о пользе последних прибавит, а России – свободных земледельцев. А ныне что имеем? Поселяне свои места покидают, а через год, другой, третий, снова на них силою приводятся, а те уж заросли, мало не лесом, и великого труда требуют. А тут еще экзекуция от покинутого хозяина.
– Между тем, от пустых башкирских земель государству угроза, – подхватил Хрущов, – разорение через возмущение кочевников. Прямая необходимость их русскими поселенцами наполнять. То не мои только слова. Василий Никитич Татищев тех же мыслей держится, а уж кому и рассуждать об азиатских планих, как не ему. Самая сведущая о том голова во всей России.
Налли слушает речи, глядит на игру, сама бьет по шарам, то и дело киксует, исполняя неприятную обязанность, лезет под стол, иногда – заставляет лезть других, но кажется ей, в покое нет никого кроме нее и Волынского. «Словно свидание» – с нежностью думает она, и желает чтоб оно никогда не кончалось. Увы, время не замирает вместе с сердцем ее, гости начинают прощаться.
– Запамятовал было, как вы пришли, а теперь объявить должен, – отвечает Волынской Трубецкому, – как государыня приказала на добро чтобы не играли, так должно долгу никакого теперь не делать. Из дружбы упредить хочу – все долги в два дня заплатить надо, не то векселя в полицмейстерскую канцелярию представить принужден буду.
– Что вы, Артемий Петрович?
– Ведь знаете кем то приказано – не мною.
– Так ведь герцог тех долгов и сам имеет множество.
– Так взыщите ж с него – с тем и свои долги легче встанут.
– Не ждал того.
– И я не ждал, а что же делать? Сам я послал к управляющим за деньгами. Истинно нищими скоро станем.
– Но вы, как не игрок, так и нужды не потерпите.
– Все ж таки малость некая есть.
– Малость… у меня ведь не малость! Артемий Петрович, знаете ли каков мой долг – две тысячи червонцев!?
– Всеконечно знаю. Он и записан у меня. Деньги представьте – расписку порвем.
– Неделю одну дайте.
– Помилуйте, как же я ее дам? Разве свои деньги за вас внесу? Я от сего, по-приятельски, не прочь. Случается, плачу же долги камердинера, дворецкого, так отчего же и князя Трубецкого долги не заплатить?
Кубанец рассмеялся, Трубецкой вспыхнул.
– Назавтра деньги представлю, – проговорил он, сквозь зубы, и вышел вон.
– А ты вздоров не делай, не оставляй за игрою благоразумия, так не вспокаешься, – крикнул вслед Мусин-Пушкин.
Волынской оборотился к Налли, словно только теперь о ней вспомнил:
– Вникни, юноша, сколь пагубна сия карточная игра, сия прежестокая страсть, сия фурия свирепая! На каковое унижение, человек, изрядного ума и рождения, приведен ею бывает!.
– Навечно помнить буду, Артемий Петрович.
* * *
«Здравствуйте, государыня-матушка.
Испрашиваю от вас извинений за задержку почты. Причиной тому крайняя занятость братца, которую и я должна была разделить, ибо он принес некоторые бумаги для переписки, приказав мне и де Форсу сладить с ними, если не хотим подвергнуть его выговору со стороны старшего секретаря Родионова. Теперь, когда несносный труд кончен, принимаюсь за другой, приятнейший, то есть пишу к вам.
Молитвами вашими, мы с братом вполне благополучны и здоровы, но только желание ваше, чтобы устроить сватовство мне с приглянувшимися вам, вдруг снова, кузеном Арсением, меня огорчило. Зачем нарушаете вы слово, что давали братцу, меня «не печалить»? Точно, что кузен мой человек добрых свойств и учтив, и родство третьей далёкости не предполагает никаких препятствий к браку, но согласясь на оный, не увижу более приятности жизни, а великое несчастье. Только постоянной любви, в которой воздаётся первая почесть Богу, а потом – тому, кто дороже остальных всех людей, в которой оба могут любить друг друга много лет сряду, не имея меж собой плотской страсти, бывает уготован добрый конец. В наши дни люди и недели не умеют любить, чтоб не исполнить всех своих желаний, и столь же скоро наступает охлаждение и неприязнь. Это и понятно, и применимо к слабосильным натурам, которые не знают драгоценности таящейся сердцем. Я не желаю и не стану поступать таким точно образом. А именно, как уже сообщала вам, не тороплюсь венцом, к которому прошу вашу доброту меня не принуждать. Но, конечно, любовь ваша не станет огорчать меня сильнее и напоминать о новых ещё планах, готовящих меня просватать за кого бы то ни было. Не считайте ответ мой гордостью, но он вполне твёрд и постоянен. Предоставим Единому Богу править нашими судьбами и положимся на Его милость. Её же прошу и от вас, любезная матушка, винясь в причинённом вам огорчении и уклонении от желания вашего. Остаюсь в прочем всем покорная дочь ваша
Налли».
* * *
«Здравствуйте, государыня матушка.
Вы хотите от братца знать о том, как господин министр трудится, что есть «кабинет», и где он бывает. Я расскажу о том, как сумею.
Собрания кабинета происходят не в здании двенадцати коллегий, где министр также бывает очень часто, но во дворце, принадлежащем прежде господину Ягужинскому. Артемий Петрович много прилагает сил к тому, чтобы заручиться поддержкою князя Черкасского и стать совершенным в кабинете принципатом. То нужно Артемию Петровичу не для чего иного, как для избавления жителей нашего отечества. Последние много огорчены и утеснены бывают силою персон, кои себя русскими не признают, русское все презирают, и отечество, на службе которому возвысились, не любят. Так, например, стараниеми оных персон в сентябре 1738 года, в кабинет подано было из Сената предложение «об экзекуциях в следовании малых дел, как и наиважнейших государственных». Артемий Петрович, напротив, желал бы и совершенно пыточное дело в России искоренить, но мог только мнение обратно в Сенат отправить с тем чтобы «отложить, пока уложение сочинено и исправлено будет, дабы люди напрасных пыток не терпели».
Вместе с тем, министр принимает к себе на службу лиц разных наций, не исключая и немецкой, полагая «того русским, кто сам себя таковым именует, отечество свое любит и о нем радеет».
Собрания кабинета происходят не всегда просто, и, особенно, заслугою графа Остерманна. При обширнейшем уме и опытности, вице-канцлер имеет нрав закрытый и манеру самую уклончивую. Он никогда не сталкивается открыто с господином Волынским, но ведет дело свое стороною. Однажды, Остерманн «презрев болезнь, и с тем именно чтобы во всем иметь согласие с господином Волынским», явился в кабинет первым, но ушел до появления его, просив «доложить его высокопревосходительству, что его сиятельство граф Остерманн изволил объявить, что доподлинно о имеющих к докладу делах не известен». Господин де Суда считает все происшествие подарком, преподнесенным графом, господину Волынскому, ибо произошло в самый день рождения его.
Подобным поступкам вице-канцлера Артемий Петрович очень гневается и бранит «закрытую политику» перед первыми персонами, как и перед дворчанами своими. Не однажды старался он, помня только счастие России, и забывая собственное оскорбление, сойтись с Остерманном приятельством, подарками, протекцией клиентам его, однако не успел ничем. Не зная, как «развязать кабинету руки», Артемий Петрович думал было искать против Остерманна у Миниха, но рассудил, что последний, не вдруг склонится к главе русской партии.
Точно, что фельдмаршал много сделал для славы русских, но при том не имел к ним жалости и губил без нужды. Для того чтобы гром имени его заглушал шум, производимый орудиями иных армий, он приказывал акции самые кровавые. Так, презрев мнения, поданные в военном совете русскими офицерами – Шафировым и Волынским, он предпринял штурм неприятельской крепости, унесший жизни более 4000 русских воинов, и с тем только, чтобы овладеть ею и славою победы, на несколько дней. Позже, укрепление это снова досталось русским, но осадою, которую и прежде советовали Миниху, которая, сбережа солдат, не наделала бы столько шуму круг имени нового Александра. Как дело господина Волынского, которым теперь он занят, не может дать лавров тотчас, но спустя годы, Артемий Петрович и рассудил, что граф Миних трудиться не станет.
Ваш любезный сын, напротив, служит господину министру со всем усердием и испрашивает ваших молитв в помощь себе и покорной дочери вашей
Налли».
* * *
«Здравствуйте, государыня матушка.
В дому, где Фрол служит, едва не произошло несчастье, ибо глава его, упал с горячей лошади, которую желал непременно сам выездить, чтобы преподнести в подарок принцессе Анне. Вы, конечно, помните по письмам моим, что Артемий Петрович много искуснее любого берейтора, но в этот раз провидению угодно было так распорядиться всеми обстоятельствами, что роковое событие разразилось со всею неизбежностью. Лошадь – молодая и капризная – была перепугана звуком выстрела, которым один из дворовых людей уложил крысу, замеченную, подле, вверенного заботам его, птичника. Хотя последний находился очень далеко от того места, где господин Волынской выезживал лошадь, ей довольно оказалось произошедшего, чтобы обезуметь и кинуться через ограду. Я думаю, и этот поступок ее не принудил бы Артемия Петровича прекратить урок, если бы самое жестокое наказание, не постигло баловницу тотчас же – то есть, если бы лошадь не споткнулась, приземляясь после прыжка, и не повредила себе насмерть спины и шеи. Таким образом, наездник едва не разделил несчастья своей ученицы. Только природная его крепость, не допустила ему переломать кости и лишиться чувств. Удар оказался столь значителен, что заставил Артемия Петровича лечь в постель, а его лекаря – господина С., родом испанца – поставить пиявок за уши и кругом места удара, то есть на весь правый бок, от плеч до колен. Я назвала вам имя господина С. только одною первой буквой, так как, по милости Божьей, Артемий Петрович очень редко нуждается в услугах лекаря, и оттого имя его для братца ново, и он не мог упомнить его целиком.
Не стану описывать вам состояния Фрола – оно было ужасно, не только мне, но и Гомеру, не изобразить того уныния, что посетило его. Скажу лишь, что горе братца вылилось слезами, лишь при известии, что патрон его вне опасности, какое вымолил он от господина С.
Впрочем, провидению было угодно вознаградить его тем же вечером, ибо Артемий Петрович, наскучив лежать по приказанию доктора и по причине значительной потери крови, случившейся виною пиявок, пожелал послушать его драматических декламаций, похвалы которым не раз слыхал от сына. Перескажу вам все событие.
Фрол, обрадованный столько же, сколько смущенный, нежданным приглашением к министру, взойдя в спальню к нему, остановился у самых дверей, чем вызвал насмешку дворецкого Кубанца, заметившего, что «Артемию Петровичу и дур с карлами не надо, пока он держит таких ловких секретарей, как Кущин, что будто лакей с ним от дверей только смеет говорить».
«По дискурсам твоим, что между дворчанами ведешь, видно я не таков, чтоб рассудить уметь, кого держать в секретарях, кого – в лакеях, а кого – и в караульную послать наведаться, потому как забирают паче ума своего», – отвечал ему патрон и добавил к братцу:
– Вирши ты декламируешь отменно, но каково читаешь, знаю только по опыту сына, и хочу сделать собственный. Но что с тобою, любезный Фрол? Как ты бледен. Ужели и на тебе пиявки побывали?
Напомню вам, матушка, что спальня господина министра очень велика, и теперь углы ее совершенно потонули во мраке, скрывшем столы и кабинеты. Несколько свечей, в серебряных шандалах пылающие, озаряли пунцовые занавеси кровати, согнутую фигуру камердинера, стирающего с ковра следы процедур, предпринятых лекарем, сидящего подле, на стуле, дворецкого Кубанца, самого господина Волынского. Он облачен был в гордетуровый шлафрок, пунцового цвета, и укрыт камчатным одеялом, по темно-брусничному полю которого, шли белые, померанцевые и зеленые шелковые травы. Лицо его было бледно, несмотря на красных тонов тени, кидаемые занавесями, но весело. Обилие лавандовой воды, на употребление которой не поскупился Кубанец, все же оставляло в воздухе еще запах крови, а, быть может, он только чудился братцу, слишком потрясенному произошедшей бедой. От этой причины, он, вместо ответа, подбежал к кровати, упал на колени, спрятал лицо в складках одеяла и разрыдался. Артемий Петрович был растроган проявлением привязанности, столь красноречивым, и, гладя кудри Фрола, произнес с участием:
– Мой добрый Фрол, я знал, что ты меня любишь, но не предполагал, что так сильно.
– Я сам умер бы, если бы вы убились, – отвечал тот, между рыданий, которых никак не мог удержать, и которые заставили, наконец, его патрона приказать принести воды и несколько раз повторить уверения в своем совершенном здравии и расположении. После этих сильных мер, братец несколько успокоился и мог уже исполнить то, зачем зван был, а именно – приняться за чтение, как был спрошен Артемием Петровичем, чем он может и хотел бы быть удостоверен в его, Волынского, милости.
– Обещайте, что никогда не прогоните меня, – отвечал Фрол, не задумываясь.
– Как ты удивляешь меня, Фрол, – отвечал Артемий Петрович, сопроводив слова свои, взглядом изумления, – или, ты думаешь, кругом меня много найдется лиц, что стали бы сильно убиваться о моем несчастье? Ты, он, – Артемий Петрович указал на Кубанца, – Хрущов, Родионов, Петр Еропкин, граф Платон, быть может – Татищев. Разве назовешь хоть одного, кого бы я прогнал без вины, самой убедительной? Так ужели отлучу от себя того, кто умеет дорожить моим сердцем?
– Ах, – вскричал Фрол, – ничего другого мне и не нужно! Если вам потребуется не только усердие, самая жизнь моя – возьмите ее!
– Напротив, – улыбнулся Волынской, – хочу сберечь то и другое.
Фрол отвечал новыми изъявлениями преданности, в продолжении которых, Артемий Петрович позволял ему целовать свои руки и сам, несколько раз, целовал братца в лоб. Сцена эта слишком потревожила больного, у него начала кружиться голова, и он снова спросил воды, теперь уже не только Фролу, но и себе, после чего, откинулся на подушки и произнес:
– Что нынче за перевод сочинил де Суда? Жан де Менг? Гюльом де Лорис? Сэр Мэлори? По всему вижу, мало он труда несет, если для таких повестей час изыскал.
Он приказал камердинеру принести последний перевод де Суды.
«… любезная девица, – отвечал сэр Ланселот, – раз вы говорите, что так любите меня, я назначу вам тысячу фунтов в год, за вашу доброту, вам и вашим наследникам.
– Сэр, – отвечала Эвейна, – ничего этого мне не надобно, ибо если вы не желаете на мне жениться, или, на худой конец, не согласитесь быть моим возлюбленным, то знайте – дни мои сочтены.
– Прекрасная девица, – сказал сэр Ланселот, – увольте меня от того и другого.
Тут Эвейна упала в обморок, а очнувшись, принялась убиваться прегорестно. А сэр Ланселот стал спрашивать брата ее сэра Лавейна, что он намерен делать.
– Сэр, – отвечал тот, – что же мне еще делать, как не последовать за вами, если вы только не прикажете мне вас покинуть. Ведь со мною случилось тоже что и с сестрою моей – с тех пор как увидал я вас, сэр Ланселот, мне ничего другого не надо, как всегда следовать за вами и служить вам. Вижу, что сестра моя умрет от любви.
– Сэр, – отвечал сэр Ланселот – я от души о том сожалею и в беде сей не повинен, никогда я не сооблазнял ее ни подарками, ни клятвами..», – читал Фрол.
Вы, вероятно, удивитесь, матушка, узнав, что де Суда с легкостью составляет русские переводы не только с природного своего языка, но и с латинского, немецкого и английского. Текст, что я привела вам – образчик его «безделок», словами его. Артемий Петрович, когда бывает от дел свободен, то есть очень нечасто, слушивает такие «безделки», с большим удовольствием.
Признаюсь вам, что помянутая история сэра Ланселота и девицы Эвейны, породила во мне не только много жалости, но и несколько виршей, которыми ни за что не поделюсь ни с кем, кроме вас, зная, как они дурны, и сколько насмешек вызвали бы со стороны знатока, подобного де Суде.
«Баллада девицы Эвейны»
«Мне веселия нет где ваш след не ступал,
Где ваш взор не летал, там мне люта тоска.
С грусти я сторонсь и людей и потех.
Мне без вас, господин, в свете сем не живать,
Но не стану я слух ваш стенаньем терзать.
Я не льщусь, без ума, дерзко ровней вам быть,
Чтоб могли вы меня как супругу любить.
Разве мало под солнцем прекрасных есть звезд,
Среди шелковых трав перламутровых рос.
Для чего не назваться мне вашим пажом,
Во всем свете вам краше пажа не сыскать.
Отчего бы вдвоем нам и в бой не скакать.
Из чего ваш значок мне нельзя понести,
От стрелы и меча вас спасти.
Пред сверкающим строем я вскачь проскачу,
Звонким голосом я прокричу:
«Кто сомненье имеет, что мой господин честен,
добр во всем свете един,
Пусть сейчас мне о том объявит, и как лжец, мною
будет убит».
Но девице нельзя против мужа стоять,
Где в неравной борьбе ей с врагом совладать.
Упаду на траву с белоснежна коня,
Упорхнет моя жизнь от меня.
По мне, честь ваша, сударь, стократно милей,
Улечу навсегда я за ней.
Стану духом носиться над вашим значком,
Как умрете, Бог весть, что наступит потом.»
И тоже, «Песенка Эвейны»:
«Милый прости – больше не мил мне.
Если когда, так называла,
Разве глупа была – счастья не знала.
Мимо печаль – вон убежала.
В сердце ей места нет – его объемлет новый обет.
То, что привычно, не симпатично.
Как же иначе?
Солнце восходит, луч его бродит, прячутся тени.
Меня ласкает Важно Светило,
И не напрасно,
Я говорю ему: «Солнце прекрасно»!
И несколько писем Эвейны:
«Темны осенние древесы,
Туманит взоры скучный вид.
Ничем для вас он не блестит,
Единой прихотью не манит.
На место бронз и позолот
Из облак, чу, алмазы дарит
Ветвям несчастным ход времен.
И вот уж все кругом искрится,
Все ново, празднично, невинно и нарядно.
Не только в воздухе морозно и свежо,
Но и для глаз взыскательных приятно.
Отнюдь теперь уж не уныло,
И вы сказали мне: «Вот это мило».
Другое письмо:
«Когда бы можно было вам что преподнести,
Чего бы только ум мой не смог изобрести:
Прелестный этот садик, чтобы для вас он цвел,
Нарядный этот всадник, чтобы коня вам вел.
Красивый юный отрок вам в кубок будет лить,
Невинная пастушка – свирелью веселить.
Прекрасные чертоги вас будут окружать,
Чудесные виденья начнут вас посещать.
В блауханье райском вам птичка станет петь,
Ей нет блаженства боле, как к вам всегда лететь».
Верно, матушка, вы, по обыкновению своему, заслышав вирши, одолеваемы дремотою, потому потороплюсь кончить свой рассказ.
Артемий Петрович, по окончании Фролом чтения, промолвил:
– Ты и де Суда много успели бы у принцессы Анны, ибо для нее нет ничего приятнее, как описания несчастий какой-нибудь плененной царевны, говорящей с благородною гордостию. Хотел бы привить ей склонность не только к драмматическому стихотворству, но и к сочинениям иезуита испанского – Грациана, в особенности, к его книге «Грациан придворный человек», чтобы хоть немного имела искусства обхождения и проведывать, до себя касаемые, дела могла.
При сих словах, Артемий Петрович, ласковым кивком, отпустил братца.
Теперь, милостью Божьей, господин Волынской совсем здоров, также как братец и покорная дочь ваша
Налли».
* * *
«Здравствуйте, государыня матушка.
Наконец, могу исполнить желание ваше и оповестить о торжествах, продолжавшихся с 3-го по 17-ое июля, и поразивших великолепием всех очевидцев его – свадьбе принца Брауншвейгского Антона Ульриха с принцессою Анной Леопольдовной. Рождение, имеющее произойти от сего союза, уже теперь именуют наследником Российского престола. Указ Святейшего Синода приказывает поминать на богослужениях «ее императорское высочество вселюбезнейшую государыни племянницу, благоверную государыню Анну и супруга ее, всю палату и воинство их», сразу после имени государыни и цесаревны Елисаветы Петровны. Всем придворным особам от первого до 5 класса объявлено было позаботиться, к означенному дню, не только о богатом платье, но и о, приличных званию их, экипаже и свите. Артемий Петрович вынужден был войти в долги, истратив более 10 тысяч рублей, и много о том досадовал. В то же время, он не мог заказать себе и детям платьев дешевле, чем были на обер-гофмаршале Левенвольде и князе Черкасском, которые вели невесту к венцу. В свадебный поезд он ехал в великолепной испанской коляске, окруженный адьютантами, лакеями, гайдуками и скороходами. Платье всех лиц свиты также стоило очень дорого и должно было быть ново каждый день торжеств. Некоторые лица двора поражали оригинальностью убора слуг своих. К примеру, карета одного русского вельможи, имени которого не упомню, окружена была огромного росту арапами, черными, как ночь, и затянутыми в черного же цвета, бархатные платья. Одни только белки глаз и золотые запястья и кушаки служили светилами во мраке ее. В отличии от большинсва вельможных дворов, двор господина Волынского не содержит ни одного карлы или шута, до которых министр не охотник. Он отдает дань приличиям главного двора, обзаведшись несколькими лицами шведской, персидской, черкесской, индийской наций, кои в тот день, наряженные каждый в свое природное платье, также украшали свиту его. Похвалюсь вам, любезная матушка, признавшись, что и братец был удостоен сей чести, и скакал подле самой коляски своего господина, приняв обличье пажа его.
Фейерверки были устроены необыкновенные, так что заставили дивиться маркиза Шатарди – признанного знатока их. Сама невеста была убрана роскошно, корсаж платья из серебряной ткани был усеян бриллиантами, собственные прекрасные волосы завиты и уложены в четыре косы, венчавшиеся бриллиантовою же короной. Принцесса очень хороша была в сем уборе, о чем профессор Академии Якоб Штелин, в своей оде на немецком языке, и объявил:
«Прочь Венера!… Пускай древность тобою веселится.
То, что приятность принцессы Анны изъявляет,
Всю твою славу далеко превосходит».
За ужином следовали бал и машкарад. Для каждой кадрили требовался свой особый наряд. Домино, ленты, шапочки с кокардами, кружева, склаважи – шейные украшения в виде банта с драгоценными камнями, и прочие мелочи платья дочерей, обошлись господину министру почти столько же, во что стало собственное его платье. В субботу последовали оперы. В воскресенье машкарад продолжился в Летнем саду. Веселье сопровождалось пушечной пальбою со стен Петропавловской крепости и Адмиралтейской верфи. Ликование народа было необычайным, чему способствовала праздничная иллюминация садов, в которых три фонтана непрестанно били вином. Государыня, вместе с молодою четой, несколько раз выходила кидать червонцы в толпы людей, наполняющие сад.
Во всю неделю ужины и обеды обставляемы были самым различным способом, и переносили участников их, то на сельский луг, посреди гельвецкого горного селения, то в волшебные сады индийских владык. Платья слуг и господ, музыка, блюда, подаваемые на стол, танцы – все должно было вторить сим метаморфозам. Артемий Петрович, будучи одною из первых персон праздника, черезвычайно был утомлен оным и выказал большое удовольствие окончанием его. Как отец самый нежный, он более всего заботился, чтобы какое-либо несчастное происшествие, не повредило натуре, физической или нравственной, детей его, для чего во всё протяжение веселья, не мог предаваться ему с тою беззаботностью, с какой делали это иные лица.
Все пересказанные вам обстоятельства, сделались известны мне от Фрола, а ему, в свою очередь – от секретаря де ля Суды, который есть ближайший к министру клиент. С каждою почтою, обещаюсь извещать вас, любезная матушка, о знаменательных происшествиях, бывающих в столице, если только таковые последуют. В чем примите уверения покорной дочери вашей
Налли».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































