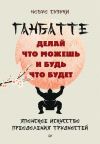Текст книги "Искусство феноменологии"

Автор книги: Анна Ямпольская
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
В 1960 году Якобсон заметил:
Неоднозначность [ambiguity] – это внутренне присущее, неотчуждаемое свойство любого направленного на самого себя сообщения, короче – естественная и существенная особенность поэзии. <…> Главенствование поэтической функции над референтивной не уничтожает саму референцию, но делает ее неоднозначной[134]134
Jakobson R. Selected Writings Vol. 3, P. 42. Пер. см. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против» / Под ред. Е.Я. Басина и М.Я. Полякова. М.: Прогресс, 1975. С. 221.
[Закрыть].
Неоднозначность смысла связана с тем что между референтивной функцией языка и чувственной формой знака есть зазор, разрыв. Поэтичность являет себя там, где знак не полностью совпадает с предметом, на который указывает, где связь предмета и слова не разумеется сама собой[135]135
Jakobson R. Selected Writings Vol. 3, P. 750 / Якобсон P. Что такое поэзия? С. 118.
[Закрыть], говорит Якобсон. На феноменологическом языке это можно передать так: поэтичность ощущается не там, где чувственный знак просто «указывает» на интенциональный акт придания значения предмету, а там, где несогласованность между интеллектуальным актом смыслонаделения и его привычным чувственным одеянием (чувственным знаком, указывающим на этот акт) пробуждает сознание к работе конституирования. Поэтическая функция языка, сущностно связанная с чувственной и аффективной стороной сообщения, обеспечивает «подвижность» значения, выводя на свет свойственную смыслу структуру: «ощущение формы» художественного произведения открывает нам доступ к горизонтной структуре «видения вещи», которое задействует интерсубъективность эстетического опыта как опыта разделенного, с одной стороны, и укореняет акт смыслообразования в многообразии и противоречивости «эстетических», то есть чувственных и аффективных, переживаний, с другой. Сущность эстетического опыта, равно как и сущность феноменологической работы, состоит в производстве новых, неожиданных смыслов, которое связано с нашей чувственной и аффективной вовлеченностью в мир и/или в произведение искусства. Итак, наше сближение русского формализма с практикой феноменологии не беспочвенно: мы действительно имеем дело с двумя различными способами выразить общую интуицию.
Однако было бы опрометчиво утверждать, что имеет место подлинное тождество феноменологии и формализма. С нашей точки зрения, принципиальное различие между ними состоит не только в том, что ранний формализм, будучи протоструктурализмом, делает акцент на возникновении смысла внутри принципиально анонимных структур, в то время как в феноменологии производство смысла неотделимо от личностного акта, от духовного свершения субъекта; это различие связано именно с тем, как понимается продуктивность смысла. Если в русском формализме неоднозначность смысла является следствием конфликта между жестко фиксированным знаком как указанием на предмет и неустойчивым, колеблющимся знаком, схваченным в качестве предмета чувственного восприятия, то феноменологический – генетический – подход утверждает, что продуктивность, подвижность смысла связана с историей. Смысл как смысл мира историчен так же, как историчен мир; смысл как общий, как «наш» – бесконечно конституируется мною наравне с другими[136]136
«История есть не что иное, как живое движение совместности и встроенности друг в друга [des Miteineinder und Ineinander] изначального образования и седиментации смысла [Sinnbildung und Sinnsedimentierung]». (HUA VI S. 380 / Гycсерль Э. Начало геометрии. М.: Ad marginem, 1996. С. 235).
[Закрыть].
Редукция как прием
La philosophie n’est pas le reflet
d’une vé rité pré alable, mais comme
l’art la ré alisation d’une vé rité.
Maurice Merleau-Ponty[137]137
Феноменология – не отражение предсуществовавшей истины, но, как и искусство, осуществление истины. Морис Мерло-Понти (Merleau-Ponty М. Phenomenologie de la perception. Gallimard, Paris, 1945. P. XV / Мерло-Понти M. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента, Наука, 1999).
[Закрыть]
Что общего между философией и искусством? Можно ли рассказать историю философии, историю развития мысли на языке истории искусства, на языке истории развития художественных форм? В этой главе я предлагаю предпринять подобную попытку и рассмотреть ришировскую концепцию гиперболизированной редукции как своего рода эстетизированную философскую практику или даже философский прием, обнажение которого позволяет явить, «сделать ощутимой» саму работу мысли. С некоторыми идеями Ришира читатель уже встретился в предыдущей главе, однако сейчас я предлагаю взглянуть на ришировскую феноменологию как на своего рода эстетический проект; Ришир сам дает нам к тому немалые основания.
В начале «Феноменологических размышлений» Ришир определяет свой метод как «эстетическую» рефлексию – при этом эпитет «эстетическая» отсылает и к эстетике как философской теории искусства, и к эстетике как теории чувственности (как, например, кантовская «трансцендентальная эстетика»[138]138
О понятии αϊσθησις подробнее см. стр. 120–150.
[Закрыть]). Как и у его предшественника Анри Мальдине, «эстетическое» у Ришира выступает как место соединения интеллектуального, чувственного и аффективного[139]139
Richir М. Meditations phenomenologiques: Phenomeno-logie et phenomenologie du langage. Grenoble: J. Million, 1992. P. 20, 191.
[Закрыть]; как и для Мальдине, для Ришира область «эстетического» – это область, свободная от любого пред-определения, будь то в опредмечивании, наброске, предвосхищении в наперед заданном понятии или интенциональном целеполагании[140]140
«…‘эстетическая рефлексия’ без помощи понятия, то есть феноменологическая рефлексия, предшествует телеологической рефлексии» (Richir М. Meditations phenomeno-logiques. Р. 20).
[Закрыть]. Не одно лишь слово «эстетика» объединяет ришировский проект феноменологии nova methodo с проблематикой художественного творения; хотя Ришир специально оговаривает, что феноменология не должна становится эстетикой[141]141
Ibid. Р. 349.
[Закрыть], дело феноменолога оказывается подобно делу художника или поэта: «глубокое родство между феноменологией и искусством» обусловлено тем, что и там, и там «поистине творится», возникает «смысл»[142]142
Ibid. Р. 21.
[Закрыть]. В одном из поздних своих устных выступлений Ришир даже заявлял, что «феноменология есть художественная практика, которая пользуется философским языком»[143]143
Выступление на частном семинаре в Баноне, 12.05.2014. Я благодарна Г.И. Чернавину, который передал мне это высказывание M. Ришира.
[Закрыть]. Однако если предположить, что феноменологическая работа как производство смысла и в самом деле есть своего рода художественное творчество, то нельзя ли судить о нем по законам искусства? Что, если то развитие гуссерлевской феноменологии, предложенное Риширом, следует законам, которые обнаружил русский формализм, исследуя развитие литературных течений и форм? Замечу сразу, что это ставит меня как исследователя в методологически двусмысленную ситуацию: с одной стороны, я как феноменолог нахожусь «внутри» феноменологии и даже в историко-философской работе все равно применяю феноменологический метод, с другой стороны, примеряя на себя маску «русского формалиста», я покидаю твердую почву имманентной критики и пытаюсь интерпретировать историю феноменологии «с высоты птичьего полета», с помощью чуждого для нее понятийного аппарата. Но такого лишь уж чуждого? Ведь между русским формализмом, который в некоторых своих аспектах может быть квалифицирован как «феноменологический структурализм», и «структурной феноменологией» Ришира существуют важные пересечения[144]144
Следует подчеркнуть, что о непосредственном влиянии русского формализма на философию Ришира говорить нельзя: согласно его собственному устному свидетельству, он не был знаком с этим интеллектуальным течением; впрочем, отдельные мыслительные ходы, заимствованные из формализма, могли превратиться в своего рода «фольклор» французской интеллектуальной среды.
[Закрыть].
Итак, главным вкладом Ришира в феноменологию оказалось введение «гиперболической», или, скорее, гиперболизированной феноменологической редукции, что бы этот термин под собой ни скрывал; Ришир модернизирует феноменологию со стороны метода, а не со стороны предмета исследования. Но прежде, чем углубиться в детали, я позволю себе небольшое отступление в историю феноменологического метода. Для самого Гуссерля «главнейшим» из методов был метод феноменологической редукции; только после редукции может быть проведена «чистая дескрипция», позволяющая вести исследования в рамках «эйдетической установки»[145]145
HUAVIIS. 234.
[Закрыть]. Феноменологический метод в качестве метода феноменологической дескрипции и эйдетической вариации, в качестве метода описания чисто усмотренных структур сознания является производным по отношению к редукции, которая, согласно Гуссерлю, одна лишь может обеспечить ту область, где возможны собственно феноменологические исследования. Однако уже Хайдеггер видел в феноменологической «редукции» лишь один из элементов метода, который следовало дополнить феноменологической «деструкцией», а затем и «конструкцией». До начала девяностых годов XX века эта точка зрения оставалась главенствующей. В частности, в знаменитом фрагменте из предисловия к «Феноменологии восприятия» Морис Мерло-Понти утверждает «невозможность полной редукции»[146]146
Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. С. 13. Однако если бы мы были «абсолютным духом», редукция была бы полностью осуществима (там же). Другими словами, с точки зрения Мерло-Понти (который в этом вопросе следует Финку), исполнителем редукции является эмпирическое Я философствующего субъекта, а не трансцендентальная субъективность (как то вытекало бы из буквы гуссерлевского учения). Сходный тезис мы встречаем уже в «Трансцендентности едо» Сартра: «Надобно иметь в виду, что феноменологическая редукция никогда не бывает совершенной» (Sartre J.-P. La transcendance de l’Ego. L’esquisse d’une description phenomenologique. Paris: Vrin, 1966. P. 73).
[Закрыть]. С точки зрения
Мерло-Понти, редукция важна не столько как определенная методика, предполагающая расщепление философствующего субъекта на две инстанции, приостановку наивной веры в действительность и последующий анализ «феноменов в смысле феноменологии»[147]147
«Нужно остерегаться фундаментального смешения между чистым феноменом, в смысле феноменологии, и психологическим феноменом, объектом естественно-научной психологии» (HUA II S. 43/ Идея феноменологии. С. 119).
[Закрыть], сколько как общефилософская установка, позволяющая прорваться к «удивлению перед миром»[148]148
Шестова ЕЛ. Язык и метод феноменологии. С. 118–129.
[Закрыть]. Говоря на языке русского формализма, Мерло-Понти видит в редукции один из вариантов «охранения», который позволяет схватить нашу собственную вовлеченность в мир не как нечто «само собой разумеющееся», но, напротив, как «нечто странное и парадоксальное»[149]149
Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. С. 12.
[Закрыть]. Тем самым подлинное феноменологизирование – это вовсе не редукция, которая остается лишь «вратами в феноменологию», то есть предварительным этапом на пути к феноменологической работе, а нечто совсем другое. Сходную точку зрения мы видим и в довоенных работах Левинаса, который считает, что феноменологическая редукция – это только средство, а подлинная цель феноменологии заключается в том, чтобы суметь увидеть отдельного человека в его уникальности, единичности, сингулярности, а не просто как частный случай некоего универсального закона: редукция есть «метод, с помощью которого мы возвращаемся к подлинно конкретному человеку»[150]150
Levinas Е. Theorie de I’intuition dans la phenomenologie de Husserl. Paris: Vrin, 2001. P. 209 / Левинас Э. Избранное: Трудная свобода. М.: РОССПЭН, 2004. С. 131.
[Закрыть], и, тем самым, это лишь предварительный элемент настоящей философской работы. В дискуссии после доклада о. Германа ван Бреды на конгрессе 1959 года в Ройомоне Левинас раздраженно говорит о том, что примат редукции – это проявление «сверхострого методизма», свойственного Гуссерлю[151]151
Breda van H.L. La reduction phenomenologique // Husserl. Cahiers de Royaumont № 3. Paris, 1959. P. 118.
[Закрыть]. Еще более скептическую точку зрения занимал Сартр. В «Трансцендентности ego»[152]152
Эта небольшая книжечка Сартра исходно была опубликована как статья в выпуске Recherches Philosophiques за 1936 год.
[Закрыть] редукции по-прежнему приписывается положительный смысл: уничтожая различие между бытием и кажимостью, редукция порождает тревогу, которая вырывает философа из «естественной установки» лицемерия и побуждает его к «философской конверсии». Другими словами, редукция – это не «ученая» операция, не упражнение праздного ума, но неизбежность. Таким образом, ἐποχή для Сартра носит в первую очередь аскетический характер: оно есть осознание неприглядной истины о себе, шаг от лицемерного самообмана к подлинному самопознанию. Именно эта аскетическая составляющая обеспечивает феноменологической редукции статус, превышающий статус технической методики, статус «интеллектуального метода»[153]153
Sartre J.-P. La transcendance de l’Ego. P. 84.
[Закрыть]. Однако в дневниках времен «странной войны» Сартр видит редукцию уже совершенно иначе:
Я совлекаюсь человека в себе, чтобы встать на абсолютную точку зрения беспристрастного наблюдателя, судьи. Этот беспристрастный наблюдатель есть развоплощенное трансцендентальное сознание, разглядывающее в «себе» человека. Когда я сужу себя, я сужу себя с той же суровостью, с которой судил бы другого, и именно тут я ускользаю от самого себя. Самый акт суда над самим собой есть «феноменологическая редукция», которую я осуществляю с тем большим наслаждением, что благодаря ей я без особых усилий могу подняться над человеком во мне[154]154
Sartre J.-P. Carnets de la dröle de guerre. P. 126.
[Закрыть].
Редукция как акт рефлексии оказывается заложницей лицемерия и самообмана. Стремление перестать быть всего лишь человеком и превратиться в трансцендентальную субъективность, которое для Финка и Гуссерля составляло высшую точку философской конверсии, высмеивается Сартром как возвышающий самого себя обман. Итак, редукция для французских феноменологов старшего поколения – это в лучшем случае немецкая занудность, а в худшем – моральная нечистоплотность.
И вдруг в начале восьмидесятых годов на феноменологическом горизонте восходят две новые звезды, которые хотят редукцию реабилитировать, вернуть ей центральное место в философской работе. Оба они, и Марион, и Ришир, настаивают на том, что редукция в том виде, в котором ее оставил в наследство Гуссерль, чем-то нехороша, «не дотягивает»: ее нужно обновить, тем или иным образом улучшить, переосмыслить. Марионовская «редукция к данности» находится «впереди»: Марион предлагает превзойти, радикализировать и Гуссерля, и Хайдеггера. Ришировская же редукция предполагает движение «назад, к Гуссерлю» (подобно тому, как Лакан в свое время призывал вернуться «назад, к Фрейду»). Характерен выбор термина – ришировская редукция не «радикализирует» гуссерлевскую редукцию, а «гиперболизирует» ее. Что происходит с редукцией при этой загадочной «гиперболизации»? Для чего она теперь нужна?
Путеводной нитью для меня служит идея функционального подхода, высказанная в совместном манифесте Тынянова и Якобсона:
Эволюция литературы не может быть понята, поскольку эволюционная проблема заслоняется вопросами эпизодического, внесистемного генезиса как литературного (так наз. литературные влияния), так и внелитературного. Используемый в литературе как литературный, так и внелитературный материал только тогда может быть введен в орбиту научного исследования, когда будет рассмотрен под углом зрения функциональным[155]155
Тынянов Ю.Н., Якобсон Р.О. Проблемы изучения литературы и языка // Формальный метод. Антология русского модернизма. Москва: Кабинетный ученый, 2016. Т. 3. С. 492.
[Закрыть].
Если применить этот тезис не к истории литературы, а к истории философии, то он будет означать, что мой анализ сосредоточен не столько на проблемах влияния (хотя этой темы нельзя полностью избежать), сколько на тех изменениях, которые под влиянием ришировких инноваций претерпевает функция феноменологической редукции. Если в самых первых своих работах Ришир развивал идеи раннего Деррида – а именно проблематичность, если не сказать невозможность эйдетической редукции в том виде, в котором ее задумал Гуссерль – то в «Феноменологических исследованиях» 1981 года происходит прорыв к его собственной философской проблематике: проблематике иллюзии[156]156
В данной главе я ограничиваюсь теми работами Ришира, которые были написаны до поворота к анализу фантазии; анализ роли фантазии у Ришира см. Schnell А. Le sens se faisant. Marc Richir et la refondation de la phenome-nologie transcendantale. Bruxelles: Ousia, 2011. P. 34–63, а также Детистова А.С. Феноменологический проект М. Ришира; фантазия как измерение феноменологического // Вопросы философии. 2012. № 6. С. 139–148.
[Закрыть]. Анализируя основное гуссерлевское различие между явлением и являющимся[157]157
HUA II S. 10–11 / Идея феноменологии. С. 69.
[Закрыть], Ришир ставит вопрос о «странной симуляции», свойственной акту ἐποχή и редукции. В самом деле, феноменологическая редукция предполагает, что мы «как будто», als ob, как выражается Гуссерль, перестаем верить в существование мира; Ришир уделяет особое внимание этому обороту. В его интерпретации редукция приобретает черты условности и игры:
Если исходить из интенционального соответствия [между явлением и являющимся], то редукция, «взятие в скобки», «выведение из игры» предметности заключается в том, чтобы вести себя так, как если бы предметности не было, в то время как она все время тут[158]158
Richir М. Recherches phenomenologiques: fondation pour la phenomenologie transcendantale. Ousia, 1981. P. 17.
[Закрыть].
Зачем же Риширу делать этот акцент на неестественности или искусственности «подвешивания генерального тезиса»[159]159
Напомним, что генеральным тезисом естественной установки называется следующее утверждение: действительность и в самом деле существует здесь, передо мною; совершая ἐποχή, я перестаю пользоваться этим утверждением, «беру его в скобки».
[Закрыть] как методического хода? Трансцендентальное поле, открытое «как если бы» редукции, имеет характер симуляции, поскольку порождено симулякром трансцендентального cogito, утверждает Ришир[160]160
Richir М. Recherches phenomenologiques. Р. 19.
[Закрыть]. Пускай трансцендентальная субъективность всегда являет себя под маской психологической субъективности[161]161
Тема отличия трансцендентальной субъективности от человеческого Я феноменолога уже обсуждалась выше, см. стр. 5-39.
[Закрыть], но это маска, которая должна быть «взята» в качестве таковой, то есть в качестве маски[162]162
Richir М. Recherches phenomenologiques. Р. 22, а также Derrida J. Poetique et politique du temoignage. Paris: Herne, 2005. P. 3–4.
[Закрыть]. То, что раньше скрывалось, теперь подчеркивается и выпячивается: редукция выступает как затертый технический прием, который необходимо обнажить для того, чтобы вернуть ему «действенность»[163]163
«…отдельные приемы <…> следует классифицировать на приемы ощутимые (заметные) и неощутимые (незаметные). Причина ощутимости приема может быть двоякая: их чрезмерная старость и их чрезмерная новизна. <…> Источник обнажения приема лежит в том, что ощутимый прием является художественно оправданным лишь тогда, когда он сознательно сделан заметным. <…> Итак, приемы рождаются, живут, стареют, умирают. По мере их применения они механизируются, теряя свою функцию, переставая быть действенными. В борьбе с механизацией приема употребляется подновление приема в новой функции и в новом осмыслении» (Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М.-Л.: Госиздат, 1927. С. 158).
[Закрыть].
Симулятивность, чтобы не сказать – эстетическая условность – гуссерлевской редукции указывает на необходимость перейти к редукции следующего уровня, которую Ришир назовет «гиперболической»[164]164
Эпитет «гиперболический» отсылает к «гиперболическому сомнению» Декарта (Principia I 30), призванному обезопасить нас от Бога-обманщика.
[Закрыть]. Если целью гуссерлевской редукции было выявление интенциональной структуры сознания как основного способа формирования и фиксации смысла[165]165
Gondek H.-D. & Tengelyi, L. Neue Phänomenologie in Frankreich. Berlin: Suhrkamp, 2011. S. 48.
[Закрыть], то целью новой редукции и новой, преобразованной, феноменологии, должно стать выявление тех структур, которые отвечают за обновление, а значит, и дестабилизацию уже установленных смысловых структур. Место готового, нормализованного эйдетическими структурами сознания смысла занимает «смысл-в-самостановлении», le sensse-faisant, который еще не установился, который находится в процессе рождения, in statu nascendi. Как и другие французские феноменологи, например, Деррида или Мерло-Понти, Ришир в известном смысле пытается сыграть «хорошего», «интересного», «глубокого» Гуссерля против «плохого», «поверхностного», «скучного»[166]166
Lawlor L. Derrida and Husserl. The basic problem of phenomenology. Bloomington: Indiana University Press, 2002. P. 164.
[Закрыть]; в самом деле, второй том «Логических Исследований» начинается именно с различия между смыслом, осуществленным здесь и сейчас, неотделимым от личного духовного свершения (от акта доказательства теоремы, скажем), и внешней фиксацией этого смысла (например, доказательством этой теоремы в учебнике). Тем не менее подход Ришира – не гуссерлевский, а, скорее, левинасовский: его интересуют вовсе не акты (сознания, Я, cogito или какого-либо другого агента по производству смыслов), а именно прото-смысл – во всей его предельной неуловимости, хрупкости, несказанности. Вслед за Яном Паточкой Ришир стремится построить «асубъективную»[167]167
«Асубъективная» феноменология – это термин Паточки, подхваченный Риширом, см. Richir М. Possibilite et necessity de la phenomenologie asubjective // Jan Patocka; Philosophie, phenomenologie, politique / E. Tassin et M. Richir. Grenoble: J. Millon, 1992. P. 101–120.
[Закрыть], или даже транссубъективную феноменологию, в которой смысл и его структуры не аппроприированы никаким субъектом – в том числе и трансцендентальным. По Риширу, бытийный статус трансцендентальной субъективности иллюзорен, и попытка приписать ей бытие, подобное бытию психического Я, ведет к созданию суррогата Бога, который Ришир называет онтологическим симулякром.
Своеобразие ришировского подхода, превращающего феноменологическую редукцию в затрудняющий и, тем самым, выявляющий мышление прием, становится особенно заметным, если сравнить этот подход с подходом раннего Деррида, чье влияние Ришир в семидесятые и восьмидесятые годы стремится преодолеть. Например, в знаменитом «Введении» к гуссерлевскому «Началу геометрии» Деррида обращает внимание на метафору галлюцинации, используемую Гуссерлем для описания опыта геометра, и смело распространяет на галлюцинаторный опыт то, что Гуссерль сказал о ясности эйдетического воображения – а именно, что фикция есть «жизненный элемент феноменологии»[168]168
Derrida J. Introduction // Husserl Е. L’Origine de la geomdtrie. PUF. 1962. P. 29 / Деррида Ж. Начало геометрии. С. 39.
[Закрыть]. Однако подобный примат фикции легитимен, лишь покуда мы остаемся в мире «статичных», готовых смыслов, в мире, где нет истории. Творческий опыт рождения смысла, в котором можно «описать вещь как в первый раз увиденную» (Шкловский), связан для Деррида с реальным миром, в котором нет ничего воспроизводимого: смысл – это событие, и главными его чертами являются неповторимость и непредвиденность. Казалось бы, Ришир делает почти то же самое, лишь слегка переставляя те же самые «кубики», из которых составлен дискурс Деррида (воображение-галлюцинация-фикция, противопоставление статичного смысла нарождающемуся смыслу), однако результат получается совершенно иной. Если поле феноменологической работы, возникающей в результате приема редукции, есть своего рода эстетическая условность, своего рода сцена философского театра или пространство философского романа, то иллюзия и впрямь оказывается стихией феноменологии – но в совершенно ином, чем у Деррида, смысле. Иллюзорно (а точнее, колеблется, «мерцает»[169]169
«Феномены мерцают как звезды» (Richir М. Qu’est-ce qu’un phenomene? Les etudes philosophiques. 1998. № 138 (4). P. 439).
[Закрыть] на границе иллюзии и не-иллюзии) почти все – переживание, феномен, но, что наиболее существенно, иллюзорным является само ощущение мысли, ощущение нашего собственного процесса мышления, а значит, самоощущение Я. «Что отличает мысль от иллюзии мысли?», с силою спрашивает Ришир[170]170
Richir M. Meditations phenomenologiques. P. 81.
[Закрыть]. Этот вопрос служит мотивировкой для введения гиперболизированной редукции; он напоминает нам гуссерлевский вопрос о том, что отличает чистое «видение» (Schauen), дающее созерцание, от рассудочного «подразумевания», от «мнимого имения-со-данным (das Mitgegebenhaben)»[171]171
HUA II S. 62 / Идея феноменологии. С. 140.
[Закрыть], но в то же время отличается от него: Ришир не ищет ни абсолютной достоверности, ни абсолютной самоданности переживания; он ищет сам момент начала движения, «ненулевую производную» мысли. Ришировский вопрос – это смещённый гуссерлевский вопрос, сказал бы Тынянов[172]172
Описывая трансформацию жанра поэмы, Тынянов пишет: «Не планомерная эволюция, а скачок, не развитие, а смещение. Жанр неузнаваем, и все же в нем сохранилось нечто достаточное для того, чтобы и эта «не-поэма» была поэмой. И это достаточное – не в «основных», не в «крупных» отличительных чертах жанра, а во второстепенных, в тех, которые как бы сами собою подразумеваются и как будто жанра вовсе не характеризуют» (Тынянов Ю.Н. Литературный факт // Формальный метод. Антология русского модернизма. Москва: Кабинентный ученый, 2016. Т. 1. С. 664, курсив автора).
[Закрыть]: конструкция сохраняется, но работа идет с другими формами опыта. Гиперболизированная редукция – это тоже редукция, потому что сохраняется основная функция всех редукций: исполняется определенное ἐποχή, нечто берется в скобки. Однако Ришир раскачивает то, что было для Гуссерля твердой почвой, опорой: принадлежность субъекту его собственных переживаний.
Условность редукции делает явной неизбывную иллюзорность нашего собственного доступа к миру и к самим себе: сомнение и недостоверность оказываются не случайными погрешностями, отдельными неудачами или недостатками в жизни субъекта, а ее структурными элементами. Новый смысл возникает на границе субъекта и мира, субъекта и языка, однако эта граница сама по себе носит размытый, фиктивный, иллюзорный характер, потому что Я толком не знает и не может знать, где кончается его собственное мышление и начинается чужое, готовое, обобществленное.
Интерес Ришира к анонимным, безличным формам существования и становления смысла, и, в первую очередь, к языковым структурам связывает его со структурализмом. Как у Мерло-Понти, Деррида или (по другую сторону баррикады) у Романа Якобсона[173]173
Holenstein Е. Roman Jakobsons phänomenologischer Strukturalismus. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1975, см. также рецензию Яна Паточки на эту работу: Patocka J. Roman Jakobsons phänomenologischer Strukturalismus. Tijdschrift voor filosofie. 1976. № 38 (1). S. 129–135. Новый подход к описанию общей истории феноменологии и структурализма см. в работах П. Флака.
[Закрыть], в работах Ришира звучат как феноменологические, так и структуралистские мотивы. Примером может послужить понятие «символического установления» или «учреждения» (l’institution symbolique): если слово l’institution используется Риширом для перевода гуссерлевского понятия Stiftung, столь важного для Мерло-Понти, то слово symbolique однозначно отсылает читателя к структуралистскому контексту[174]174
Mesnil J. Symbolique et phenomenologique. Line distinction organisatrice dans l’architectonique de Marc Richir. Eikasia. Revista de filosofia, 2014. № 57. P. 257–284 [http://revistadefilosofia.com/57-16.pdf].
[Закрыть]. Действительно, одна из задач, поставленных Риширом – преодоление феноменологии в качестве «систематической эгологической науки»[175]175
HUAIS. 118/Идеи 1. С. 112.
[Закрыть], то есть в качестве философии, которая (якобы) исходит из субъекта как последнего основания – представляет собой ключевую задачу французского структурализма. Однако ришировское решение этой задачи отличается как от структуралистского подхода, так и от магистральной линии французской феноменологии. У Ришира речь не идет о переносе основного поля исследования в область анализа анонимных структур как таковых: все виды δόξαι, то есть все формы уже установленного, готового смысла не принадлежат к собственному полю феноменологии, но должны быть в результате редукции «внесены в скобки», «нейтрализованы», приостановлены[176]176
Как отмечает Тенгели, у самого Гуссерля различие между смыслоучреждением и смыслообразованием лишь намечено, но не прописано (Tengelyi L. Erfahrung und Ausdruck: Phänomenologie im Umbruch bei Husserl und seinen Nachfolgern. Dordrecht: Springer, 2007. S. 18), однако для ришировской версии феноменологии оно является ключевым.
[Закрыть]. В то же время речь не идет и о том, чтобы заменить уже надоевшего «героя» феноменологического нарратива – активного субъекта смыслонаделения – новым, «более модным» пассивным или аффицированным субъектом[177]177
Аффицированный субъект французской феноменологии был лирическим героем моей предыдущей книги, «Проблема метода» (2013).
[Закрыть].
История, которую хочет нам рассказать Ришир – это, в первую очередь, история становления смысла как такового, и только после этого – история сознания, субъекта, самости. И дело отчасти заключается в том, что тот субъект, или точнее, самость, от которой Риширу в конечном итоге не удается полностью избавиться, на роль «героя» решительно не годится. Определяющей чертой нового субъекта (а точнее, носителя) смыслообразования является потеря самодостоверности и контакта с самим собой – вплоть до «отторжения» собственного мышления.
Шаг, который нам предлагает сделать Ришир в ходе «гиперболической редукции», – это шаг в сторону «безумия»[178]178
Richir М. Meditations phenomenologiques. Р. 81. Интересный феноменологический анализ синдрома Кандинского-Клерамбо и синдрома Котара (когда больной отрицает собственное существование) в терминах «минимальной самости» см. в кн. Gallagher Sh. and Zahavi D. The Phenomenological Mind: An Introduction to Philosophy of Mind and Cognitive Science. New York: Routledge, 2008. P. 143.
[Закрыть], в сторону психотического расщепления, а точнее – в сторону «бреда контроля извне», характерного, скажем, для синдрома Кандинского-Клерамбо. Если взглянуть на предложенную Риширом критику Декарта[179]179
Критиковать Гуссерля под именем Декарта – это добрая феноменологическая традиция, идущая от Хайдеггера.
[Закрыть] с точки зрения психопатологии, то переход от психической нормы к патологии бросится в глаза. Действительно, в «Размышлениях о первой философии» мы читаем:
Наконец, мышление (cogitare). Тут меня осеняет, что мышление существует: ведь одно лишь оно не может быть мной отторгнуто (haec sola a me divelli nequit). Я есмь, я существую – это очевидно[180]180
AT VII 27, AT IX 21. Рус. пер. см. Декарт Р. Собр. соч.
[Закрыть][181]181
т. Москва: Мысль, 1994.
[Закрыть] [а авторизованный Декартом французский перевод герцога де Люиня, на который ссылается Ришир, добавляет: «la pensee est un attribut qui m’appartient – А.Я.].
Комментируя этот фрагмент, Ришир настаивает на том, что именно в данном вопросе, в вопросе о неотторжимости от меня моего собственного мышления, Декарт оказался недостаточно радикален. Ришир пишет:
Гиперболическое сомнение не доведено до конца: кроме самоапперцепции, которая необходимо понимается как рефлексия, ничто не ограждает меня от опасности, что мое мышление представляет собой всего лишь иллюзию мышления, что мои мысли – это мысли других или Другого. Иначе говоря, что еще препятствует тому, чтобы одно лишь мышление «не могло быть от меня отторгнуто»? Ведь в экстремальном случае, в случае психоза, мышление (бред) разворачивается «против моей собственной воли», то есть я не могу признать эти мысли своими собственными[182]182
Richir М. Meditations phenomenologiques. Р. 79–80.
[Закрыть].
Иначе говоря, если Декарт исходит из невозможности психотического опыта (нельзя предположить, что мое мышление мне не принадлежит, что не только содержание моих мыслей, но и само мышление навязано мне извне, злокозненным гением), то Ришир, напротив, считает, что патологический опыт психотического расщепления и деперсонализации представляет собой экстремальную, предельную – но все же легитимную грань общего опыта, которая может и должна быть учтена в философской работе. Утрата самовосприятия в рефлексии, утрата доступа к самому себе, диссоциация или даже деперсонализация – пусть не полная, а частичная, не постоянная, а временная – это не бессмысленное предположение, а часть нашей conditio humana.
Ришир – не первый французский философ, который сделал подобное замечание. Еще Мерло-Понти с присущей ему четкостью формулировок сказал, что «речь и личность возможны только для ‘я’, носящего в себе зародыш деперсонализации»[183]183
Merleau-Ponty М. La prose du monde. Paris: Gallimard, 1969. P. 26–27.
[Закрыть]. Словесная коммуникация, адресная речь и ее понимание предполагают, что границы «я» всегда отчасти размыты, что «я» не отделено от других непроходимой стеной самопрозрачности и ясности. Читатель книги – как и собеседник в разговоре – не отдает себе полного отчета в том, где кончается его собственная психическая деятельность и где в его душе начинает звучать голос другого; развоплощенное cogito, замкнутое на самом себе, прозрачное для самого себя – это всего лишь конструкт. В «Прозе мира» Мерло-Понти пишет:
«Я мыслю» значит: имеется некоторое место, называемое «я», где действие и знание о том, что я действую, неразличимы, где бытие совпадает с откровением самому себе, где никакое вторжение извне немыслимо. Подобное «я» не умело бы говорить <…> Я говорю и считаю, что это мое сердце говорит, я говорю и считаю, что на самом деле кто-то обращается ко мне, я говорю и считаю, что кто-то другой говорит во мне, или я считаю, что другой знает, что я хочу сказать до того, как я это скажу – эти часто связанные феномены должны иметь общий центр[184]184
Ibid.
[Закрыть].
Но если Мерло-Понти обращается к психопатологии потому, что видит в патологических проявлениях «аллюзию к фундаментальной функции», неявно присутствующей и в повседневном, нормальном опыте как «вариации и модальности целостного бытия субъекта»[185]185
Merleau-Ponty М. Phenomenologie de la perception. P. 125 / Мерло-Понти M. Феноменология восприятия, С. 148, перевод изменен. Ср. также: «Некоторые [психические] больные считают, что в их голове или в теле некто обращается к ним, или же что с ними говорит кто-то другой, хотя на самом деле это они сами произносят или по крайней мере бормочут слова. Что бы мы ни думали о соотношении больных и здоровых, для того, чтобы подобные патологии могли иметь место, необходимо, чтобы в самой природе речи была заложена возможность подобных модификаций. В самой сердцевине слова должно быть нечто, что делает отчуждение такого рода возможным. Когда про больных, испытывающих странные или спутанные чувственные ощущения собственного тела, говорят, что у них «коэнестетическое» расстройство [т. н. нарушения общего чувства тела, различные психомоторные нарушения – А.Я.], то это просто попытка изобрести категорию или ярлык вместо того, чтобы попытаться понять само событие, что называется, попытка ‘окрестить трудность’. Если приглядеться как следует, то становится ясно, что «коэнестетические» расстройства встречаются везде, что нарушения коэнестезии сопутствуют изменению наших отношений с другим» (Merleau-Ponty М. La prose du monde. P. 27).
[Закрыть], то мотивация Ришира, на наш взгляд, иная. Он не стремится показать на примере патологии, которая понимается как граничный момент нормы, какие-то существенные моменты этой самой нормы; переводя нас с помощью гиперболизированной редукции в мир «мерцающей» иллюзии, в мир «как если бы», Ришир выявляет патологический характер самой нормы, в частности, той самопрозрачности cogito, которую мы доныне принимали за само собой разумеющееся, за норму. Гиперболическая редукция служит тем приемом, обнажение которого позволяет обнаружить, или, точнее, «остранить» всю неестественность самопринадлежности, выявить внутреннюю театральность «я», якобы способного на постоянное удержание контакта с самим собой. «Онтологическая симуляция», приписывание трансцендентальному эго подлинного бытия на основе доступности cogito для психологической рефлексии оказывается не только интеллектуальной, но и моральной ошибкой: «интеллектуальная аскеза» феноменологического наблюдения, о которой мечтал Гуссерль, оборачивается «абсолютным нарциссизмом»[186]186
Richir М. Recherches phenomenologiques. Р. 38.
[Закрыть] субъекта, который видит в своем собственном бытии условие возможности феноменализации всех феноменов.
Гиперболизация феноменологической редукции, с одной стороны, и использование достижений французского структурализма, с другой, позволяют Риширу по-новому поставить классическую проблему «трансцендентальной видимости», или, как предпочитает говорить Ришир, «трансцендентальной иллюзии». Мы позволим себе кратко напомнить читателю историю этого вопроса. Понятие «трансцендентальной видимости» (Schein) появляется в начале «Трансцендентальной диалектики»: речь идет о «неустранимой иллюзии», связанной с субъективностью процесса мышления[187]187
«Логическая видимость, состоящая лишь в подражании формам разума (видимость ложных выводов), возникает исключительно из отсутствия внимания к логическим правилам. Поэтому стоит только сосредоточить внимание на данных случаях, и логическая видимость полностью исчезает. Трансцендентальная же видимость не прекращается даже и в том случае, если мы уже вскрыли ее и ясно увидели ее ничтожность с помощью трансцендентальной критики <…> Причина этого заключается в том, что наш разум (рассматриваемый субъективно как познавательная способность человека) содержит в себе основные правила и принципы своего применения, имеющие вид вполне объективных основоположений; это обстоятельство и приводит к тому, что субъективная необходимость соединения наших понятий в пользу рассудка принимается нами за объективную необходимость определения вещей самих по себе» (В353-354 / Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения в 8 т. М.: Чоро, 1994. Том 3. С. 272–273.).
[Закрыть]. Трансцендентальная видимость отличается как от логической ошибки, так и от ошибки суждения (когда рассудок неправильно интерпретирует данные чувственного созерцания); она связана скорее с «потребностью» разума достичь окончательной истины, когда он «слишком поспешно постулирует в самих предметах… беспредельную полноту ряда условий»[188]188
В366 / Кант И. Критика чистого разума. С. 280–281.
[Закрыть]. Другими словами, речь идет о применении трансцендентальных принципов и основоположений к эмпирическим ситуациям (например, к космологии). Гуссерль использует этот кантовский термин в нескольких смыслах, в частности, для описания одной совершенно конкретной трансцендентальной иллюзии, в которой трансцендентальное Я (всегда являющее себя в мире как человеческое Я), с этим человеческим Я (или его внутренним ядром) отождествляется; мы подробно обсуждали эту тему во введении[189]189
HUA XXXIV S. 286–292.
[Закрыть]. Гуссерлевское использование выражения «трансцендентальная видимость» изменяет смысл, который это выражение имело у Канта: ослабляется акцент на «потребности» разума в окончательных истинах, зато вводится различие между модусами явленности при эмпирическом и трансцендентальном рассмотрении. В свою очередь у Финка выражение der transzendentale Schein начинает указывать и на «парадоксы», связанные с отсутствием трансцендентального языка вне трансцендентального поля, обеспечиваемого редукцией[190]190
Подробнее о финковской интерпретации трансцендентальной кажимости см. Ikeda Yu. Transzendentaler Schein und phänomenologische Ursprünglichkeit – Welterfahrugen bei Husserl und Fink// Horizon. Studies in Phenomenology. 2014. № 3(1). С. 60–92.
[Закрыть]. Если феноменологическая работа осуществима только в трансцендентально-феноменологической установке, то как «поделиться» феноменологическим опытом с тем, кто сам в эту установку не перешел и сам трансцендентальным наблюдателем не является? Не оказывается ли любой «рассказ о феноменологии» на естественном, мирском языке неизбежной деформацией этого опыта, его искажением, недопустимым упрощением, умерщвлением? Как вообще возможна феноменологическая дескрипция, если «обмирщая» свой трансцендентальный опыт, «феноменолог» тем самым неизбежно «превращается в догматика»? В частности, четкое разделение и противопоставление между трансцендентальным и мирским «я» столь же обманчивы, сколь и их наивное отождествление: у нас просто нет и не может быть того языка, на котором это отношение могло бы быть выражено[191]191
Fink E. Studien zur Phanomenologie. S. 153–155. О проблеме трансцендентального языка в феноменологии см.: Шестова Е.А. Проблема трансцендентального языка в VI Картезианской медитации О.Финка // Вестник РГГУ, серия «Философия. Социология. Искусствоведение». № 5 (148), 2015. С. 69–79.
[Закрыть].
По сравнению с Финком и особенно с Гуссерлем позиция Ришира выглядит как своего рода шаг назад, к Канту. Вслед за Кантом Ришир настаивает на том, что от трансцендентальной иллюзии избавиться нельзя[192]192
Ср. «Этой иллюзии никак нельзя избежать… точно так же как даже астроном не в состоянии воспрепятствовать тому, что луна кажется при восходе большей, хотя астроном и не обманывается этой видимостью. Итак, трансцендентальная диалектика довольствуется тем, что вскрывает видимость трансцендентных суждений и вместе с тем предохраняет нас от ее обмана. Но она никогда не добьется того, чтобы эта видимость совсем исчезла (подобно логической видимости) и перестала быть видимостью» (B354 / Кант И. Критика чистого разума. С. 273).
[Закрыть]; значит, делает вывод Ришир, для того, чтобы преодолеть догматизм мышления, надо «сдаться» злому гению и признать, что я (феноменолог, человек, ограниченное, фактичное, воплощенное существо – а вовсе не трансцендентальное эго) не могу постоянно и достоверно различать мои собственные мысли и те, что навязаны мне извне[193]193
Gondek H.-D., Tengelyi, L. Neue Phänomenologie in Frankreich. S. 52–53. Литературный пример неспособности различить свои мысли и чужие см. у Киплинга в «Балладе о Томлинсоне».
[Закрыть]. Гиперболизированная редукция как приостановка всех «готовых к употреблению» смыслов выводит нас туда, где различие между «настоящим» и «иллюзорным» мышлением невозможно, да и не нужно. Все статические формы существования смысла, фиксированные с помощью тех или иных «символических структур», всякий смысл, который может быть так или иначе положен, определен и схвачен как таковой – все это подпадает «под удар» новой редукции. Если в области символического установления, в мире безличных смысловых структур соблазн догматизма[194]194
Ришир называет его «трансцендентальной склонностью» (Richir М. Meditations phenomenologiques. Р. 73; это отсылка к B671 I Кант И. Критика чистого разума. С. 481).
[Закрыть] непреодолим, то, значит, надо эту область покинуть. Статичные, готовые, претендующие на достоверность смыслы не относятся к области феноменологического как такового; мы не можем «отменить» символическое установление, потому что оно вписано в саму структуру языка, однако мы можем попытаться «выпрыгнуть»[195]195
Richir М. L’ecart et le rien. Conversations avec Sacha Carlson. Grenoble: J. Millon, 2015. P. 153.
[Закрыть] из него. И если интенциональный акт учреждал, фиксировал и даже «объявлял»[196]196
Richir M. Recherches phenomenologiques. P. 17. Cf. у Левинаса «“Это в качество того-то” есть не переживание, а высказывание… Отождествление всегда имеет характер возвещения. Сказанное есть не просто знак или выражение смысла: оно провозглашает это в качество того-то, оно посвящает это тому-то» (Levinas Е. Autrement qu’etre ou au-delä de Гessence. Kluwer, 1991. P. 61–63).
[Закрыть] смысл вещи, «предвосхищая» бесконечную ноэму на основе конечного числа апперцепций[197]197
Richir М. Recherches phenomenologiques. Р. 18.
[Закрыть], то, значит, новая, более радикальная редукция должна вывести нас за пределы интенционального отношения[198]198
«Суть гиперболического ἐποχή состоит, прежде всего, в приостановке… всех привычных интенциональных отношений» (Ришир Μ. Εποχή, мерцание и редукция в феноменологии // (Пост)феноменология: новая феноменология во Франции и за ее пределами. М.: Академический проект, 2014. С. 222).
[Закрыть] к миру, другим и самому себе и привести к структуре более глубокой и «комплексной», чем интенциональность[199]199
Richir М. Meditations phenomenologiques. Р. 23.
[Закрыть]. Отказываясь от «предпосылки тождества»[200]200
Строго говоря, речь у Ришира идет об отказе от «символической тавтологии бытия и мышления», основанной на предпосылке «симулякра темпоральности» (Richir М. Meditations phenomenologiques. Р. 90), но мне кажется, что термин В.И. Молчанова будет русскому читателю привычнее.
[Закрыть] по отношению к миру, феноменолог отказывается и от гипотезы, согласно которой его собственное «я» есть нечто самотождественное, res cogitans, которая, подобно плавящемуся воску, хоть и меняется, но постоянно сохраняет свою «сущность»[201]201
В этой концепции «субъекта в неустанном становлении», в постоянной работе субъективации, то возникающего из окружающей его анонимной среды, то погружающегося в нее обратно, заметно влияние как Левинаса, так и постструктуралистов, в частности, Лакана и Фуко.
[Закрыть]. Если воспользоваться лакановской оптикой, то можно продолжить мысль Ришира следующим образом: a certe videre videor, говорит Декарт, но утверждение, согласно которому субъект акта videre и субъект акта videor – это один и тот же субъект, исходит из предпосылки самоидентичности, то есть в конечном счете опирается на тот же самый онтологический симулякр.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?