Текст книги "О возвышенном"
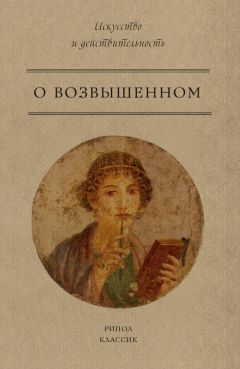
Автор книги: Анонимный автор
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Глава тридцать третья
1. Попробуем все же отыскать какого-либо действительно безукоризненного и безупречного писателя. Но прежде стоит выяснить вопрос о том, что считается лучшим в прозе и в поэзии, возвышенное ли с некоторыми погрешностями или гладкая посредственность, здравая во всем и чуждая ошибок. Этот же самый вопрос, клянусь Зевсом, можно предложить в ином виде: что важнее в произведениях, количество ли удачных мест или же их возвышенное содержание? Ответ тесно связан с самим возвышенным, поэтому им и предстоит теперь заняться.
2. Мне хорошо известно, что наименее безупречны огромные творения. Ведь тщательность во всем рискует обратиться в мелочность. В великих же созданиях, как и в чрезмерных сокровищах, должна быть обязательно какая-нибудь небрежность. Может быть, для ничтожных и посредственных творений, чуждых смелых дерзаний и высоких взлетов, вообще неизбежно тяготение к безошибочности и всемерной осторожности, а неустойчивость, вероятно, свойственна только великому из-за его величия.
3. Однако я никогда не забываю при этом еще об одном обстоятельстве, а именно о том, что человеческие деяния, как правило, привлекают к себе внимание преимущественно своими недостатками, наша память прочно цепляется за все промахи, а удачи неизбежно от нее ускальзывают.
4. Я сам привел уже немало недостатков, обнаруженных мной у Гомера и у других величайших писателей. Конечно, они не могли вызвать моих восторгов, но все эти оплошности скорее всего не сознательные отступления от прекрасного, а случайные промахи, допущенные неожиданно по недосмотру и невниманию автора, как следствие его гениальности, поэтому-то ничуть не сомневаюсь, что подобные авторы, несмотря на все свои просчеты, обладают вескими основаниями на признание их первенства, хотя бы даже за одно величие их духа. Хотя Аполлоний в своей поэме об аргонавтах1 показал себя безупречным поэтом, а Феокрит большинством своих буколических стихов был вознесен на вершину славы2, неужели ты предпочтешь быть Аполлонием, а не Гомером?
5. С другой же стороны, неужели Эратосфен в своей маленькой поэме «Эригона»3, свободной от недостатков, действительно выше Архилоха, который во власти вдохновения невольно подхватывает на своем пути что-то лишнее, постороннее и не признает в поэзии никаких заранее установленных правил? Неужели к тому же в хоровой поэзии ты выберешь для себя долю Вакхилида, а не Пиндара и в трагедии предпочтешь назваться Ионом Хиосским4, но не Софоклом? Конечно, Вакхилид и Ион никогда не ошибались в правилах, а неизменно писали красиво и гладко, Пиндар же с Софоклом в своих порывах способны все озарить ярким пламенем, но при этом оба могут так же неожиданно погаснуть или стремглав слететь вниз в неудачном падении. Но неужели какой-нибудь разумный открыто предпочтет все сочинения Иона одному только софокловскому «Эдипу»?
Глава тридцать четвертая
1. Если же мы начнем оценивать писателей по количеству их произведений, а не достоинству написанного, то даже Гиперида придется поместить выше Демосфена1. Более многоречивый Гиперид обладает значительными преимуществами, причем он всегда лишь чуть-чуть не набирает должной высоты. Он подобен атлету, который, уступая первенство в общей сумме очков пятиборья, неизменно выходит победителем в каждом отдельном виде соревнования.
2. Этот Гиперид подражает приемам Демосфена буквально во всем, за исключением, пожалуй, порядка слов; вдобавок он усваивает еще привлекательные особенности стиля Лисия. Поэтому, где это требуется, речь его льется с удивительной простотой; говорить он умеет, не придерживаясь строгой последовательности и однообразной манеры Демосфена; с приятной легкостью он сдабривает свои характеристики своеобразной сладостностью; тонкие остроты его просто восхитительны; он обладает прекрасным политическим чутьем и благородством, всегда зная заранее, где и когда вставить нужную шутку; шутки эти всегда уместны и ничем не напоминают грубые непристойности известных аттических остряков; он может мастерски поглумиться, разыскать вдоволь смешного, пребольно кольнуть ради забавы: словом, во всем этом он прелестен неподражаемо. Никто лучше его не сумеет вызвать сострадание, а с какой непринужденностью распространяется он о всевозможных историях и порхает с одной темы на другую, словно подгоняемый легким дуновением ветерка. Разве не поэтичен его рассказ о Латойе? А знаменитое надгробное слово2, которое он произнес так торжественно, как, по-моему, не сумел бы никто другой.
3. Демосфен же совершенно не признает бытовых характеристик; он избегает лишних слов и далек от словесной гибкости и пышности; зачастую он вообще лишен тех достоинств, о которых я говорил выше. Где Демосфен силится проявить свое остроумие и тонкость, там он становится просто смешным; а стоит ему пуститься на поиски приятной обходительности, она покидает его бесследно. Если бы ему вздумалось сочинять пустяковые речи о Фрине или Афиногене3, все преимущества Гиперида оказались бы вообще бесспорными.
4. Все прекрасные особенности ораторского искусства Гиперида при всем их многообразии представляются мне лишь бесплодными ухищрениями бесстрастного и холодного разума. Ведь речи Гиперида не трогают слушателей, оставляя их совершенно безучастными, никогда никто не испытал душевного смятения, читая его речи. Напротив, исключительная одаренность Демосфена, как и его неизменное превосходство над всеми, наиболее полно раскрывается именно в том, что совершенно отсутствует у Гиперида. Они в размахе, в одухотворенной страстности, в постоянном превосходстве над противником, в проникновенной глубине, в поразительном величии и в доступных лишь ему одному мощности и силе. Только Демосфен сумел сосредоточить в себе самом все эти безмерные дары, ниспосланные богами. Я говорю так, потому что их невозможно назвать дарами человеческими. Именно поэтому, как мне кажется, он неизменно побеждает всех, используя только ему одному доступные средства, в которые включает даже свои недостатки. Словно громом и молнией Демосфен неизменно поражает всех ораторов, которые когда-либо были или будут. Скорее широко раскрытыми глазами можно созерцать вспышки молний, чем устоять перед его страстными и проникновенными речами.
Глава тридцать пятая
1. Ho и у Платона, как я уже отметил, есть свое преимущество. Он далеко превосходит Лисия не столько величием своих совершенств, сколько их количеством. А тот, в свою очередь, скорее преуспевает в пороках, чем уступает Платону в достоинствах речей.
2. О чем же думали величайшие писатели, когда, стремясь к величию целого в своих речах, забывали подчас о тщательности в отделке мелочей? Причин этого немало, но среди них была одна, главная. Ведь природа никогда не определяла нам, людям, быть ничтожными существами – нет, она вводит нас в жизнь и во вселенную как на какое-то торжество, а чтобы мы были зрителями всей ее целостности и почтительными ее ревнителями, она сразу и навсегда вселила нам в душу неистребимую любовь ко всему великому, потому что оно более божественно, чем мы1.
3. Поэтому человеку недостаточно охватить созерцанием и размышлением всю вселенную; нашим мыслям тесно в ее пределах, и если кто-нибудь поразмыслил бы над ходом человеческой жизни, насколько в ней во всем преобладает великое и прекрасное, то ясна станет цель нашего рождения.
4. Вот почему в силу нашей собственной природы нас, клянусь Зевсом, восхищают не маленькие ручейки, сколь бы прозрачными и полезными ни были бы они для нас, а Нил, Истр, Рейн и, конечно, больше всего – сам великий Океан2. И не ясное пламя огонька, зажженного нами здесь на земле, вызывает наше неизменное восхищение, а свет небесных светил, хотя он нередко застилается мглой; а разве можно признать что-нибудь более изумительное, чем кратеры Этны, извержения которой исторгают из подземных глубин камни, целые скалы и мчатся иногда чистыми потоками подземного огня?
5. Но кратко можно выразить все это в следующем: насколько безразличны люди ко всему привычно обыденному, даже необходимому им, настолько поражает их все неожиданное и необычное.
Глава тридцать шестая
1. Выше мы говорили о таких произведениях великих писателей, в которых необходимое и полезное тесно связано с возвышенным, теперь остается добавить, что авторы подобных книг при всех своих заблуждениях высоко вознесены над всем человеческим родом. Ведь только одному возвышенному дано увлекать нас к пределам божественного разума, а прочее все предназначено лишь для удовлетворения насущных житейских потребностей; конечно, и плавная беглость речи избавляет автора от упреков, но лишь подлинно великое вызывает восхищение.
2. Разве не следует здесь сказать также о том, что каждый из подобных авторов зачастую одним возвышенным оборотом заставляет забывать все его промахи, и, наконец, самое главное, о том, что если выбрать все промахи Гомера, Демосфена, Платона и остальных величаиших писателен, то все их ошибки, вместе взятые, окажутся совершенно незначительными, вернее, не составят даже и малой доли среди несомненных успехов в произведениях этих замечательных мастеров? Поэтому-то все века и все поколения, если только они не охвачены безумием зависти, воздают им победные почести, которые и до сих пор неотделимы от них и, конечно, останутся за ними,
Воды доколе текут и пышно леса зеленеют1.
3. Впрочем, кто-то сказал, что Колосс со всеми его недостатками отнюдь не выше поликлетовского Дорифора2. Такому писателю, кроме всех прочих возражений, следовало бы еще указать на то, что, хотя памятники искусства должны поражать нас тщательностью своей отделки, а произведения природы – величием, только одному человеку от природы свойствен дар речи. Поэтому в статуях обычно ищут сходства с человеком, в речах, как я уже говорил, следует искать то, что возвышает их над повседневной человеческой жизнью.
4. Предстоящий вывод вновь возвращает нас к началу нашего сочинения; так как умение избегать ошибок приходит с мастерством, а возвышенное, даже неравномерно распределенное, проявляется в природном даре, то всегда и везде мастерство подобает призывать на помощь природе. Лишь в их обоюдной взаимосвязи возможно рождение совершенного произведения.
Только так надлежало ответить на поставленный вопрос. Впрочем, пусть каждый выбирает то, что ему более по душе.
Глава тридцать седьмая
1. Но вернемся вновь к метафорам, ближайшими соседями которых являются сравнения и уподобления. Последние отличаются от метафор только тем, что…
(В рукописи отсутствуют два листа.)
Глава тридцать восьмая
…также и такие выражения: «Разве только ум ваш ушел в пятки, и вы растоптали его…»1
Всегда необходимо знать тот предел, до которого в каждом отдельном случае можно довести гиперболу2, ведь стоит лишь немного нарушить установленную границу, как гипербола исчезает, ослабевает напряжение, создается впечатление, совершенно противоположное тому, к которому стремился автор.
2. Исократ, например, даже впал в какую-то странную ребячливость из-за своей постоянной приверженности к преувеличениям. Тема его «Панегирика», как известно, сводится к тому, что Афины имеют больше заслуг перед всей Элладой, чем Спарта, с этого он прямо начинает во вступлении: «Сила слов настолько велика, что способна великое сделать малым, малое – изобразить огромным, давно известное всем – выразить по-новому, а дела
недавнего времени – представить на старый лад»3. Вот тут-то уместно спросить нашего оратора: «Неужели, Исократ, ты и дальше только в подобной манере намерен излагать все, что касается афинян и спартанцев?» Ведь этим славословием Исократ сам взывает к своим слушателям, убеждая их не доверять его речам.
3. Итак, как мы уже сказали относительно фигур, лучшими гиперболами следует признать такие, в которых гиперболы с трудом распознаются. Писатель овладевает этим искусством тогда, когда под влиянием сильного возбуждения обращается к гиперболам и они звучат у него в один лад с величием описываемого. Так поступает, например, Фукидид в рассказе о разгроме афинян в Сицилии. «Сиракузяне, – говорит он, – спускаясь вниз, в первую очередь поражали тех, кто находился возле реки, и вода тотчас же становилась непригодной для питья. Но тем не менее ее все же пили, пили вместе с грязью и кровью, многие даже дрались из-за нее»4. Чрезмерность страданий и ужас положения афинян стали достоверными благодаря рассказу об этой воде, смешанной с грязью и кровью, каждый глоток которой приходилось к тому же отстаивать.
4. В рассказе о павших при Фермопилах Геродот пользуется тем же самым приемом. «Всех их, – рассказывает он, – оборонявшихся мечами, в случае если они еще у кого-нибудь оставались, либо же кулаками и зубами, варвары засыпали здесь своими стрелами»5. «Как же возможно, – воскликнешь ты, – зубами оказывать сопротивление врагам, облаченным в доспехи? Разве можно быть погребенным под грудами стрел?» Без сомнения, это так; ведь данный факт не придуман ради этой гиперболы, но, наоборот, гипербола является удачным порождением описываемого события.
5. Я никогда не перестану твердить, что полную свободу самым смелым оборотам предоставляют лишь самые необычайные события и переживания, которые иногда даже исправляют подобные обороты; поэтому даже комедийные выражения, выходящие за рамки достоверного, мы воспринимаем как вполне вероятные, благодаря тому что они предназначены вызывать смех:
Все его поле меньше, чем табличка для письма6.
Ведь смех всегда является радостным переживанием.
6. Гиперболы одинаково связаны как с преувеличением, так и с преуменьшением, так как их общее свойство – чрезмерность. Таким образом, смешным здесь становится разрастание ничтожного.
Глава тридцать девятая
Из тех источников возвышенного, которые я указал в самом начале, нам осталось, друг мой, рассмотреть пятый – сочетание слов и предложений. В двух других сочинениях я исчерпывающим образом изложил все, что смог, по этому вопросу; тут же еще остается добавить, что гармоническое сочетание не только по самой своей природе способствует убедительности речи и удовольствию от ее восприятия, но обладает особым средством для свободного проявления возвышенного.
2. Известно, что даже флейта внушает слушателям такие чувства, которые заставляют их как бы расставаться с рассудком и впадать в состояние, близкое к безумию. Флейта способна подчинить слушателя своему ритму и заставить его, даже полностью лишенного всякой музыкальности, ритмично двигаться в такт ее напева. А совершенно бессодержательные звуки кифары, благодаря смене звучания, отношению различных звуков и, наконец, искусному сочетанию, производят, как тебе хорошо известно, поразительное и даже, клянусь Зевсом, чарующее впечатление.
3. Но музыка с ее воздействием всего лишь искусственно заменяет то истинное убеждение, для которого обязательна сознательная человеческая деятельность, о чем я говорил уже неоднократно. Все это представляется мне общеизвестным. Неужели мы станем возражать против того, что сочетание слов и предложений тоже представляет собой гармонию, но не гармонию звуков, а слов – того дара, который свойствен лишь людям. В гармонии слов рождается пестрая вереница представлений о словах, мыслях, определенных предметах; в ней же заложены разнообразные виды того прекрасного и благозвучного, чем мы наделены от рождения и с чем навсегда породнились; благодаря единству и многообразию своих созвучий эта гармония вливает незаметно в сердца слушателей те глубокие чувства, которые свойственны самому оратору, и таким образом слушатели приобщаются к величию гармонии. А разве в общем сочетании мыслей и слов такая гармония не становится созвучной величественному? Разве всеми своими средствами не чарует она нас и, всецело овладев нашей волей, разве не увлекает каждый раз к чему-то значительному, торжественному и возвышенному, т. е. ко всему тому, чем преисполнена она сама? Оспаривать эту непреложную истину, достоверность которой подтверждена всем человеческим опытом, взялся бы лишь явный безумец.
4. Сколь возвышенным и поразительным представляется нам, например, то, что высказал однажды Демосфен по поводу некого постановления народного собрания: «Псефисма эта опасность, повсюду грозившую городу нашему, прочь увлекла, словно тучу»1. Гармония слов и звуков тут равнозначна самой мысли. Вся фраза построена в дактилическом ритме2, самом благородном и самом величественном, так как это размер героический, к тому же еще самый прекрасный из всех известных нам. Попробуем же куда-нибудь в другое место переставить слова «прочь увлекла, словно тучу». Скажем хотя бы так: «Псефисма эта, словно тучу, увлекла прочь опасность, повсюду грозившую нашему городу», – или же в слове «словно» сократим один слог и скажем «как тучу». Готов поклясться Зевсом, что любому станет ясно, насколько гармония созвучна возвышенному. В выражении «словно тучу» первое слово образует двусложную стопу, а в словах «как тучу» две равнозвучащие двусложные стопы заменены полуторной стопой, причем первая, потеряв один слог, утратила с ним все возвышенное. Стоит только к двусложной стопе добавить еще один слог – «словно как тучу» – результат окажется таким же: содержание не изменится, а общий ритм разрушится и в своем падении увлечет за собой возвышенное.
Глава сороковая
1. Речь, претендующая на возвышенность и величественность, прежде всего, подобно живому телу, должна отличаться тесной взаимосвязью всех своих членов; как члены тела в отдельности не заслуживают никакого внимания, но в совокупности образуют совершенное и законченное целое, так стоит только разложить на составные части приемы, применяемые в создании возвышенных речей, как все возвышенное рассеется между этими частями, а объединенные в единое целое и связанные узами всеобщей гармонии, эти приемы сразу приобретают звучание в своей целостности. Таким образом, общую возвышенность речи, образованную совокупностью самых разнообразных приемов, можно сравнить с пиром, организованным вскладчину.
2. Всем нам хорошо известно, что многие писатели и поэты, которые либо от природы были лишены возвышенного, либо сознательно пренебрегали им, предпочитали простые разговорные слова и обороты, но произведения их не казались низкими, а, наоборот, производили впечатление торжественных и значительных исключительно из-за сочетания и гармонического расположения слов; в числе многих к ним можно отнести Филиста1, иногда даже Аристофана, но более всех прочих Еврипида.
3. Вот, например, как говорит у Еврипида Геракл после убийства своих детей:
Я так исполнен бед, что новым места нет2.
Весьма обычное разговорное выражение стало здесь возвышенным благодаря связи со всем целым; если эти же слова расположить в ином порядке, то выяснится сразу же, что сила Еврипида скорее в построении, чем в содержании.
4. Описывая страдания привязанной к быку Дирки, поэт говорит так:
…вокруг
Повсюду бык метался. Вслед с собой тащил
Деревья, те, что мог, ее, обломки скал…3
Хотя здесь благородно уже само содержание, оно становится еще более внушительным из-за того, что гармоничное сочетание развивается постепенно, а не стремглав; отдельные слова поддерживают друг друга, опираясь на конечные ударные слоги, и в своем единстве обретают зрелое величие.
Глава сорок первая
1. С другой же стороны, ничто не принижает так возвышенную речь, думается мне, как прерывистый и торопливый размер, вроде пиррихия, трохея, дихорея1, т. е. тех ритмов, которые уместны лишь в плясовых напевах; впрочем, любая речь, выдержанная в сплошном ритме, выглядит нарочито изысканной, неприятной, лишенной чувства и даже поверхностной из-за своего унылого однообразия.
2. Самое же опасное заключается в том, что подобные сплошь ритмизованные речи никогда никого не воодушевляют страстностью своего содержания, но, подобно легким и бессодержательным песенкам, предназначенным отвлекать и услаждать слушателей, они привлекают к себе внимание одним только ритмом, и нередко случается, что слушатели в свою очередь, уловив хорошо знакомые им напевы, начинают стучать ногами в такт словам оратора и, как в танце, спешат скорее завершать музыкальную стопу, пренебрегая смыслом и опережая оратора.
3. В равной же степени лишены возвышенного речи вычурные, составленные из коротеньких слов, как будто сколоченные гвоздями в тех местах, где образуются какие-нибудь несуразности или шероховатости.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































