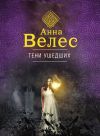Текст книги "Хроники преисподней"

Автор книги: АНОНИМYС
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Загорский не совсем понял, о чем речь, пришлось разъяснять. ХЛАМ – так называлось сообщество художников, литераторов, актеров и музыкантов, образованное в Соловецком лагере. Основной его деятельностью были театральные представления.
– Так у вас и театр есть? – удивился Нестор Васильевич.
– Три театра, – с восторгом отвечал Цыган, – три. «Театр Культа» – это администрация. «ХЛАМ» – бытовики, каэры и прочие мелкие фраеры. «Свои» – там блатата, жиганы и урки, как есть все свои.
– И какой же лучше?
Яшка озадаченно переглянулся с Камышом.
– Все лучше, – неожиданно сказал Пичуга, до сего момента молчавший. – «Свои» – это жизнь воровская, малинная, ну, и лагерная, само собой. А которые хламовцы – там жизнь красивая, шикарная, там классика. Ну, и лагерь тоже, конечно.
– И что же, сил хватает после работы представления ставить? – не поверил Нестор Васильевич.
– У кого как, – весело отвечал Цыган. – Особо ценные фраерские кадры вроде режиссеров, драматургов и актеров от работы освобождаются.
– Совсем?
– Совсем. Театр – ихняя работа.
Загорский только головой покачал. Это было поистине удивительно. Из того, что он видел на Соловках выходило, что главной задачей администрации было поскорее отправить на тот свет как можно больше заключенных. С чего вдруг им дался театр?
Братва с охотой объяснила ему, что поначалу театр делался для показухи, для туфты – что вот, мол, не только на тот свет загоняем людей, но и развлекаем их при этом. Идейно, понимаешь ты, развиваются, растут над собой заключенные. Однако дело неожиданно пошло. Театр полюбили и заключенные, и начальство. А поскольку после двенадцати часов работы в лесу или в торфяном болоте репетируется и правда не очень, решили наиболее ценные кадры освободить от производительного труда.
– Любопытно, – кивнул Загорский. – Так где, говорите, живут эти слуги Мельпомены?..
Рабочий день, благодаря выдумке Нестора Васильевича и в этот раз прошел не слишком обременительно. Срезание клейма с дерева и выдача старого куба за новый не вызывала у приемки никаких подозрений. Главное было, чтобы стрелки-охранники под ногами не путались.
– Нам тебя Бог послал, Василий Иваныч, – радовался Яшка-Цыган, привалившись к дереву и блаженно щелкая семечки, которых у него был полный карман – выиграл накануне у какого-то лопуха.
– Бог-то Бог, да и сам будь неплох, – раздумчиво замечал Камыш. – Тут главное – братве не проболтаться. Если все так делать начнут, начальство непременно просечет.
Вечером после ужина, который благодаря заботе шпаны был у Загорского вполне терпимым, к нему осторожно приблизился Куприн.
– Позвольте обратиться, вашество? – елейно проговорил он, косясь, нет ли поблизости Яшки.
Нестор Васильевич подошел к старосте, спросил может ли он прогуляться возле собора.
– Отбоя не сигналили пока, – отвечал тот, – но далеко не ходи, чтоб перед начальством не отсвечивать.
Загорский и Куприн вышли на улицу, их обволок влажный холодный туман.
– Как покушали, господин Загорский? – с ехидцей спросил филер. И, не дожидаясь ответа, молвил: – Покушали, покушали, я видел. А вот я, между прочим, с голоду загибаюсь.
– Баланда на всех одна и та же, – сухо заметил Загорский.
– Да ведь это как налить, как налить! – встрепенулся Куприн. – У вас в баланде и рыбочка плавает, и мясцо попадается, а у меня – отвар один да полкартошки. Запас хлебушка слопал я первый же день, следующий только через неделю будет. А вы тут ходите гоголем.
– Чего же ты от меня хочешь? Чтобы я тебе из свой миски наливал?
Онисим Сергеевич огорчился: зачем же так грубо? Они же теперь, так сказать, товарищи по оружию, у них одна цель.
– Кстати, о цели, – перебил его Нестор Васильевич. – Известно ли вам что-нибудь о некоем Арсении Федоровиче Алсуфьеве?
– Бытовой, политический, каэр? – деловито спросил Куприн.
– Каэр.
Куприн задумался. С каэрами хуже всего. Их тут как мух, если лично человека не знаешь, поди найди. На общей перекличке разве что… Но это надо быть уверенным, что он с тобой в одной роте. Но даже если и так, ты-то сам в строю стоишь, так что если не прямо рядом с тобой, не увидишь человека ни за что.
Нестор Васильевич в задумчивости почесал подбородок, потом поднял глаза на Куприна. Лицо того бледно плыло в тумане и казалось непропеченным блином, лишенным человеческих черт.
– Могу ли я попросить, чтобы вы, используя ваш профессиональные навыки, попытались найти Алсуфьева на территории лагеря?
– Ох, ваше превосходительство, боюсь вас огорчить, – покачал головой собеседник. – В лагере – тысячи человек, разбросаны по разным местам, по разным ротам. Где тут найти одного, если не имеешь доступа к документам? Тут надо бы с высшим начальством дружбу завести.
– И на какой же почве, по-вашему, мог бы я завести с ними такую дружбу? – полюбопытствовал Загорский.
– А мне-то откуда знать? – развел руками Онисим Сергеевич. – Я человек маленький, моя хата с краю. Такие вопросы только вам доступны, у вас ум великий, стратегический.
– Видите ли, Куприн, – раздельно, не торопясь заговорил Нестор Васильевич. – Вы были совершенно правы, предполагая, что я не захочу оставаться здесь надолго. Как я и обещал, уходя отсюда, я возьму вас с собой. Но произойдет это не раньше, чем мы найдем Алсуфьева…
С этими словами Загорский развернулся и пошел обратно в собор. За ним, что-то суетливо и горестно бормоча себе под нос, поспешал бывший филер.
Глава пятая. Смерть артиста
Князь М-ов проснулся от сильной боли в сердце. Казалось, его проткнули раскаленной иглой и теперь возили эту иглу туда и обратно, а сердце исходило смертным ужасом и тоской. Это было страшно и странно, потому что, несмотря на возраст и перенесенные лишения, сердце у князя было здоровое и никогда его не беспокоило.
Боль, впрочем, утихла, едва только князь открыл глаза. Некоторое время он лежал, глядя в холодный потолок кельи. Сердце больше не болело, зато явственно дал знать о себе мочевой пузырь. По договоренности с соседями парашу они в келье не держали. Люди здесь жили интеллигентные и полагали невозможным справлять нужду у всех на глазах, словно какая-то шпана. Если кому приспичило, человек вставал даже ночью и шел в отхожее место или, как его тут называли, на дальняк.
Князь был уже человеком в возрасте, а потому в туалет вставал два, а иной раз и три раза за ночь. Но не роптал. Да и на кого было роптать? На старость, на здоровье, на законы природы? Надо было радоваться, что его, бывшего, и более того – каэра, вытащили из общих бараков, назначили артистом и поселили в келье на несколько человек. Далеко не все господа артисты могли похвастаться благородным происхождением, хотя почти все были люди приличные, если такое слово вообще применимо к артистам. Впрочем, и артистами они ведь стали по несчастью – чтобы избежать тяжелой лагерной судьбины. В любом случае, соседи ни в какое сравнение не шли с ужасными уголовниками, вместе с которыми жил он первые недели пребывания в лагере, пока его не заприметил Миша Егоров, он же – Парижанин.
– Прекрасный образчик аристократической дегенерации! – воскликнул Миша, и судьба князя была решена.
Сам Миша, происходивший из купцов, большого пиетета в аристократии не питал и звал князя то боярином, то бароном-изгнанником. Но М-ов терпел это с поистине христианским смирением. Какая разница, как зовут, лишь бы держали подальше от уголовной братии!
Сегодня, как и во все другие ночи, князь поднялся с постели, надел брюки, свитер, сильно поношенное, но крепкое еще пальто неразличимого оттенка и направился к так называемому центро-сортиру, который устроили уголовники в здании полусгоревшего Настоятельского корпуса. Сортир находился метрах в двухстах, которые князь намерен был преодолеть за пару минут бодрой старческой трусцой.
По дороге почудилось князю, что за спиной его шмыгнула какая-то тень. Князь оглянулся на ходу, но в слабом свете ущербной луны ничего не увидел. Князь был человек верующий, а, следственно, не суеверный. В привидения он не верил, а посему уверенно продолжал свой путь.
Добравшись, наконец, до центро-сортира, князь встал над надлежащей дыркой, расстегнул брюки и собрался с чистой совестью сделать то дело, которое равно предписала природа и аристократам и последним уголовникам.
Внезапно за спиной его раздался какой-то шорох. Князь захотел было повернуть голову, но не успел – уши его заполнил мерзкий звук протыкаемой плоти.
Он все-таки пытался еще повернуть голову и посмотреть, что это там происходит, за спиной, но не мог: что-то мешало ему. Спустя пару секунд он ощутил, что в груди возникло какое-то странное неудобство. После этого князь почувствовал неприятную слабость в ногах. Он в недоумении опустил взгляд на грудь и увидел, что из нее торчит, тускло поблескивая, кусок длинного и узкого клинка.
– Господа, – хотел сказать князь, – что происходит?
Он хотел добавить еще, что тут какая-то ошибка, но губы не повиновались ему. В груди неожиданно сделалось очень жарко. Князь увидел, что лезвие, словно змея, уползло назад, в его тело. Внезапная ослепительная догадка озарила сознание. Князю, наконец, сделалось все совершенно ясно. Более того, он понял все обо всем, понял даже про жизнь не только свою, но и всего человечества. Но сказать, увы, ничего уже не смог.
Глаза его заволокла тьма и тело, повинуясь легкому дружескому толчку сзади, повалилось в выгребную яму…
* * *
Страшная, позорная гибель князя М-ова не только ужаснула сокамерников, но и нанесла тяжелый удар по соловецкому сообществу художников, литераторов, актеров и музыкантов – он же ХЛАМ. Князь исполнял возрастные роли – начиная от благородных отцов и заканчивая сатирическими портретами зарубежных президентов и иностранных шпионов. Гибель князя поставила под удар планируемую через неделю премьеру, не говоря уже о более далеких перспективах.
– Жаль старика, но незаменимых у нас нет, – с подобающей случаю печалью сказал режиссер Глубоковский и временно ввел на его роль другого артиста, Ивана Калитина, который хорошо знал текст.
Бенефис Калитина закончился не менее печально: после первого же спектакля в новой роли его тоже зарезали под покровом ночи.
После двух подряд убийств взбесилась администрация в лице Васькова. Убивать заключенных без суда и следствия могло только начальство, в крайнем случае – уголовники с санкции того же самого начальства. Смерть, не согласованная с вышестоящими инстанциями, как бы демонстрировала, что не все тут зависит от ОГПУ, а неожиданные свободы прорываются в лагерь хотя бы в таких страшных и нечеловеческих формах.
Васьков вызвал к себе Мишу Парижанина, который отвечал за ХЛАМ перед администрацией. Миша стоял навытяжку перед всемогущим начальником административной части. Дебелое чудовище пронзительно глядело на него из-под тяжелых бровей маленькими, как у лесного кабана, и такими же яростными глазами.
– Кто убил? – спросил Васьков.
Миша развел руками.
– Родион Иванович, откуда же мне…
– Молчать, – сказал Васьков. – Молчать.
Он встал из-за стола и обошел вокруг Егорова. Родион Васьков не был таким уж безумно толстым и не был высоким, но на общем фоне соловецких доходяг казался каким-то сказочным великаном. Возможно, он даже не был таким уж жестоким, однако зная, что начальник административной части в любой момент может отправить человека на тот свет, перед ним трепетали все заключенные – кроме, может быть, политических. Но у тех, как известно, был особый счет, они не боялись даже Ногтева.
– Кто убил, мы найдем, – проговорил Васьков хмуро. – Но театр должен работать.
– Само собой, Родион Иванович, – заговорил Миша, но опять ему не дали закончить. И он, признаться, был этому даже рад, потому что сам еще не понимал, как же будет работать театр без князя.
Васьков сказал, что премьера должна выйти вовремя. Ее ждут не только заключенные, черт бы с ними – премьеры ждет администрация.
– Сделаем все, что возможно, – бодро заявил Егоров.
– Что возможно, и что невозможно, – отчеканил Васьков. Он еще раз обошел вокруг Парижанина и внезапно сказал: – И кстати, хватит с нас каэров. И так слишком много их у вас в труппе. Не театр, а контрреволюция и саботаж.
– Но, Родион Иванович… – Миша не на шутку растерялся. – Кто же будет играть иностранцев, аристократов и прочую нечисть? Уголовники не потянут. Откуда же брать артистов?
– Думайте, заключенный Егоров, на то вам и мозги даны, – отрезал Васьков.
Выйдя от начальника административной части, Миша схватился за голову.
Чего вдруг Васьков, которому столько же дела было до каэров, сколько до американских индейцев, решил отстаивать революционные идеалы, понять было никак нельзя. Даже замначальника по воспитательной части Коган, к которому Васьков всегда прислушивался, ничем помочь театру не смог.
– Взбесился, – жаловался он Мише, – просто взбесился наш орангутан.
И хотя обычный орангутан рядом с Васьковым казался верхом утонченности и изящества, но Парижанин все-таки надеялся на свое обаяние и деловитость.
– Уломаю, – говорил он товарищам по ХЛАМу, – заговорю до смерти.
Однако после разговора с Васьковым стало ясно, что никого он не уломает. В жизни Миши это был второй случай, когда ему не удалось уговорить собеседника. Первый имел место во время заседания Коллегии ОГПУ, которая и отправила его на Соловки.
Вы, конечно, спросите, чего вдруг Мишиной личностью занимался верховный орган карающего меча Коммунистической партии? Вопрос непраздный. Папаша Мишин был московским купцом, сам же Миша, обладавший сверхъестественным нюхом, в 1917 году неожиданно для всех вступил в партию большевиков.
– Что ты делаешь, сынок?! – согласно семейной легенде, воззвал к нему старик отец. – Зачем позоришь меня перед людьми?
– Спокойно, папаша, вы еще будете на меня молиться, – отвечал Миша.
И точно. Не прошло и нескольких месяцев, как случился Октябрьский переворот, который сам Миша на великосветский манер звал «рэволюцией». После этой «рэволюции» большевистские связи Миши Егорова оказались очень кстати. Пока жители новой, коммунистической России дожевывали последний кусок хлеба, Мишу, как большевика, знакомого с коммерцией, отправили по линии Торгпредства в Париж.
Нужно ли говорить, что Париж полюбил Мишу как родного? Кутежи, попойки, развлечения с барышнями счастливо разнообразили скучную финансовую деятельность. И кому это все помешало, учитывая, что с работой своей Миша справлялся блестяще?
Злые люди, ничтожные завистники, подлые кляузники наябедничали на Мишу московскому начальству. Руководство, скорое на расправу, вызвало Мишу на родину и после небольшого расследования отправило на Соловки.
Здесь за свое прошлое и общий французский шик он немедленно получил прозвище Парижанин, которое приклеилось к нему до такой степени, что даже в администрации редко кто произносил его фамилию, но только лишь прозвище.
Обаяние Миши было так велико, что по прибытии в СЛОН даже самый отчаянный урка не посягнул на его одежду, напоминавшую о славных подвигах времен французской жизни. Парижанин тут же спелся с артистической богемой, представителей которой на Соловках оказалось преизрядно. Этот интернациональный котел, который до появления Миши бурлил и кипел вхолостую, наконец обрел форму и направление. Именно с подачи Парижанина и при непосредственном его участии был организован легендарный ХЛАМ – сообщество художников, литераторов, актеров и музыкантов. И хотя большинство этих босяков от искусства были специалистами, как говорил тот же Коган, «немножко второй руки», но для исправительно-трудового лагеря этого вполне хватало.
Постановки ХЛАМА сопровождались неизменными восторгами публики. Заключенные рвались попасть на спектакли, билеты продавались по великому блату, цена на них доходила до цены крепких ботинок. Не было в лагере радости более яркой и изысканной, чем посещение спектаклей – перед этим отступали даже радости случайного соития с заключенными женщинами.
Но теперь, после смерти сразу двух актеров и ультиматума Васькова, ХЛАМ оказался в совершенно безвыходной ситуации. Калитин был недурной актер, но на роль подходил не очень, поэтому и введен был временно. Зато покойный князь артистического таланта не имел никакого, но это было и неважно. Стоило ему повернуть гордо посаженную голову и красиво програссировать любую ерунду, как все забывали о том, что же именно он такое говорит: и половина зала исполнялась восхищения, а другая половина – тяжелейшей классовой ненависти.
И вот такой человек погиб и, скорее всего, от уголовного шабера – вряд ли его убили бытовики или каэры. Кого теперь вводить на роль, если учесть, что каэров брать нельзя, а уголовники не справятся? Остаются политические, духовенство и бытовики. Но политические живут совершенно отдельной жизнью в своем Савватиевском скиту и как сыр в масле катаются, не будут они перед администрацией на сцене фиглярствовать. Духовенство тоже не станет – театр для них грех и соблазн. Бытовики? Но в массе своей это люди совсем простые – и мозгами, и внешностью, и манерами. Как бытовик сможет заменить аристократа княжеской крови?
После ужина собрали срочное совещание хламовцев. Проходило оно в «Индийской гробнице», точнее говоря – в камере индуса Набу-Корейши.
Корейша по лагерным понятиям был почти козырный туз – и не потому, что индиец, тут и не такую экзотику видали. До того, как попасть в лагерь, Корейша представлял в СССР крупную индийскую фирму. Когда доблестные чекисты повязали его за шпионаж, фирма не забыла своего работника и грела от души, или, говоря фраерским языком, переводила на его лагерный счет солидные суммы. На руки, разумеется, никто ему этих денег не давал, да и зачем в лагере британские фунты стерлингов – зад, что ли, ими подтирать? Зато был в лагере закрытый кооператив НКВД. И вот там-то Корейша и отоваривался, и отоваривался так знатно, что мог угощать товарищей по несчастью настоящим черным кофе и печеньем – лафа, мало кому доступная даже и на воле. На те же индийские пиастры он выбил себе отдельную келью – светлую и теплую. Между нами говоря, многие свободные советские граждане могли только мечтать о подобных условиях проживания. Для теплолюбивого же индуса и его русских друзей из ХЛАМа такая келья была просто спасением. Ее назвали «Индийской гробницей» и сделали штаб-квартирой ХЛАМа.
Прибывшие в этот вечер в келью к Корейше театральные деятели почтили память покойных коллег вставанием, после чего Миша кратко описал сложившуюся ситуацию.
– Гибнем к чертовой матери. И всему виной дегенерат Васьков.
Богема ненадолго задумалась. Первым голос подал деникинский офицер Акарский, амплуа героев-любовников.
– Отправить Васькова в шестнадцатую роту, – произнес он сурово.
Миша кисло улыбнулся.
– Не смешно, Акарский, – сказал он. – Террор – это не наш метод. Больше изящества. Если бы шлепнуть Васькова было так просто, неужели этого не сделали бы до нас?
Оригинальное решение предложил поэт Борис Емельянов. Миру он представлялся декадентом-традиционалистом, и даже в лагере носил черный плащ-крылатку, приводя в восторг шпану. Ходили, правда, слухи, что это не настоящий Борис Емельянов и где-то на воле есть другой Борис Емельянов, который даже, кажется, стихов не пишет, а все больше по репортерской части. Однако сам Емельянов такие разговоры резко обрывал, говоря, что продавшийся большевикам не может быть поэтом. Крыть тут было нечем и довольно скоро про большевистского Емельянова забыли и уж больше не оскверняли его именем хламовских уст.
– Васькову надо дать роль в спектакле, – сказал Емельянов. – Тогда он все разрешит.
Богема недоумевала. Что же может играть Васьков? Шкаф, диван, какой-то другой предмет мебели? Режиссер Глубоковский вспомнил, что у Эдгара По есть рассказ «Убийство на улице Морг», там, кажется, действует некий садист-орангутан. Может быть, поставить этот рассказ, а на роль орангутана назначить Васькова? Однако, положа руку на сердце, это будет не спектакль никакой, а сплошное издевательство…
– Нужно дать Васькову нормальную роль, – настаивал Емельянов. – Нормальную роль в нормальном спектакле.
– Но ведь он не сыграет! – возразил Миша.
– Да и черт бы с ним, – отвечал бывший журналист Литвин, в лагере ставший драматургом. – Пусть не сыграет, главное – чтобы разрешил взять другого каэра. Аристократов у нас хватает, кого-нибудь да подберем.
Но Миша Парижанин категорически не верил в театральные перспективы Васькова.
– Освищут, – сказал он решительно, – я этих босяков знаю. Это выйдет не спектакль, а сплошной саботаж. Васьков обидится и вообще разгонит весь ХЛАМ, останутся только блатные. Нас, господа, отправят на общие работы, кормить комаров, нас будут бить и расстреливать, как обычных собак, не отличающих Шекспира от Мейерхольда. Вы уверены, что мы хотим именно этого?
Хламовцы были не уверены. Точнее, были уверены, что как раз этого-то они и не хотят. Однако и как выходить из создавшегося деликатного положения, тоже никто не знал.
– Утро вечера мудренее, – решил Парижанин. – Озаботьтесь-ка поиском светлых идей и встречаемся завтра, здесь же, в то же время.
С видом самым невеселым артистическая богема расходилась по своим кельям.
Миша вышел на улицу – хотелось проветрить мозги.
– Наше вам – и гоп со смыком! – послышалось из темноты. Миша нахмурился было, но тут буквально из воздуха нарисовалась веселая физиономия Яшки. Морщины на лбу Парижанина разгладились.
– Цыган, – сказал он, – ты чего по ночам рыщешь?
– Во-первых, отбоя еще не было, так что по закону не ночь, а всего только вечер, – отвечал Яшка. – Во-вторых, мы на общих работах корячимся, так что когда отпустят, тогда и рыщем. А в-третьих, я к тебе по серьезному делу.
Тут он щелкнул пальцами и провозгласил: «Алле-оп! Следующим номером нашей программы – знатный фармазон Василий Иванович Громов!»
Из-за спины яшкиной вышел высокий седоволосый человек, в чертах которого почудилось Парижанину нечто знакомое. Совсем недавно он видел этого человека, только, кажется, был он с бородой и усами. Миша улыбнулся и протянул Громову руку.
– Михаил Егоров. Рад знакомству!
– Взаимно, – отвечал Громов, крепко пожимая мишину ладонь.
Новый знакомый не стал ходить вокруг да около. Он слышал, что Миша руководит театральным предприятием под названием «ХЛАМ».
– Точно так, – отвечал Миша, продолжая вглядываться в нового знакомца.
В неярком свете дежурного фонаря открылось ему чрезвычайно любопытная физиономия. Строгие черты лица, аристократическая красота, благородные седины, которые странным образом контрастировали с черными бровями и общим моложавым видом. Неужели бог всех авантюристов послал ему спасение в виде этого немолодого господина?
– Вы в театре когда-нибудь играли? – быстро спросил Парижанин.
Громов слегка замялся.
– Как вам сказать… Немного, в домашнем.
– Отлично, – воскликнут Егоров, потирая руки, – большего и не требуется.
– Вообще-то я драматург, пишу пьесы… – начал было Громов, но Миша нетерпеливо прервал его.
– К черту пьесы, милостивый государь, у нас и так драматургов выше крыши. ХЛАМу не хватает актеров и именно вашего типажа. Яшка сказал, что вы фармазон. Это значит, вы блатной, то есть не из каэров?
Громов пожал плечами: а какое это имеет значение? Миша в двух словах объяснил, какое. Громов на секунду задумался.
– Видите ли, – сказал он с неудовольствием, – формально я, действительно, сижу здесь по уголовной статье. Но мое прошлое не так чисто, как может показаться. Я, как бы это выразиться, новоиспеченный уголовник…
Тут он посмотрел на Яшку. Тот сделал рукою знак, должный обозначать: что бы тут ни говорилось, он, Цыган, будет нем, как могила.
– К черту детали, – нетерпеливо воскликнул Миша, – ваше темное прошлое меня не интересует. Официально вы – фармазон, а, значит, чисты перед советской властью, не то, что какой-нибудь контрик. Цыган, исчезни, у нас будет разговор с месье фармазоном.
Яшка вышел из-под света фонаря и растворился в темноте.
– Какое же амплуа вы мне прочите? – спросил Громов.
Парижанин отвечал, что с такой внешностью можно играть хоть государя-императора, но лично он рассчитывает, что Василий Иванович будет исполнять в первую очередь роли благородных отцов и иностранных шпионов.
– Что-нибудь слышали о шпионах? – перебил сам себя Миша.
– Краем уха, – осторожно отвечал Громов.
– Ничего, я вас научу. Быть шпионом очень легко. Надо только поднять воротник, сделать подозрительный вид и говорить по-русски с акцентом.
И Миша, иллюстрируя сказанное, поднял воротник своего пальто, надвинул поглубже фетровую шляпу, зыркнул по сторонам глазами и произнес, коверкая слова:
– Я есть мистер Громофф, иностранный шпион! Я есть пить виски с содовой и есть кушать черная икра. А в это время голодающие колхозники Франции есть ничего не есть и совсем ничего не пить.
Громов кивнул: понятно, классовая ненависть. Именно, согласился Миша, с волками жить, по-волчьи выть. Ну, так как же решит Василий Иванович? Спасет ли он театральное искусство Соловков от атак администрации?
Громов думал совсем недолго.
– На что я могу рассчитывать? – спросил он деловито.
Миша посмотрел на него с уважением: сразу видно, что господин Громов – человек практический. Что касается выгод его нового положения, они очевидны. Во-первых, его освободят от общих работ. Во-вторых, его переведут из развалин собора, набитых вшами и людьми, в келью на пять человек. В третьих…
– Я согласен, – перебил его Громов.
– В таком случае, мы спасены!
И Миша, не в силах сдержать радости, прямо тут же, на месте, исполнил такой удивительный краковяк, какого, наверное, не видывала даже парижская Гранд-Опера́.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?