Текст книги "Антон Чехов"
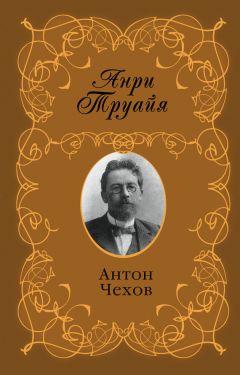
Автор книги: Анри Труайя
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Глава VIII
От Сахалина до Парижа
Всем друзьям Чехова его намерение уехать показалось странным. Как это, говорили они, человек с таким слабым здоровьем, человек, для которого искусство составляет единственный смысл жизни, может рисковать, отправляясь в столь опасное, утомительное и бесполезное путешествие? Чтобы оправдаться перед ними, он изобретал разные причины. То ссылался на отвращение к суетности литературной среды, в которой вынужден вращаться здесь, то на физическую необходимость сменить местопребывание, то на писательскую – познать русскую действительность во всем ее ужасе, то на чисто научный интерес к судьбе каторжников в Сибири. Бессознательно все эти – столь разные – мотивы складывались и умножались один на другой в его мозгу, чтобы укрепить решимость, но некоторые из самых близких Антону людей подумывали: а не является ли для него это бегство на край света всего лишь попыткой забыть неудачу, которую он потерпел в любви? По крайней мере одна женщина была в этом абсолютно убеждена. Ее звали Лидией Авиловой. Спустя сорок три года после смерти Чехова в книге воспоминаний[183]183
Воспоминания Лидии Авиловой под названием «А.П. Чехов в моей жизни» были опубликованы в Советском Союзе в 1947 году. (Примеч. автора.)
[Закрыть] она утверждала, что Антон был безумно влюблен в нее и сбежал на Сахалин исключительно от отчаяния. В поддержку своей романтической версии она не приводит никаких доказательств, зато здесь много запоздалой экзальтации. Когда Лидия познакомилась в 1889 году с Чеховым, она была молодой женщиной двадцати шести лет, довольно красивой стройной блондинкой, у нее имелись муж-чиновник, ребенок,[184]184
Следом родились еще двое. (Примеч. автора.)
[Закрыть] бурное воображение и легкое перо. Она пописывала в колонки новостей и мечтала выбиться в писатели, войти в литературную среду. При первой же встрече с Чеховым у сестры Надежды она почувствовала, как у нее в душе «точно взорвалась и ярко, радостно, с ликованием, с восторгом взвилась ракета». Вряд ли и с ним произошло то же самое, и когда он приехал в Санкт-Петербург в следующем году, то не сделал даже попытки с нею увидеться. Она написала ему – он не ответил. Три года спустя сухо извинился за это: «Когда-то я получил от Вас письмо, в котором Вы делали мне запрос по поводу идеи какого-то нестоящего моего рассказа. Будучи тогда с Вами мало знаком и забыв, что Ваша фамилия по мужу – Авилова, я забросил Ваше письмо, а марку прикарманил – так я поступаю вообще со всеми запросами, а наипаче с дамскими. Потом же в Петербурге, когда Вы намекнули мне насчет этого письма, мне вспомнилась Ваша подпись, и я почувствовал себя виноватым».[185]185
Письмо от 19 марта 1892 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 557. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
На самом деле если причиной бегства и было разочарование, то разочарование не любовное, а моральное и литературное. Недовольный тем, как он живет и как пишет, Чехов испытывал необходимость порвать с рутиной повседневности и спастись, сбежав от других, восстановиться при помощи сильного потрясения. Та степень усталости и безразличия, которая была характерна для него сейчас, требовала шоковой терапии. И он писал Суворину, все еще пытавшемуся отговорить его от поездки: «Насчет Сахалина ошибаемся мы оба, но Вы, вероятно, больше, чем я. Еду я совершенно уверенный, что моя поездка не даст ценного вклада ни в литературу, ни в науку: не хватит на это ни знаний, ни времени, ни претензий… Я хочу написать хоть 100–200 страниц и этим немножко заплатить своей медицине, перед которой я, как Вам известно, свинья. Быть может, я не сумею ничего написать, но все-таки поездка не теряет для меня своего аромата: читая, глядя по сторонам и слушая, я многое узнаю и выучу. Я еще не ездил, но благодаря тем книжкам, которые прочел теперь по необходимости, я узнал многое такое, что следует знать всякому под страхом 40 плетей и чего я имел невежество не знать раньше. К тому же, полагаю, поездка – это непрерывный полугодовой труд, физический и умственный, а для меня это необходимо, так как я хохол и стал уже лениться. Надо себя дрессировать. Пусть поездка моя пустяк, упрямство, блажь, но подумайте и скажите, что я потеряю, если поеду? Время? Деньги? Буду испытывать лишения? Время мое ничего не стоит, денег у меня все равно никогда не бывает, что же касается лишений, то на лошадях я буду ехать 25–30 дней, не больше, все же остальное время просижу на палубе парохода или в комнате и буду непрерывно бомбардировать Вас письмами. Пусть поездка не даст мне ровно ничего, но неужели все-таки за всю поездку не случится таких 2–3 дней, о которых я всю жизнь буду вспоминать с восторгом или горечью? И т. д. и т. д. Так-то, государь мой. Все это неубедительно, но ведь и Вы пишете столь же неубедительно. Например, Вы пишете, что Сахалин никому не нужен и ни для кого не интересен. Будто бы это верно? Сахалин может быть ненужным и неинтересным только для того общества, которое не ссылает на него тысячи людей и не тратит на него миллионов. После Австралии в прошлом и Кайены Сахалин – это единственное место, где можно изучать колонизацию из преступников; им заинтересована вся Европа, а нам он не нужен? Не дальше как 25–30 лет назад наши же русские люди, исследуя Сахалин, совершали изумительные подвиги, за которые можно боготворить человека, а нам это не нужно, мы не знаем, что это за люди, и только сидим в четырех стенах и жалуемся, что Бог дурно создал человека. Сахалин – это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный. Работавшие около него и на нем решали страшные ответственные задачи и теперь решают. Жалею, что я не сентиментален, а то я сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку, а моряки и тюрьмоведы должны глядеть, в частности, на Сахалин, как военные на Севастополь. Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных, красноносых смотрителей. Теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы, но нам до этого дела нет, это неинтересно. Прославленные шестидесятые годы не сделали ничего для больных и заключенных, нарушив таким образом самую главную заповедь христианской цивилизации. В наше же время для больных делается кое-что, для заключенных же ничего; тюрьмоведение совершенно не интересует наших юристов. Нет, уверяю Вас, Сахалин нужен и интересен, и нужно пожалеть только, что туда еду я, а не кто-нибудь другой, более смыслящий в деле и более способный возбудить интерес в обществе. Я же лично еду за пустяками».[186]186
Письмо от 9 марта 1890 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 415–417. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Приняв решение как следует изучить существование каторжников на острове Сахалине, Чехов выработал собственную методику. Он изучал все касающиеся этой проблемы труды. Маша с подругами пропадала в Румянцевской библиотеке, где они по указанию Антона переписывали важные для него куски из книг, Александр в поисках материалов исследовал подшивки старых санкт-петербургских газет. Голова Чехова была буквально нафарширована научными, служебными и статистическими данными, и он утверждал, что теперь он не писатель, а географ, геолог, метеоролог, этнолог, страдающий болезнью, именуемой «сахалиномания».
Тем не менее в это же самое время он опубликовал седьмой сборник рассказов, посвященный Чайковскому, под названием «Хмурые люди» и отправил Суворину для его газеты «Новое время» довольно длинный рассказ «Черти» (впоследствии публиковавшийся под названием «Воры»). Героями этого рассказа стали два наглых и изворотливых конокрада, которые обокрали глупого и наивного хвастуна фельдшера. Когда Суворин дружески упрекнул автора в том, что тот выказал мало неодобрения в адрес конокрадов, Чехов снова, и с куда большей силой, чем прежде, вернулся к вопросу о необходимости для писателя быть беспристрастным по отношению к персонажам. «Вы браните меня за объективность, называя ее равнодушием к добру и злу, отсутствием идеалов и идей и проч., – пишет Антон 1 апреля 1890 года. – Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня давно уже известно. Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело показать только, какие они есть. Я пишу: вы имеете дело с конокрадами, так знайте же, что это не нищие, а сытые люди, это люди культа и что конокрадство есть не просто кража, а страсть. Конечно, было бы приятно сочетать художество с проповедью, но для меня лично это чрезвычайно трудно и почти невозможно по условиям техники. Ведь чтобы изобразить конокрадов в 700 строках, я все время должен говорить и думать в их тоне и чувствовать в их духе, иначе, если я подбавлю субъективности, образы расплывутся и рассказ не будет так компактен, как надлежит быть всем коротеньким рассказам. Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам».[187]187
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 428–429. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Убедила ли Суворина эта речь в защиту творческой объективности, не убедила ли, он тем не менее помог Чехову подготовиться к путешествию. Он снабдил Антона бланком корреспондента «Нового времени», порекомендовал его своим влиятельным друзьям – представителям власти и поселил у себя, когда тот приехал в столицу хлопотать о свободном пропуске повсюду на Сахалине. Самой важной из персон, которых посетил тогда Чехов, был начальствовавший в Главном тюремном управлении Галкин-Враский. Высокий чиновник весьма любезно принял писателя, притворился, что план путешествия его сильно заинтересовал, но не дал никаких советов и никаких рекомендательных писем. Более того, стоило Чехову выйти за порог управления, Галкин-Враский направил на остров Сахалин, тамошней тюремной администрации, секретное предписание не допускать встреч «незваного гостя» с политическими ссыльнокаторжными.
Когда Чехов вернулся в Москву, город сотрясали студенческие демонстрации: молодые люди требовали полной автономии университета, допуска евреев на любые факультеты без ограничений – то есть ликвидации процентной нормы, прекращения полицейского надзора за студентами. То и дело происходили бурные митинги, столкновения с казаками, совершались незаконные аресты молодежи. Чехов с интересом следил за событиями, но не выказывал открыто симпатии к нарушителям спокойствия. Как и в то время, когда он учился сам, Антон полагал, что дело юношества – учиться, а не вмешиваться в политику.
День отъезда приближался – ему хотелось отбыть в начале весны, чтобы застать сибирские реки уже свободными ото льда. А пока Чехов подводил безжалостные итоги своей жизни и своего творчества. Повторяя, что писателю не пристало читать мораль в адрес читателя, он утверждал, что сам – такой же человек, как другие, с весьма посредственными достоинствами и главной чертой характера, сводящейся к отсутствию вражды и озлобленности по отношению к себе подобным. «Вы пишете, что Вам хочется жестоко поругаться со мной „в особенности по вопросам нравственности и художественности“, говорите неясно о каких-то моих преступлениях, заслуживающих дружеского упрека, и грозите даже „влиятельной газетной критикой“, – пишет он Леонтьеву (Щеглову) 22 марта 1890 года. – Если зачеркнуть слово „художественности“, то вся фраза, поставленная в кавычки, становится яснее, но приобретает значение, которое, по правде говоря, меня немало смущает. Жан, что такое? Как понимать? Неужели в понятиях о нравственности я расхожусь с такими людьми, как Вы, и даже настолько, что заслуживаю упрека и особого ко мне внимания влиятельной критики? Понять, что Вы имеете в виду какую-либо мудреную, высшую нравственность, я не могу, так как нет ни низших, ни высших, ни средних нравственностей, а есть только одна, а именно та, которая дала нам во время оно Иисуса Христа и которая теперь мне, вам и Баранцевичу мешает красть, оскорблять, лгать и проч. Я же во всю мою жизнь, если верить покою своей совести, ни словом, ни делом, ни помышлением, ни в рассказах, ни в водевилях не пожелал жены ближнего моего, ни раба его, ни вола его, ни всякого скота его, не крал, не лицемерил, не льстил сильным и не искал у них, не шантажировал и не жил на содержании. Правда, в лености житие мое иждих, без ума смеяхся, объедохся, опихся, блудил, но ведь все это личное и все это не лишает меня права думать, что по части нравственности я ни плюсами, ни минусами не выделяюсь из ряда обыкновенного. Ни подвигов, ни подлостей – такой же я, как большинство; грехов много, но с нравственностью мы квиты, так как за грехи я с лихвой плачу теми неудобствами, какие они влекут за собой. <…>
А слова „художественности“ я боюсь, как купчиха боится жупела. Когда мне говорят о художественном и антихудожественном, о том, что сценично или не сценично, о тенденции, реализме и т. п., я теряюсь, нерешительно поддакиваю и отвечаю банальными полуистинами, которые не стоят и гроша медного. Все произведения я делю на два сорта: те, которые мне нравятся, и те, которые мне не нравятся. Другого критериума у меня нет, а если Вы спросите, почему мне нравится Шекспир и не нравится Златовратский, то я не сумею ответить. <…>
Если критика, на авторитет которой Вы ссылаетесь, знает то, что мы с Вами не знаем, то почему она до сих пор молчит, отчего не открывает нам истины и непреложные законы? Если бы она знала, то, поверьте, давно бы указала нам путь, и мы знали бы, что нам делать… и нам не было бы так скучно и нудно, как теперь, и Вас не тянуло бы в театр, а меня на Сахалин. Но критика солидно молчит или же отделывается праздной дрянной болтовней. Если она представляется Вам влиятельной, то это только потому, что она глупа, нескромна, дерзка и криклива, потому что она пустая бочка, которую поневоле слышишь.
Впрочем, плюнем на все это и будем петь из другой оперы. Пожалуйста, не возлагайте литературных надежд на мою сахалинскую поездку. Я еду не для наблюдений и не для впечатлений, а просто для того только, чтобы пожить полгода не так, как я жил до сих пор».[188]188
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 423–425. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Прошло совсем немного времени после этой исповеди, и вот в «Русской мысли» Чехов читает отвратительную статью Лаврова, в свою очередь упрекающего его в том, что он, дескать, «беспринципный писатель». Обычно Антон пропускал подобные замечания мимо ушей, но тут возмутился, решил взять реванш и так написал издателю журнала Вуколу Лаврову: «Вукол Михайлович! В мартовской книжке „Русской мысли“ на 147 странице библиогр[афического] раздела я случайно прочел такую фразу: „Еще вчера даже жрецы беспринципного писания, как гг. Ясинский и Чехов, имена которых“ и т. д. На критики обыкновенно не отвечают, но в данном случае речь может быть не о критике, а просто о клевете. Я, пожалуй, не ответил бы и на клевету, но на днях я надолго уезжаю из России, быть может, никогда уж не вернусь, и у меня нет сил удержаться от ответа.
Беспринципным писателем или, что одно и то же, прохвостом я не был никогда.
Правда, вся моя литературная деятельность состояла из непрерывного ряда ошибок, иногда грубых, но это находит себе объяснение в размерах моего дарования, а вовсе не в том, хороший я или дурной человек. Я не шантажировал, не писал ни пасквилей, ни доносов, не льстил, не лгал, не оскорблял, короче говоря, у меня есть много рассказов и передовых статей, которые я охотно выбросил бы за их негодностью, но нет ни одной такой строки, за которую мне теперь было бы стыдно. Если допустить, что под беспринципностью Вы разумеете то печальное обстоятельство, что я, образованный, часто печатающийся человек, ничего не сделал для тех, кого люблю, что моя деятельность бесследно прошла, например, для земства, нового суда, свободы печати, вообще свободы и проч., то в этом отношении „Русская мысль“ должна по справедливости считать меня своим товарищем, но не обвинять, так как она до сих пор сделала в сказанном направлении не больше меня – и в этом виноваты не мы с Вами.
Если судить обо мне как о писателе с внешней стороны, то и тут едва ли я заслуживаю публичного обвинения в беспринципности. До сих пор я вел замкнутую жизнь, жил в четырех стенах… всегда настойчиво уклонялся от участия в литературных вечерах, вечеринках, заседаниях и т. п., без приглашения не показывался ни в одну редакцию, старался всегда, чтобы мои знакомые видели во мне больше врача, чем писателя, короче, я был скромным писателем, и это письмо, которое я теперь пишу, – первая нескромность за все время моей десятилетней деятельности. С товарищами я нахожусь в отличных отношениях; никогда я не брал на себя роли судьи их и тех журналов и газет, в которых они работают, считая себе некомпетентным и находя, что при современном зависимом положении печати всякое слово против журнала или писателя является не только безжалостным и нетактичным, но и прямо-таки преступлением. До сих пор я решался отказывать только тем журналам и газетам, недоброкачественность которых являлась очевидною и доказанною, а когда мне приходилось выбирать между ними, то я отдавал преимущество тем из них, которые по материальным или другим каким-либо обстоятельствам наиболее нуждались в моих услугах, и потому-то я работал не у Вас и не в „Вестнике Европы“, а в „Северном вестнике“ и потому-то я получал вдвое меньше того, что мог бы получать при ином взгляде на свои обязанности.
Обвинение Ваше – клевета. Просить его взять назад я не могу, так как оно вошло уже в свою силу и его не вырубишь топором; объяснить его неосторожностью, легкомыслием или чем-нибудь вроде я тоже не могу, так как у Вас в редакции, как мне известно, сидят безусловно порядочные и воспитанные люди, которые читают статьи, надеюсь, не зря, а с сознанием ответственности за каждое свое слово. Мне остается только указать Вам на Вашу ошибку и просить Вас верить в искренность того тяжелого чувства, которое побудило меня написать Вам это письмо. Что после Вашего обвинения между нами невозможны не только деловые отношения, но даже обыкновенное шапочное знакомство, это само собою понятно».[189]189
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 429–431. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Скинув тяжкий груз со своей души, Антон продолжил приготовления к отъезду. Близким, встревоженным теми опасностями, с которыми ему, возможно, придется встретиться, отвечал шуточками, хотя знал, что путешествие будет не только трудным, но и опасным. «На Сахалине много медведей и беглых, – писал он Наташе Линтваревой, – если мною пообедают господа звери или зарежет какой-нибудь бродяга, то прошу не поминать лихом».
«Если на Сахалине не съедят медведи и каторжные, если не погибну от тифонов у Японии, а от жары в Адене, то возвращусь в декабре», – писал он Щеглову.
Шуточки есть и в письме к Суворину: «Купил себе полушубок, офицерское непромокаемое пальто из кожи, большие сапоги и большой ножик для резания колбасы и охоты на тигров. Вооружен с головы до ног».
Но было в этом же письме и искреннее признание: «У меня такое чувство, как будто я собираюсь на войну»; правда, Чехов тут же, как обычно, свернул на шутку: «Хотя впереди не вижу никаких опасностей, кроме зубной боли…» В этом же письме есть слова, напоминающие завещание: «В случае утонутия или чего-нибудь вроде, имейте в виду, что все, что имею и могу иметь в будущем, принадлежит сестре: она заплатит мои долги».
«Увидимся в декабре, – прощался Чехов с издателем „Осколков“ Голике. – А может быть, и никогда уже больше не увидимся».
Михаил, чтобы поднять авторитет брата, писал Линтваревым, что Чехов едет на Сахалин от Министерства внутренних дел. Чехов опровергал: «Я сам себя командирую, за собственный счет». Корреспондентский билет «Нового времени» не давал ему никаких материальных благ, Чехов у Суворина только взял тысячу рублей – аванс за путевые очерки для газеты.
Отъезд был назначен на 21 апреля 1890 года. В тот вечер вся семья и несколько друзей проводили Чехова на один из московских вокзалов – Ярославский. Поболтали немножко – не без нервозности – в зале ожидания, стараясь скрыть печаль и тревоги, связанные с разлукой. Доктор Кувшинников повесил через плечо друга особую бутылку коньяка в кожаном футляре, взяв с отъезжающего клятву не выпить из нее ни капли, пока тот не достигнет берегов Тихого океана, что было в точности и исполнено. Мать Антона и его сестра Мария расплакались. Очаровательная Лика Мизинова прятала подступавшие слезы за полуулыбкой. Тем утром Чехов подарил ей свою фотографию с иронической надписью, смысл которой сводился к тому, что Антон бежит на Сахалин именно от этого «прелестного создания». В последний момент брат Чехова Иван и его друзья (Кувшинниковы, Левитан и «астрономка» Ольга Кундасова, всю жизнь тайно влюбленная в Чехова) решили подняться в вагон и проехать с путешественником до Троице-Сергиевой лавры, что в шестидесяти шести верстах от Москвы. Остальные простились с ним на вокзале.
Маршрут предполагался такой: поездом до Ярославля, затем пароходом – по Волге и Каме – до Перми, оттуда снова поездом в Тюмень, из Тюмени к озеру Байкал на лошадях, дальше – опять пароход и упряжки попеременно до самого побережья Тихого океана. Протяженность маршрута составляла почти десять тысяч верст, четыре тысячи из которых приходились на передвижение в дрянных повозках по дрянным проселочным дорогам. Было где сломать шею и более крепкому, чем Антон, путешественнику.
Поначалу на пароходе, идущем от Ярославля до Перми, Чехов испытал чувство покоя и полноты существования. Ни радости, ни грусти не наводили на него однообразные пейзажи по берегам. «Мне не весело и не скучно, а так, какой-то студень на душе, – писал Антон сестре 24 апреля 1890 года. – Я рад сидеть неподвижно и молчать. Сегодня, например, я едва ли сказал пять слов», а 29-го из Екатеринбурга рассказывал ей же о Каме подробнее: «…прескучнейшая река. Чтобы постигать ее красоты, надо быть печенегом, сидеть неподвижно на барже около бочки с нефтью или куля с воблою и не переставая тянуть сиволдай. Берега голые, деревья голые, земля бурая, тянутся полосы снега, а ветер такой, что сам черт не сумеет дуть так резко и противно. Когда дует холодный ветер и рябит воду, имеющую теперь после половодья цвет кофейных помоев, то становится и холодно, и скучно, и жутко; звуки береговых гармоник кажутся унылыми, фигуры в рваных тулупах, стоящие неподвижно на встречных баржах, представляются застывшими от горя, которому нет конца. Камские города серы; кажется, в них жители занимаются приготовлением облаков, скуки, мокрых заборов и уличной грязи – единственное занятие. На пристанях толпится интеллигенция, для которой приход парохода – событие».[190]190
Оба письма цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 434, 435–436. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
И все-таки писатель нашел себе развлечение даже посреди этого тоскливого пути: он наблюдал за тем, как один из пассажиров, прокурор судебной палаты, «человек 43 лет, недовольный жизнью, либерал, скептик и большой добряк», читал его рассказ «В сумерках» и обсуждал его со спутниками. В Екатеринбурге, куда Чехов прибыл поездом, он остановился в «недурной», по его словам, «Американской гостинице», где провел «2–3 дня, которые употребил на починку своей кашляющей и геморройствующей особы».[191]191
Письмо родным от 14–17 мая 1890 г. из села Красный Яр, в 45 верстах от Томска. (Примеч. автора.) Там же. С. 439. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] Почувствовав себя лучше, сел в поезд на Тюмень, куда и прибыл 3 мая. Именно здесь он открыл для себя сибирскую равнину. Дальше железная дорога не шла, и Антону пришлось продолжать путешествие в наемном экипаже… Впрочем, предоставим описание начала пути самому Чехову: «Возят через Сибирь почтовые и вольные. Я взял последних: все равно. Посадили меня, раба Божьего, в корзинку-плетушку и повезли на паре. Сидишь в корзине, глядишь на свет Божий, как чижик, и ни о чем не думаешь… Холодно ехать… На мне полушубок. Телу ничего, хорошо, но ногам зябко. Кутаю их в кожаное пальто – не помогает… На мне двое брюк. Ну-с, едешь, едешь… Мелькают верстовые столбы, лужи, березнячки… Вот перегнали переселенцев, потом этап… Встретили бродяг с котелками на спинах; эти господа беспрепятственно прогуливаются по всему сибирскому тракту. То старушонку зарежут, чтоб взять себе ее юбку на портянки, то сорвут с верстового столба жестянку с цифрами – сгодится, то проломят голову встречному нищему или выбьют глаза своему же брату ссыльному, но проезжающих они не трогают. Вообще в разбойничьем отношении езда здесь совершенно безопасна.
…Народ здесь хороший, добрый и с прекрасными традициями. Комнаты у них убраны просто, но чисто, с претензией на роскошь; постели мягкие, все пуховики и большие подушки, полы выкрашены или устланы самоделковыми холщовыми коврами. Это объясняется, конечно, зажиточностью… Но не все можно объяснить зажиточностью и сытостью, нужно уделить кое-что и манере жить. Когда ночью входишь в комнату, в которой спят, то нос не чувствует ни спирали, ни русского духа. Правда, одна старуха, подавая мне чайную ложку, вытерла ее о задницу, но зато вас не посадят пить чай без скатерти, при вас не отрыгивают, не ищут в голове; когда подают воду или молоко, не держат пальцы в стакане, посуда чистая, квас прозрачен, как пиво, – вообще чистоплотность, о которой наши хохлы могут только мечтать, а ведь хохлы куда чистоплотнее кацапов! Хлеб пекут тут превкуснейший; я в первые дни объедался им. Вкусны и пироги, и блины, и оладьи, и калачи, напоминающие хохлацкие ноздреватые бублики. Блины тонки… Зато все остальное не по европейскому желудку. <…>
К вечеру лужи и дороги начинают мерзнуть, а ночью совсем мороз, хоть доху надевай. Бррр! Тряско, потому что грязь обращается в кочки. Выворачивает душу… К рассвету страшно утомляешься, от холода, тряски и колокольчиков; страстно хочется тепла и постели. Пока меняют лошадей, прикурнешь где-нибудь в уголке и тотчас же заснешь, а через минуту возница уже дергает за рукав и говорит: „Вставай, приятель, пора!“ Во вторую ночь я стал чувствовать острую зубную боль в пятках. Невыносимо больно. Спрашиваю себя: не отморозил ли?
Виноваты оказались ботфорты, узкие в задниках. Сладкий Миша, если у тебя будут дети, в чем я не сомневаюсь, то завещай им не гнаться за дешевизной. Дешевизна русского товара – это диплом на его негодность. По-моему, лучше босиком ходить, чем в дешевых сапогах. Представьте мое мучение! То и дело вылезаю из возка, сажусь на сырую землю и снимаю сапоги, чтобы дать отдохнуть пяткам. Как это удобно в мороз! Пришлось купить в Ишиме валенки… Так и ехал в валенках, пока они у меня не раскисли от сырости и грязи».[192]192
Письмо от 14–17 мая 1890 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 439–442. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Измученный ухабами, оглушенный монотонным звуком колокольчика под дугой, Чехов подумывал о том, хватит ли у него сил продолжить путь до намеченной цели. Вообще-то этой пытке предстояло длиться двенадцать дней. Но в первые же три дня разболелись ключицы, плечи, позвонки, копчик… «Ни сидеть, ни ходить, ни лежать», как пишет Антон в том же письме. И добавляет: «Но зато прошли все головные и грудные боли, разыгрался донельзя аппетит, а геморрой точно в рот воды набрал – молчок. От напряжения, от частой возни с чемоданами и проч., а быть может, и от прощальных попоек в Москве у меня бывало кровохаркание, которое наводило на меня нечто вроде уныния, возбуждая мрачные мысли, и которое к концу пути прекратилось; теперь даже кашля нет; давно я так мало кашлял, как теперь, после двухнедельного пребывания на чистом воздухе. После же первых трех дней вояжа мое тело привыкло к тряске и для меня наступило время, когда я стал не замечать, как после утра наступал полдень, а потом вечер и ночь».[193]193
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 444–445. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
В ночь под 6 мая, когда Чехова в «тарантасике» вез какой-то милый старичок на паре, произошло дорожно-транспортное происшествие, как сказали бы сейчас. «Тарантасик» в темноте столкнулся поочередно… с тремя почтовыми тройками, несшимися навстречу во весь дух! Если бы я умел спать в тарантасе, пишет Антон, то вернулся бы домой инвалидом или всадником без головы. «Результаты крушения: сломанные оглобли, изорванные сбруи, дуги и багаж на земле. Оторопевшие, замученные лошади и страх от мысли, что сейчас была пережита опасность. Оказалось, что первый ямщик погнал лошадей, а во вторых двух тройках ямщики спали, и лошади сами понеслись за первой тройкой, некому было править ими. Очнувшись от переполоха, мой старик и ямщики всех трех троек стали неистово ругаться. Ах, как ругались! Я думал, что кончится дракой. Вы не можете себе представить, какое одиночество чувствуешь среди этой дикой ругающейся орды, среди поля, перед рассветом, в виду близких и далеких огней, пожирающих траву, но ни на каплю не согревающих холодный ночной воздух! Ах, как тяжко на душе! Слушаешь ругань, глядишь на изломанные оглобли и на свой истерзанный багаж, и кажется тебе, что ты брошен в другой мир, что тебя сейчас затопчут… После часовой ругани мой старик стал связывать веревочками оглобли и сбрую; пошли в ход и мои ремни. До станции дотащились кое-как, еле-еле, то и дело останавливались…»[194]194
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 446. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Прошло еще несколько дней и начались ужасные сибирские дожди с сильным ветром, шли они днем и ночью, Иртыш разлился и затопил луга, по дорогам стало не проехать. Порой кучеру и пассажиру приходилось вылезать из возка и вести лошадей через целые болота грязи…
В селах, где Чехов останавливался для ночлега или отдыха, его поражала многонациональность населения: тут были и ссыльные русские, и украинцы, и татары, и поляки, и евреи – «здесь они пашут, ямщикуют, держат перевозы, торгуют и называются крестьянами, потому что они в самом деле и de jure и de facto крестьяне. Пользуются они всеобщим уважением и… их нередко выбирают в старосты».[195]195
Там же. С. 443.
[Закрыть] Антон рассказывал родным подробно о многих представителях разных народов, с какими ему пришлось повстречаться на пути, и заканчивал этот этнографо-социологический экскурс словами: «Боже мой, как богата Россия хорошими людьми! Если бы не холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не чиновники, развращающие крестьян и ссыльных, то Сибирь была бы богатейшей и счастливейшей землей».[196]196
Там же. С. 444.
[Закрыть]
И все-таки на этой земле он по-прежнему страдал от неудобоваримой пищи. Просто кошмаром стало традиционное блюдо, которым его потчевали повсюду: «утячья похлебка».
«Это совсем гадость: мутная жидкость, в которой плавают кусочки дикой утки и невареный лук; утиные желудки не совсем очищены от содержимого и потому, попадая в рот, заставляют думать, что рот и recrum[197]197
Прямая кишка (лат.).
[Закрыть] поменялись местами, – рассказывает Чехов все в том же длинном майском письме родным. – Я раз попросил сварить суп из мяса и изжарить окуней. Суп мне подали пресоленый, грязный, с заскорузлыми кусочками кожи вместо мяса, а окуни с чешуей. Варят здесь щи из солонины, ее же и жарят. Сейчас мне подавали жареную солонину: преотвратительно; пожевал и бросил. Чай здесь пьют кирпичный. Это настой из шалфея и тараканов – так по вкусу, а по цвету – не чай, а матрасинское вино».[198]198
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 441. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Еще горестнее и забавнее Антон описывал «продовольственную проблему» в письме Суворину: «Всю дорогу я голодал, как собака. Набивал себе брюхо хлебом, чтобы не мечтать о тюрбо, спарже и проч. Даже о гречневой каше мечтал. По целым часам мечтал.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































