Текст книги "Антон Чехов"
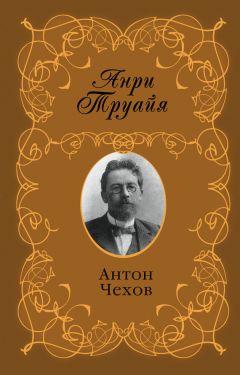
Автор книги: Анри Труайя
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
В Тюмени я купил себе на дорогу колбасы, но что за колбаса! Когда берешь кусок в рот, то во рту такой запах, как будто вошел в конюшню в тот самый момент, когда кучера снимают портянки; когда же начинаешь жевать, то такое чувство, как будто вцепился зубами в собачий хвост, опачканный в деготь. Тьфу! Поел раза два и бросил».[199]199
Письмо от 20 мая 1890 г. Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 454–455. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Ливни донимали путешественника до самого Томска, куда он, совершенно разбитый, прибыл 15 мая. Здесь он отдохнул несколько дней и написал шесть маленьких статеек в жанре «сибирских впечатлений» для «Нового времени». О городе в том же письме сообщил, что тот показался ему скучным и нетрезвым, «красивых женщин совсем нет, бесправие азиатское. Замечателен сей город тем, что здесь мрут губернаторы»… Себя описал с юмором: «От ветра и дождей у меня лицо покрылось рыбьей чешуей, и я, глядя в зеркало, не узнаю прежних благородных черт». Общество и времяпрепровождение – тоже: «Стоп! Докладывают, что меня желает видеть помощник полицеймейстера. Что такое?!
Тревога напрасная. Полицейский оказывается любителем литературы и даже писателем; пришел ко мне на поклонение. Поехал домой за своей драмой и, кажется, хочет угостить меня ею…
Вернулся полицейский. Он драмы не читал, хотя и привез ее, но угостил рассказом. Не дурно, но только слишком местно. Показывал мне слиток золота. Попросил водки. Не помню ни одного сибирского интеллигента, который, придя ко мне, не попросил бы водки. Говорил, что у него завелась „любвишка“ – замужняя женщина; дал прочесть мне прошение на высочайшее имя насчет развода. Затем предложил мне съездить посмотреть томские дома терпимости.
Вернувшись из домов терпимости. Противно. Два часа ночи».[200]200
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 456. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Остановку в Томске Антон использовал для того, чтобы купить себе повозку, обновить снаряжение, подвести итоги трат. «Ах, какие расходы! Гевалт! Благодаря разливу я везде платил возницам почти вдвое, а иногда втрое, ибо работа каторжная, адская. Чемодан мой, милейший сундучок, оказался неудобным в дороге: занимает много места, толкает в бок, гремит, а главное – грозит разбиться. <…> Что ж? Оставлю свой чемодан в Томске на поселении, а вместо него купил себе какую-то кожаную стерву, которая имеет то удобство, что распластывается на дне тарантаса, как угодно. Заплатил 16 рублей. Далее… На перекладных скакать до Амура – это пытка. Разобьешь и себя, и весь свой багаж. Посоветовали купить повозку. Купил сегодня за 130 рублей. Если не удастся продать ее в Сретенске, где кончается мой лошадиный путь, то я останусь на бобах и завою. Сегодня обедал с редактором „Сибирского вестника“ Картамышевым. Местный Ноздрев, широкая натура… Пропил 6 рублев».[201]201
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 455–456. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
И вот – в новой повозке – Чехов покидает 21 мая Томск, чтобы двинуться к Иркутску, расположенному на расстоянии в полторы тысячи верст. Где-то на полпути – Красноярск, откуда он отправляет письмо сестре, точнее, как обычно, всей семье:
«Еду с двумя поручиками и с одним военным доктором, которые все держат путь на Амур. Таким образом, револьвер является совершенно лишним. С такой компанией и в ад не страшно. Сейчас пьем чай на станции, а после чаю пойдем смотреть город».[202]202
Письмо от 28 мая 1890 г. Там же. С. 459. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
И в том же письме: «Красноярск красивый интеллигентный город; в сравнении с ним Томск свинья в ермолке и моветон. Улицы чистые, мощеные, дома каменные, большие, церкви изящные… Я согласился бы жить в Красноярске. Не понимаю, почему тут излюбленное место для ссылки».[203]203
Там же. С. 458–459.
[Закрыть]
Но ведь до Красноярска надо было еще доехать! А ужаснее этой дороги, кажется, и придумать невозможно: «Что за убийственная дорога! Еле-еле дополз до Красноярска и два раза починял свою повозку; лопнул сначала курок – железная, вертикально стоящая штука, соединяющая передок повозки с осью; потом сломался под передком так называемый круг. Никогда в жизни не видывал такой дороги, такого колоссального распутья и такой ужасной запущенной дороги. Буду писать о ее безобразиях в „Новом времени“…»[204]204
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 457. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] Мало того, что на таких ужасных дорогах Чехов изнемогал от тряски и прочих неудобств: порой приходилось ждать, когда кончится ремонт на пронизывающем ветру, на обочине, а то и двигаться пешком до следующей станции, куда он прибывал обтрепанным и вымокшим до костей, – все эти починки еще и стоили бешеных денег. Впрочем, тут он винил и себя самого: «…расходы страшенные. Нигде так сильно не сказывается житейская непрактичность, как в дороге. Плачу лишнее, делаю ненужное, говорю не то, что нужно, и жду всякий раз того, что не случается».[205]205
Письмо от 28 мая 1890 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 458. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] Оказавшись в месте ближайшего назначения, путешественник плюхался на дрянной матрас постоялого двора и мгновенно засыпал, опьяненный усталостью и свежим воздухом.
После окруженного горами Красноярска началась настоящая сибирская тайга: густые, непроходимые бесконечные леса. «В последнем большом письме я писал вам, что горы около Красноярска похожи на Донецкий кряж, но это неправда; когда я взглянул на них с улицы, то увидел, что они, как высокие стены, окружают город, и мне живо вспомнился Кавказ. А когда перед вечером, уезжая из города, я переплывал Енисей, то видел на другом берегу совсем уж Кавказские горы, такие же дымчатые, мечтательные… Енисей широкая, быстрая, гибкая река; красавец, лучше Волги… Итак, горы и Енисей – это первое оригинальное и новое, встреченное мною в Сибири. <…>
От Красноярска до Иркутска всплошную тянется тайга. Лес не крупнее Сокольничьего, но зато ни один ямщик не знает, где он кончается. Конца краю не видать. Тянется на сотни верст… Когда въедешь на гору и глянешь вперед и вниз, то видишь впереди гору, с боков тоже горы – и все это густо покрыто лесом. Даже жутко делается. Это второе оригинальное и новое…».[206]206
Письмо от 6 июня 1890 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 462–463. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] Это – из письма Марии, семье. А в заметке, посланной Суворину для «Нового времени», чуть иначе: «На Волге человек начал удалью, а кончил стоном, который зовется песнью; яркие золотые надежды сменились у него немочью, которую принято называть русским пессимизмом, на Енисее же жизнь началась стоном, а кончится удалью, какая нам и во сне не снилась. Так по крайней мере думал я, стоя на берегу широкого Енисея… Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега».[207]207
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 225–226. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Путешествие продолжалось, на смену холоду и дождям пришли жара, духота и пыль. Пыль эта проникала в рот, нос, прилипала к вспотевшей шее, она оказывалась даже в карманах одежды. Но Чехов продолжал, не скрывая дорожных тягот, делать, так сказать, хорошую мину при плохой игре. «От Красноярска до Иркутска страшнейшая жара и пыль. Ко всему этому прибавьте голодуху, пыль в носу, слипающиеся от бессонницы глаза, вечный страх, что у повозки… сломается что-нибудь, и скуку… Но тем не менее все-таки я доволен и благодарю Бога, что он дал мне силу и возможность пуститься в такое путешествие, – писал он Лейкину. – Многое я видел и многое пережил, и все чрезвычайно интересно и ново для меня не как для литератора, а просто как для человека. Енисей, тайга, станция, ямщики, дикая природа, дичь, физические мучительства, причиняемые дорожными неудобствами, наслаждения, получаемые от отдыха, – все, вместе взятое, так хорошо, что и описать не могу».[208]208
Письмо от 5 июня 1890 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 461–462. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
4 июня наконец приехали в Иркутск, где Чехову представилась возможность с наслаждением воспользоваться всеми благами цивилизации. Парная, удобная постель, чистая одежда, прогулка по «превосходному городу», который Чехов называет то «совсем интеллигентным», то «совсем Европой», тут есть и театр, и музей, и городской сад с музыкой, и хорошие гостиницы… А нет – уродливых заборов, нелепых вывесок и пустырей с надписями о том, что нельзя останавливаться… И Антон, едва выспавшись после бани, сразу же садится писать родным – как для того, чтобы описать свои приключения, так и в надежде узнать что-то новое об их жизни, дать советы и указания. Его интересует, лечит ли мать, как обещала ему перед разлукой, свою больную ногу, он спрашивает, как Мишины любовные делишки, был ли на юге Иван, кланяется тетке Федосье и ее сыну, спрашивая об их новостях. Александра просит, «надев штаны», сходить в книжный магазин «Нового времени», получить деньги за книги брата и выслать Маше полностью, а тех, кто живет в Москве: «17-го отслужите обедню,[209]209
Годовщина смерти Николая. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] а 29-е[210]210
Именины отца. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] отпразднуйте торжественнее, буду мысленно присутствовать с вами, а вы выпейте за мое здоровье».[211]211
Письмо от 6 июня 1890 г. Там же. С. 464. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] Затем, вспомнив красавицу Лику Мизинову, шутит, что, должно быть, влюблен в нее, потому как видел вчера во сне: там она выглядела «королевой» в сравнении с сибирскими женщинами, не умеющими ни одеваться, ни смеяться, ни петь, да и вообще похожими на мороженую рыбу, и, только превратившись в моржа или тюленя, он оказался бы способен поухаживать за ними.
Продав в Иркутске свою чиненую-перечиненую повозку, Антон отправился в путь вместе с тремя офицерами, с которыми познакомился в Красноярске. Очень скоро их общество наскучило ему, стало тяготить: невежественные и спесивые, они то принимались петь, то хохотать до упаду и при этом с апломбом рассуждали обо всем, в чем не понимали ничего. И только красота пейзажей утешала Чехова, вынужденного слушать дурацкую болтовню спутников. Вид озера Байкал – настоящего внутреннего моря шириной в восемьдесят шесть верст! – заставил его замереть от восторга: «Ехали мы к Байкалу по берегу Ангары, которая берет начало из Байкала и впадает в Енисей. Зрите карту. Берега живописные. Горы и горы, на горах всплошную леса. Погода чудная, тихая, солнечная, теплая; я ехал и чувствовал почему-то, что я необыкновенно здоров; мне было так хорошо, что и описать нельзя. Это, вероятно, после сиденья в Иркутске и оттого, что берег Ангары на Швейцарию похож. Что-то новое и оригинальное. Ехали по берегу, доехали до устья и повернули влево; тут уж берег Байкала, который в Сибири называется морем. Зеркало. Другого берега, конечно, не видно: 90 верст. Берега высокие, крутые, каменистые, лесистые; направо и налево видны мысы, которые вдаются в море вроде Аю-дага или феодосийского Кохтебеля. Похоже на Крым».[212]212
Письмо к сестре от 13 июня 1890 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 466. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] К сожалению, пришлось ожидать тут три дня прибытия парохода. Разместившись в «квартире-сарайчике», не имея другой еды, кроме гречневой каши («Население питается одной только черемшой. Нет ни мяса, ни рыбы; молока нам не дали, а только обещали… Купил я гречневой крупы и кусочек копченой свинины, велел сварить размазню; невкусно, но делать нечего, надо есть. Весь вечер искали по деревне, не продаст ли кто курицу, и не нашли…»[213]213
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 466. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]), которую предлагалось запивать плохой водкой, уставший от пустословия спутников, Чехов еще и опасался клопов и тараканов. «Опротивело мне спать, – пишет он сестре. – Каждый день постилаешь себе на полу полушубок шерстью вверх, в голову кладешь скомканное пальто и подушечку, спишь на этих буграх в брюках и жилетке… Цивилизация, где ты?»[214]214
Там же. С. 467.
[Закрыть]
Сэкономив сутки, но оказавшись во имя этого на борту пароходишки, «вся палуба которого была занята обозными лошадьми, которые неистовствовали, как бешеные», Чехов с обрыдшими ему спутниками прибыл «за море» – в Клюево. «В Клюеве сторож взялся довезти наш багаж до станции, – пишет Антон матери 20 июня уже из каюты первого класса на борту большого амурского парохода „Ермак“, – он ехал, а мы шли позади телеги пешком по живописнейшему берегу. Скотина Левитан, что не поехал со мной. Дорога лесная: направо лес, идущий на гору, налево лес, спускающийся вниз к Байкалу. Какие овраги, какие скалы! Тон у Байкала нежный, теплый». Так, без особых приключений, вовремя добрались через станцию Боярскую до Сретенска, где надо было садиться на пароход. «О том, как я ехал по берегу Селенги и потом через Забайкалье, расскажу при свидании, – продолжает Чехов, – а теперь скажу только, что Селенга – сплошная красота, а в Забайкалье я находил все, что хотел: и Кавказ, и долину Псёла, и Звенигородский уезд, и Дон. Днем скачешь по Кавказу, ночью – по Донской степи, а утром очнешься от дремоты, глядь, уже Полтавская губерния – и так всю тысячу верст. <…> Ну-с, ехали, ехали и сегодня утром прибыли в Сретенск, ровно за час до отхода парохода, заплативши ямщикам на двух последних станциях по рублю на чай.
Итак, конно-лошадиное странствие мое кончилось. Продолжалось оно два месяца (выехал я 21 апреля). Если исключить время, потраченное на жел. дороги и пароходы, 3 дня, проведенные в Екатеринбурге, неделю в Томске, день в Красноярске, неделю в Иркутске, два дня у Байкала и дни, потраченные на ожидание лодок во время разлива, то можно судить о быстроте моей езды. Проехал я благополучно, как дай Бог всякому. Я ни разу не был болен и из массы вещей, которые при мне, потерял только перочинный нож, ремень от чемодана и баночку с карболовой мазью. Деньги целы. Проехать так тысячи верст мало кому удается.
Я до такой степени свыкся с ездой по тракту, что мне теперь как-то не по себе и не верится, что я не в тарантасе и что не слышно дар-валдая. Странно, что, ложась спать, я могу протянуть ноги вовсю и что лицо мое не в пыли. Но всего страннее, что бутылка коньяку, которую дал мне Кувшинников, еще не разбилась и что коньяк цел до капли. Обещал раскупорить его только на берегу Великого океана».[215]215
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 469–470. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Итак, чтобы обеспечить себе одиночество в дальнейшем путешествии, Чехов покупает билет в каюту первого класса на пароходе «Ермак». Ему давно надоели три болтливых офицера, которые ко всему еще и заняли у него сто пятьдесят рублей, причем о возврате долга и речи быть не могло. Уединившись в каюте, Антон надеялся написать там новые путевые очерки, но корабль трясло, как в лихорадке. И пришлось ему отказаться от работы и довольствоваться тем, что созерцать восхитительные пейзажи, медленно проплывавшие перед его глазами. Изумительная страна, написал он в те дни Плещееву, можно сказать, что только после Байкала начинается поэзия Сибири, до него – сплошь проза…
Когда пароход, пройдя по Шилке, добрался до Амура, восторгу Чехова уже не было предела. Бинокль словно прирос к его глазам: «Берега до такой степени дики, оригинальны и роскошны, что хочется навеки остаться тут жить… Проплыл я по Амуру 1000 верст и видел миллион роскошнейших пейзажей; голова кружится от восторга… Удивительна природа. А как жарко! Какие теплые ночи! Утром бывает туман, но теплый.
Я осматриваю берега в бинокль и вижу чертову пропасть уток, гусей, гагар, цапель и всяких бестий с длинными носами. Вот бы где дачу нанять!» – пишет Антон сестре 23–26 июня.[216]216
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 474. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] А рассказывая, как на остановках наведывается в деревни, описывает местные обычаи и нравы: «Деревни здесь такие же, как на Дону; разница есть в постройках, но не важная. Жители не исполняют постов и едят мясо даже в Страстную неделю; девки курят папиросы, а старухи трубки – это так принято. Странно бывает видеть мужичек с папиросами! А какой либерализм! Ах, какой либерализм!
На пароходе воздух накаляется докрасна от разговоров. Здесь не боятся говорить громко. Арестовывать здесь некому и ссылать некуда, либеральничай сколько влезет… Доносы не приняты. Бежавший политический свободно может проехать на пароходе до океана, не боясь, что его выдаст капитан. Это объясняется отчасти и полным равнодушием ко всему, что творится в России. Каждый говорит: какое мне дело?»[217]217
Там же. С. 474–475.
[Закрыть]
А Суворину, намекая на его генеральский чин, пишет так: «Ваше превосходительство! Проплыл я по Амуру больше тысячи верст и видел миллионы пейзажей, а ведь до Амура были Байкал, Забайкалье… Право, столько я видел богатства и столько получил наслаждений, что и помереть теперь не страшно. Люди на Амуре оригинальные, интересные, жизнь не похожа на нашу. Только и разговора, что о золоте. Золото, золото и больше ничего». Чуть раньше: «Представьте себе Сурамский перевал, который заставили быть берегом реки, – вот Вам и Амур. Скалы, утесы, леса, тысячи уток, цапель и всяких носатых каналий, и сплошная пустыня. Налево русский берег, направо китайский. Хочу на Россию гляжу, хочу – на Китай. Китай так же пустынен и дик, как и Россия: села и сторожевые избушки попадаются редко». А чуть позже: «Я и в Амур влюблен; охотно бы пожил на нем года два. И красиво, и просторно, и свободно, и тепло. Швейцария и Франция никогда не знали такой свободы. Последний ссыльный дышит на Амуре легче, чем самый первый генерал в России…»[218]218
Письмо от 27 июня 1890 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 476. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
9 июля, дважды сменив суда, Чехов наконец оказался в Татарском проливе и увидел – «с восхищением и гордостью» – показавшийся вдали берег Сахалина. Два дня спустя корабль бросил якорь в бухте у Александровска, административного центра острова, его своеобразной столицы, которая служила пристанищем и тюремным властям.
Антон высадился в порту вместе с этапом каторжников, в тот же день познакомился с местным тюремным врачом Перлиным, который предложил поселиться у него в доме, на что путешественник охотно согласился. Город, насчитывавший почти три тысячи обитателей, показался ему чистым, но угрюмым и молчаливым. По улицам, звеня кандалами, двигались цепью каторжники, идя на работу или возвращаясь оттуда. На Сахалине в то время было пять колоний: когда каторжник отбывал наказание, то оставался жить в одной из них. Здесь оказалось и несколько свободных женщин, которые приехали вслед за мужьями, отбывающими на Сахалине срок. Все это объяснил писателю начальник острова генерал Кононович, принявший его чрезвычайно любезно, проговорив с гостем больше часа. Генерал показался Чехову человеком интеллигентным и порядочным, он даже пообещал приезжему помочь в его изысканиях и открыть для него тюремные архивы. Расположение местных властей к московскому гостю подтвердил несколько дней спустя и приамурский генерал-губернатор барон Корф, приехавший почти одновременно с Чеховым на остров после пятилетнего перерыва и позволивший Чехову свободно ездить по всей территории, знакомиться с официальной документацией и опрашивать заключенных, кроме политических ссыльных.[219]219
Из книги Л. Малюгина и И. Гитович (с. 228): «На следующий же день он отправился к начальнику острова – генералу Кононовичу… Кононовичу было не до Чехова: он готовился к встрече более важной персоны – приамурского генерал-губернатора Корфа… В дороге на Сахалин Чехов жалел потерять лишний день, а здесь ему пришлось потратить впустую восемнадцать дней, пока было получено разрешение посещать тюрьмы и поселения, собирать необходимые сведения и материалы». Без комментариев. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] На торжественном обеде в честь Корфа тот, бравируя своим гуманным отношением к тем, кого он называл «несчастными», заявил, будто их жизнь здесь куда легче, чем в России и даже в Европе. А чуть позже, когда Антон явился к нему с корреспондентским своим бланком, изложил свой взгляд на сахалинскую каторгу и колонию, предложив записать все сказанное им под заголовком «Описание жизни несчастных». Чехов охотно выполнил просьбу, однако вынес из записанного тогда убеждение, что это человек великодушный и благородный, но что «жизнь несчастных» была знакома ему не так близко, как он думал. В подтверждение опубликовал несколько строк, записанных под диктовку генерал-губернатора: «Никто не лишен надежды сделаться полноправным; пожизненности наказания нет. Бессрочная каторга ограничивается двадцатью годами. Каторжные работы не тягостны. Труд подневольный не дает работнику личной пользы – в этом его тягость, а не в напряжении физическом. Цепей нет, часовых нет, бритых голов нет».[220]220
Цит. по: Чехов А. Т. 10. С. 64. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Несмотря на эти более чем оптимистические заверения, Чехов был полон решимости провести строгое исследование – и не в качестве писателя, а в качестве ученого. Для этого прежде всего он задумал осуществить по возможности полную перепись населения. Это позволяло ему, под предлогом необходимости получить статистические данные, познакомиться в том числе и с самыми закоренелыми преступниками. Для этого Чехов заказал в типографии при полицейском управлении опросный лист – карточку из тринадцати пунктов и сразу же принялся за работу: в одиночку, без чьей-либо помощи. Он вставал в пять утра и посещал – иногда один, иногда в сопровождении охранника, вооруженного револьвером, порой, как пишет сам, в сопровождении какого-нибудь каторжника или поселенца, бравшего на себя от скуки роль проводника, – подряд все тюрьмы, все барачные поселения, все избы острова, не упуская из виду ни рудников, ни шахт, беседуя с безграмотными скотами (как иначе назвать людей, почти потерявших человеческий облик?), смотревшими на него с полным непониманием, с убийцами, чей взгляд казался угрожающим, с насмешливыми и подозрительными ворами, с «нищими духом»… И все они были в кандалах…
«Ссыльное население смотрело на меня как на лицо официальное, а на перепись – как на одну из тех формальных процедур, которые здесь так часты и обыкновенно ни к чему не ведут, – будет потом написано в книге „Остров Сахалин“. – Впрочем, то обстоятельство, что я не здешний, не сахалинский чиновник, возбуждало в ссыльных некоторое любопытство».[221]221
Цит. по: Чехов А. Т. 10. С. 73. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
И, кто бы ни попадался Антону на пути во время переписи, каждый – благодаря доброжелательному его тону и спокойному обращению – неизменно проникался к нему доверием. Не проходило и нескольких минут, как беседа становилась дружеской. Таким образом собственной рукой Чехов заполнил около десяти тысяч листков.[222]222
Эти листки сохранились в Библиотеке имени Ленина в Москве. (Примеч. автора.)
[Закрыть] Непрерывная работа привела писателя к нервному истощению: появилось «мерцание в глазах», как он это называл, после него всякий раз начинались страшные мигрени. Но Антон и не думал об отдыхе. По мере того как продвигалась работа, он все больше убеждался в том, насколько Сахалин, вопреки утверждениям барона Корфа, был царством беззакония, самоуправства, жестокости и лжи. Губернатор Кононович на словах был яростным противником телесных наказаний, но тем не менее в двухстах или трехстах метрах от его дома каждый день кого-то наказывали плетьми. Разве мог он об этом не знать?
Стесненные в действиях, прикованные к своим тачкам, некоторые из каторжников вынуждены были работать, проползая на животе по низким штрекам угольных шахт. В Александровской больнице не хватало лекарств, самых простых медикаментов, больных размещали на нарах или просто на полу. Преступникам был запрещен вход в церковь. Над этими жалкими вонючими отбросами человечества властвовали охранники, жестокость и несправедливость которых ничем невозможно было смягчить. У тюремных начальников были все права, у заключенных – никаких прав. Как было не потерять в подобных условиях остатки человеческого достоинства? «У ссыльных наблюдаются пороки и извращения, свойственные по преимуществу людям подневольным, порабощенным, голодным и находящимся в постоянном страхе. Лживость, лукавство, трусость, малодушие, наушничество, кражи, всякого рода тайные пороки – вот арсенал, который выставляет приниженное население, или по крайней мере громадная часть его, против начальников и надзирателей, которых оно не уважает, боится и считает своими врагами. Чтобы избавиться от тяжелой работы или телесного наказания и добыть себе кусок хлеба, щепотку чаю, соли, табаку, ссыльный прибегает к обману, так как опыт показал ему, что в борьбе за существование обман – самое верное и надежное средство. Кражи здесь обычны и похожи на промысел. Арестанты набрасываются на все, что плохо лежит, с упорством и жадностью голодной саранчи, и при этом отдают преимущество съестному и одежде. Воруют они в тюрьме, друг у друга, у поселенцев, на работах, во время нагрузки пароходов, и при этом по виртуозной ловкости, с какою совершаются кражи, можно судить, как часто приходится упражняться здешним ворам. <…>
Ссыльный развлекается тайно, воровским образом. Чтобы добыть стакан водки, который при обыкновенных условиях обходится только в пятак, он должен тайно обратиться к контрабандисту и отдать ему, если нет денег, свой хлеб или что-нибудь из одежи. Единственное духовное наслаждение – игра в карты – возможно только ночью, при свете огарков, или в тайге. Всякое же тайное наслаждение, часто повторяемое, обращается мало-помалу в страсть; при слишком большой подражательности ссыльных один арестант заражает другого, и в конце концов такие, казалось бы, пустяки, как контрабандная водка и игра в карты, ведут к невероятным беспорядкам. <…> Картежная игра, как эпидемическая болезнь, овладела уже всеми тюрьмами; тюрьмы представляют собою большие игорные дома, а селения и посты – их филиальные отделения».[223]223
Остров Сахалин. Гл. XXI. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 10. С. 331–333. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
За преступлениями всегда следуют наказания. «Наказания, которые полагаются каторжным и ссыльным, – пишет Чехов, – отличаются чрезмерною суровостью… Наказания, унижающие преступника, ожесточающие его и способствующие огрубению нравов и давно уже признанные вредными для свободного населения, оставлены для поселенцев и каторжных, как будто ссыльное население подвержено меньшей опасности огрубеть, ожесточиться и окончательно потерять человеческое достоинство. Розги, плети, прикование к тележке – наказания, позорящие личность преступника, причиняющие его телу боль и мучения, – применяются здесь широко. Наказание плетями или розгами полагается за всякое преступление, будь то уголовное или маловажное; применяется ли оно, как дополнительное, в соединениями с другими наказаниями, или самостоятельно, оно все равно составляет необходимое содержание всякого приговора».[224]224
Там же. С. 339.
[Закрыть]
Движимый намерением дойти до последнего круга этого ада, Чехов решился присутствовать при наказании плетьми. Чуть ли не больной от ужаса, он глядел, как врач выслушивает сердце преступника, чтобы решить, способен ли тот вынести положенные девяносто ударов, с каким поистине садистским любопытством, «умоляющим голосом, точно милостыни», просит военный фельдшер разрешения понаблюдать за происходящим, как медленно и методично похожий на силача-акробата, сам в свое время присланный на каторгу за убийство жены палач привязывает арестанта к «кобыле» – специальной скамье с отверстиями для привязывания рук и ног, а потом начинает экзекуцию, во время которой безмятежный надзиратель «дьячковским голосом» подсчитывает удары… Жертва визжит от боли, по обнаженному телу несчастного пробегает судорога, человек на глазах превращается в бесформенную массу окровавленной плоти.
«Палач стоит сбоку, – напишет потом Чехов в своей книге, – и бьет так, что плеть ложится поперек тела. После каждых пяти ударов он медленно переходит на другую сторону и дает отдохнуть полминуты. У Прохорова[225]225
Бродяга-убийца, бежавший из Воеводской тюрьмы, до того приговоренный хабаровским окружным судом к 90 плетям и прикованию к тачке, но наказание тогда по недосмотру, как пишет Чехов, не было приведено в исполнение. Если бы не неудачный побег, возможно, обошлось бы без экзекуции, но теперь она была неизбежна. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] волосы прилипли ко лбу, шея надулась; уже после 5—10 ударов тело, покрытое рубцами еще от прежних плетей, побагровело, посинело; кожица лопается на нем от каждого удара.
– Ваше высокоблагородие! – слышится сквозь визг и плач. – Ваше высокоблагородие! Пощадите, ваше высокоблагородие!
И потом, после 20–30 удара, Прохоров причитывает, как пьяный или точно в бреду:
– Я человек несчастный, я человек убитый… За что же это меня наказывают?
Вот уже какое-то странное вытягивание шеи, звуки рвоты… Прохоров не произносит ни одного слова, а только мычит и хрипит; кажется, что с начала наказания прошла целая вечность, но надзиратель кричит только: „Сорок два! Сорок три!“»[226]226
Остров Сахалин. Гл. XXI. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 10. С. 344. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] Задолго до конца экзекуции писатель, испытывая отвращение, вышел на улицу. Но даже на расстоянии он слышал монотонный голос надсмотрщика, подсчитывавшего удары, снова входил и выходил, а тот все еще считал… «Наконец, девяносто. Прохорову быстро распутывают руки и ноги и помогают ему подняться. Место, по которому били, сине-багрово от кровоподтеков и кровоточит. Зубы стучат, лицо желтое, мокрое, глаза блуждают. Когда ему дают капель, он судорожно кусает стакан… Помочили ему голову и повели в околоток.
– Это за убийство, а за побег еще будет особо, – поясняют мне, когда мы возвращаемся домой.
– Люблю смотреть, как их наказывают! – говорит радостно военный фельдшер, очень довольный, что насытился отвратительным зрелищем. – Люблю! Это такие негодяи, мерзавцы… вешать их!
От телесных наказаний грубеют и ожесточаются не одни только арестанты, но и те, кто наказывают и присутствуют при наказании. Исключения не составляют даже образованные люди»,[227]227
Цит. по: Чехов А. Т. 10. С. 345. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] – делает вывод Антон, а в письме к Суворину рассказывает: «Присутствовал на наказании плетьми, после чего ночи три-четыре мне снился палач и отвратительная кобыла».[228]228
Письмо от 11 сентября 1890 г. (Примеч. автора.) Там же. Т. 11. С. 479. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Надо сказать, что нервная система Антона подвергалась испытаниям и менее наглядным. На Сахалине жили и женщины-каторжницы (примерно десять процентов всех заключенных), и свободные женщины, приехавшие сюда разделить участь своих приговоренных к каторге мужей. Как тем, так и другим для того, чтобы выжить, приходилось заниматься проституцией. Тюремщики приберегали для себя самых молодых и привлекательных, другие доставались их «подопечным». Продажа матерями совсем юных девушек богатым поселенцам или надсмотрщикам была здесь привычным делом. «Ввиду громадного спроса, – пишет Чехов, – занятию проституцией не препятствуют ни старость, ни безобразие, ни даже сифилис в третичной форме. Не препятствует и ранняя молодость. Мне приходилось встречать на улице в Александровске девушку шестнадцати лет, которая, по рассказам, стала заниматься проституцией с 9 лет. У девушки этой есть мать, но семейная обстановка на Сахалине далеко не всегда спасает девушек от гибели. Рассказывают про цыгана, который продает своих дочерей и при этом сам торгуется. Одна женщина свободного состояния в Александровской слободке держит „заведение“, в котором оперируют только одни ее родные дочери. В Александровске вообще разврат носит городской характер».[229]229
Остров Сахалин. Гл. XXI. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 10. С. 333–334. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Тощие, растерянные, неухоженные, безграмотные, одетые в лохмотья дети, живущие на острове, были развращены сызмальства. Некоторые и вовсе не знали своих родителей. Но тем не менее Чехов полагал, что присутствие детей оказывает ссыльным нравственную поддержку и что дети часто составляют то единственное, что привязывает еще ссыльных мужчин и женщин к жизни, спасает от отчаяния, от окончательного падения.
При этом в XVII главе книги, почти целиком посвященной детям, писатель с горечью замечает:
«Под какими впечатлениями воспитываются сахалинские дети и какие впечатления определяют их душевную деятельность, читателю понятно из всего вышеописанного. Что в России, в городах и деревнях, страшно, то здесь обыкновенно. Дети провожают равнодушными взглядами партию арестантов, закованных в кандалы; когда кандальные везут тачку с песком, то дети цепляются сзади и хохочут. Играют они в солдаты и арестанты. <…> Сахалинские дети говорят о бродягах, розгах, плетях, знают, что такое палач, кандальные, сожитель. Обходя избы в Верхнем Армудане, я в одной не застал старших; дома был только мальчик лет десяти, беловолосый, сутулый, босой; бледное лицо покрыто крупными веснушками и кажется мраморным.
– Как по отчеству твоего отца? – спросил я.
– Не знаю, – ответил он.
– Как же так? Живешь с отцом и не знаешь, как его зовут? Стыдно.
– Он у меня не настоящий отец.
– Как так – не настоящий?
– Он у мамки сожитель.
– Твоя мать замужняя или вдова?
– Вдова. Она за мужа пришла.
– Что значит – за мужа пришла?
– Убила.
– Ты своего отца помнишь?
– Не помню. Я незаконный. Меня мамка на Каре родила».[230]230
Цит. по: Чехов А. Т. 10. С. 276–277. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































