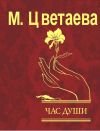Текст книги "Марина Цветаева"

Автор книги: Анри Труайя
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
V. Мировая война и опыт лесбийской любви
От недели к неделе опасения Марины подтверждались и крепли. Едва поступили сообщения о первых битвах, все молодые люди, способные носить оружие, стали осаждать пункты призыва в армию. Обладатели огромных состояний соперничали в щедрости, стремясь «помочь делу нашей победы». Девушки из лучших семей поступали на курсы медицинских сестер. Владельцы свободных жилых площадей предлагали – совершенно бесплатно – размещать там раненых. Андрей Иванович Цветаев, старший сын профессора, получивший от отца в наследство дом в Трехпрудном переулке, передал его властям, чтобы устроить в нем госпиталь. Но чуть позже достопочтенное строение было наполовину уничтожено пожаром. Вернувшись в Москву, Марина и Сергей, которые сначала снимали квартиру на Полянке, устроились с куда большим комфортом в доме номер шесть по Борисоглебскому переулку, между Арбатом и Поварской. Сергей поступил в Московский университет (на филологический факультет), а Марина все пыталась жить так, будто нет никакой войны: усердно посещала литературные салоны и редакции газет. Заботиться о хлебе насущном ей не приходилось: завещанный отцом и помещенный ею в банк капитал приносил шесть процентов в месяц, в пересчете на рубли – это около пятисот, тогда как средняя заработная плата рабочего в то время составляла ежемесячно всего двадцать два рубля.[55]55
Цифры взяты из труда Михаила Флоринского «Конец Российской империи» (1931 г.). (Прим. авт.)
[Закрыть] И на самом деле – если она постоянно подбадривала Сережу и советовала ему продолжать учиться и сдавать экзамены, то по единственной причине: Марина была уверена, что, пока муж остается студентом, призыв на военную службу ему не грозит. А кроме того, ее вполне устраивало, что он не ходит за ней по пятам целый день и что его часто не бывает дома. Конечно, она все еще испытывала по отношению к Сергею нежную привязанность, но с недавнего времени новая страсть возбуждала, опустошала и одновременно вдохновляла ее. Осенью 1914 года Марина познакомилась с поэтессой Софьей Парнок, тридцатилетней, весьма энергичной и даже несколько агрессивной женщиной, которая не скрывала своих однополых пристрастий и произведения которой уже позволили ей добиться некоторого успеха в литературной среде. Цветаева сразу же была очарована этим смелым и предприимчивым созданием. Для Сергея она всегда играла главенствующую роль, была опорой, поскольку он как мужчина оказался чахлым, вялым и апатичным. А тут – сколько можно было получить удовольствия от того, что тобою властвует Софья, страстная, пышущая здоровьем и требовательная самка! Парнок, которая была на семь лет старше Марины, охотно воспринимала ее как девочку, забавлялась, узнав о какой-то новой ее причуде или прихоти, по-матерински журила за ошибки, восхищалась талантом. Польщенная вниманием сестры по перу, столь же искусной в ласках, сколь и в поэзии, Марина повсюду появлялась с Софьей Парнок и наслаждалась тем, насколько шокированы излишне целомудренные, как ей казалось, знакомые подобной демонстрацией ее противоестественных наклонностей. Но даже те, кто осуждал Марину за непристойность поведения, преклонялись перед ее личностью. Коротко подстриженные каштановые волосы, широкое лицо, прямой взгляд… Она скорее заставляла признать себя, чем соблазняла. Встретив Цветаеву на одном из литературных вечеров, где она читала свои последние стихи, молодой литератор Николай Еленев напишет позже: «Ее серые глаза отливали холодом, они были прозрачны, глаза человека, никогда не знавшего страха, а еще меньше – мольбы или подчинения».
Влияние Софьи Парнок на молоденькую любовницу было так велико, что Марине становилось с каждым днем все труднее и труднее обсуждать свою нежную привязанность к этой женщине с Сергеем, а уж тем более – свою пылкую страсть к этой ниоткуда взявшейся подруге. Анализируя впоследствии это роковое и явно безысходное стечение обстоятельств, Цветаева признается: «Я страдала в 22 года из-за Софьи П…; она меня отталкивала, заставляла умолять, попирала ногами, но она меня любила».[56]56
Цит. по работам С. Поляковой, воспроизведенным В. Лосской в упоминавшемся сочинении. (Прим. авт.)
[Закрыть]
Доведенный до исступления изменой жены, которая предпочла ему лесбиянку, воодушевленный примером товарищей по университету, которые один за другим шли в армию, Сергей пишет сестре: «…каждый день война разрывает мне сердце… если бы я был здоровее – я давно был бы в армии. Сейчас опять поднят вопрос о мобилизации студентов – может быть, и до меня дойдет очередь? (И потом, я ведь знаю, что для Марины это смерть.)»[57]57
Цит. по кн.: А. Саакянц. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М., Эллис Лак, 1999, стр. 79. (Прим. авт. и перев.)
[Закрыть] В феврале 1915 года, преодолев болезненную слабость и затруднения с дыханием, Сергей поступает братом милосердия в военный санитарный поезд, который курсирует из Москвы в Белосток, а затем в Варшаву и обратно, то есть отправляется на театр военных действий. Поступок мужа огорчает Марину, приводит в растерянность, даже подавляет в какой-то мере, но одновременно – приносит облегчение. Она чувствует себя одновременно и виновной и счастливой: желания исполняются. В глубине души ей всегда нравилось жить, разрываясь между долгом и наслаждением. А существует ли лучшее средство изгнать из любви обыденность, чем угрызения совести? Чем раскаяние? Ей кажется возбуждающе прекрасным жалеть Сережу, который дрожит от холода, питается чуть ли не отбросами из солдатского котелка и каждую минуту рискует быть раненым, если не убитым, – да-да, думать обо всем этом, покоясь в объятиях своей подруги. Нежась под ее ласками. Ей с детства не хватало матери, и Софья Парнок сумела заменить покойную, прибавив чувственность к привязанности, привкус греха к понятию о честной независимости. Даже скандалы, даже ссоры, которыми знаменовалась их связь, были необходимы для этой пары, мятеж только сильнее сплачивал двух женщин. Цветаева, смакуя каждую, изложила подробности этого чередования бурь и просветов в тучах в цикле стихотворений, названном ею «Подруга».[58]58
Опубликован в сборнике «Юношеские стихи». (Прим. авт.)
[Закрыть] То сладострастные, то элегические гимны сапфической любви, составляющие этот цикл, выражают блуждания страсти, которая ищет себе оправдания. И чувства Марины, когда она писала хотя бы вот эти строки, были вполне искренни:
Но и посвящая многочисленные стихи спутнице своих ночей, Марина продолжала восхищаться своей дочерью Ариадной и осыпать девочку ласками, видя в ребенке самое совершенное из своих творений, продолжала слать письмо за письмом мужу, не переставая думать о том, как он несчастен из-за того, что находится вдали от нее. Почти безотчетно она выискивала в газетах информацию о событиях в действующей армии, чтобы быть в курсе происходящего. Но, несмотря на жуткие заголовки большинства статей и убийственные комментарии журналистов, не могла согласиться с проклятиями в адрес Германии. Органически присущий ей дух противоречия всегда подталкивал Марину к защите того, кого все единодушно приговаривали. Точно так же, как она решила выйти замуж за еврея вопреки антисемитизму, которым была заражена часть ближайшего ее окружения, точно так же, как она бросала вызов общественному мнению, афишируя свою любовь к женщине, сейчас Марина считала необходимым реабилитировать страну, обвиняемую всеми в ужаснейших преступлениях. Преклонение перед немецкой литературой, перед немецкой философской мыслью диктовало ей запрет, когда заходила речь о том, чтобы присоединиться к излишне славянофильскому патриотизму. Как дуэлянт перчатку, она швыряла в лицо читающей публики строки, адресованные Германии:
Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам.
Ну, как же я тебя оставлю.
Ну, как же я тебя предам.
И где возьму благоразумье:
«За око – око, кровь – за кровь», —
Германия – мое безумье!
Германия – моя любовь!
Эти стихи, представлявшие собою резкий контраст по отношению к чувствам, испытываемым согражданами Цветаевой, Марина мужественно декламировала на многих частных литературных вечерах. И – странное дело! – никто ни разу ее не упрекнул в этом. На самом деле все объяснялось довольно просто. Порыв первых дней войны, заставлявший людей сплотиться вокруг царя, теперь уступил в тылу место назревающему, но пока еще скрытому скептицизму. Политические партии, временно прекратившие свои распри, когда начались военные действия, снова принялись бешено критиковать друг друга, ссориться и интриговать в коридорах власти. В высших кругах общества неудачи русской армии, преследовавшие ее с мая 1915 года, провоцировали все возраставшее негодование. Уже в открытую говорилось о некомпетентности генералов, дефиците боеприпасов и снаряжения, полной неразберихе на транспорте, снисходительности полиции к вражеским шпионам. Оплакивалось глупое и бессмысленное решение Его Величества, только что взявшего на себя руководство войсками, передав бразды правления гражданскими делами своей заведомо неумелой и неуравновешенной супруге, страдавшей неврозом. Шептались о том, что царица находится целиком во власти Распутина, вынырнувшего внезапно откуда-то из глубин Сибири мужика, этакого ясновидца-проныры, пользующегося для пущего воздействия на Александру Федоровну оккультными силами. Спорили о том, когда дезориентированная, подвергшаяся нападению и полузахваченная врагом, истекающая кровью страна, окончательно рухнет в бездну. Но тем не менее, предрекая все эти бедствия, интеллектуальная элита продолжала страстно отдаваться занятиям литературой и философией, пропадать на бесконечных дискуссиях о будущем символизма в России, разносить с упоением сплетни, доходившие из Зимнего дворца, и думать, желая все-таки сохранить рассудок, что теперь, когда все катится неведомо куда, интеллигенции остается только ждать, какой оборот примут события.
Вот в такой странной атмосфере тоски и отсутствия ясного представления о чем бы то ни было, стыда и покорности судьбе, фатализма и насмешничества над всеми и всем Марина и Софья Парнок, ставшие неразлучными, отправились в конце 1915 года в Петроград. Изменилось только имя столицы – русифицировала название города вражда к немцам, тут ничего поделать было нельзя, зато сам он остался почти таким же, как в бытность Санкт-Петербургом, накануне всеобщей мобилизации. В театрах, ресторанах, кабаре и гостиных все так же толпился народ. Конечно, по улицам строем проходили готовые пролить на фронте кровь за Бога, царя и отечество солдаты, конечно, по слухам, в больницах, превратившихся в военные госпитали, не хватало коек, чтобы разместить раненых, конечно, многие семьи уже успели потерять близких, но даже те, кто носил траур по дорогим им людям, хотели верить, что жертвы не напрасны.
Софья Парнок самовольно ввела Марину в число редакторов «Северных записок», журнала, где регулярно публиковала свои произведения. Этот ежемесячник левого толка, которым руководил Федор Степун, принимал у себя только самых лучших из петроградских либеральных мыслителей и поэтов. Так сказать, сливки литературного общества. Там можно было встретить как сочувствующего социалистам политика Керенского, так и неисправимого мечтателя Ремизова, как юного поэта со все возрастающей популярностью Есенина, так и более чем авторитетную Ахматову… Именно с коллективом, группировавшимся вокруг редакции «Северных записок», и встретила Марина Новый, 1916-й год. А 1 января один из петроградских поэтов-корифеев Михаил Кузмин организовал вечер, на котором Цветаева прочла свои самые новые стихи, и этот вечер стал для московской гостьи полным триумфом. Марина была тем более горда, что чувствовала себя представительницей родной Москвы в самом сердце конкурировавшего с ней великого города на берегах Невы. И потому еще, что здешние любители изящной словесности поклонялись одному нерушимому идолу – молодой женщине, которой едва исполнилось двадцать семь лет, но которая уже была знаменитейшей из знаменитых, Анне Ахматовой. Сейчас ее в северной столице не было, Марину Цветаеву она знала только по стихам и, как говорили, относилась к ее творчеству скорее сдержанно, чем восторженно. Зато Марина, забыв о всякой сдержанности, восхищалась своей блистательной соперницей и горько сожалела только о том, что не может немедленно поприветствовать ее лично. Она чуть ли не на всех перекрестках вещала, что, читая свои новые стансы, посвященные Германии, думает только об Ахматовой:
Я знаю правду! Все прежние правды – прочь!
Не надо людям с людьми на земле бороться.
Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь.
О чем– поэты, любовники, полководцы?
Уж ветер стелется, уже земля в росе,
Уж скоро звездная в небе застынет вьюга,
И под землею скоро уснем мы все,
Кто на земле не давали уснуть друг другу.[60]60
3 октября 1915 г. (Прим. перев.)
[Закрыть]
Вспоминая этот вечер, она напишет: «Я читаю так, будто Ахматова здесь же, в комнате. Успех мне необходим. Если сейчас я хочу проложить себе путь к Ахматовой, если в эту минуту я хочу так хорошо, как только возможно, представлять Москву, то не для того, чтобы победить Петербург, но для того, чтобы подарить эту Москву Петербургу, подарить Ахматовой эту Москву, которую я воплощаю в своей личности и своей любви, чтобы склониться перед ней».
Наверное, Софья Парнок испытывала некоторую ревность при виде такой преданности – пусть даже чисто интеллектуальной – своей подруги по отношению к другой писательнице. Хорошо еще, что последней не было здесь и она не могла выслушать эти отчаянные признания юной сестры по перу! Зато если встреча с Ахматовой не удалась, то состоялась другая встреча, на этот раз вполне реальная и имевшая для Марины характер откровения. Поэт Осип Мандельштам, с которым она уже виделась в прошлом году в Коктебеле, появился на праздновании Нового года, и, увидев его в Петрограде, Цветаева ощутила с ним глубокое единение. Он был годом старше ее самой; он был без ума от ее стихов; он сам искрился талантом, планами, оригинальными идеями; но он был женат. Впрочем, разве это препятствие? Ведь она и сама была замужем. Собственно, их отношения навсегда останутся дружескими. Как сладостно желать, оставаясь целомудренным, поручить одной лишь душе наслаждаться приближением другой души, питать себя воздержанием и расстоянием. Некоторые признания на бумаге волнуют плоть куда больше, чем самые пылкие объятия.
Тем не менее после встречи 1 января Марина позаботилась о том, чтобы скрыть от подруги смутное чувство, которое она испытывала к Осипу Мандельштаму. Софья Парнок была слишком проницательна для того, чтобы не угадать: ее вот-вот свергнут с трона. Начались взаимные обвинения, упреки, и вскоре молодые женщины пришли к решающему объяснению. В начале марта разрыв совершился. Марина, довольно сильно этим опечаленная, посвятила Софье Парнок прощальное стихотворение. Упрекая подругу, она пишет:
Вы это сделали без зла,
Невинно и непоправимо.
– Я вашей юностью была,
Которая проходит мимо.
Лишившись этой дружеской поддержки и лестной для нее ревности, она возвращается к мужу, который способен все понять, все простить и все забыть. 27 апреля 1916 года она посылает ему в полк стихи, напоминающие отчаянный призыв:
Я пришла к тебе черной полночью,
За последней помощью.
Я – бродяга, родства не помнящий,
Корабль тонущий.
Она вернулась в Москву в том же состоянии неуверенности в своем будущем, не понимая, куда идет ее личная жизнь. У Анастасии в это время тоже были приключения. Расставшись с Борисом Трухачевым, она, не дожидаясь окончания бракоразводной процедуры, поселилась вместе с одним из своих друзей, инженером Маврикием Александровичем Минцем. Борис был в армии; Маврикий, также мобилизованный, но в тылу, работал по своей специальности, и с утра до вечера его не бывало дома. Анастасия жила вместе с ним в Александрове, городке в ста километрах от Москвы, во Владимирской губернии. Она снова была беременна, изнемогала под грузом усталости и забот и нуждалась в помощи. Марина немедленно бросилась к ней, и сестры в откровенных разговорах (а малыши тем временем путались у них под ногами) обменивались воспоминаниями и комментариями о странностях их параллельных судеб. Война, о которой им так хотелось забыть, напоминала о себе, когда до них издали доносилось мужественное пение солдат, отправляющихся на фронт. В июне Анастасия родила второго сына, Алешу. Малыш был – вылитый Маврикий. Вся компания жила в деревенском доме недалеко от леса. Марина занималась одновременно своей дочерью Ариадной и обоими племянниками, Андреем и Алешей. В повседневных делах ей помогала прислуга. Но времена были трудные, с продовольствием становилось все хуже, и это сказывалось на настроении семьи.
Затем внезапно все словно озарилось: Осип Мандельштам приехал из Петербурга в Москву и вскоре присоединился к семейному кружку на правах всеми любимого дядюшки, который пересказывал молодым женщинам сплетни большого города, читал им свои стихи, благоговейно слушал стихи Марины, играл с детьми и прогуливался по полям. Увы! Вскоре его нервы не выдержали. Может быть, его терзала мысль об этой безжалостной, неумолимой и нескончаемой войне? Его мучили предчувствия, галлюцинации, он упрекал Марину в том, что она слишком увлекалась прогулками по деревенскому кладбищу, и, наконец, объявил, что гнилой климат Александрова ему не подходит, он хочет вернуться в Крым, где солнце излечит его от навязчивых идей.
После его отъезда Марина задалась вопросом, что, собственно, еще удерживает ее в Александрове. Ответ: поэзия! Она никогда еще не писала с такой легкостью и уверенностью. Она сама удивлялась тому, в каком ритме творит: в неделю – пять-шесть стихотворений на самые различные темы. То она воспевала Москву, свой любимый город, где сорок сороков церквей, то сплетала венки в честь удивительной Ахматовой, с которой она так и не встретилась, то обожествляла великого учителя Блока, то, возвращаясь к своим излюбленным темам, говорила об одиночестве, болезни, смерти.[61]61
Циклы «Стихи о Москве», «Ахматовой», «Стихи к Блоку», среди прочего, вошли в сборник «Версты». (Прим. авт.)
[Закрыть] И тем не менее в сборнике «Версты I», куда вошли многие лучшие ее стихи, она ни словом не упоминает о войне, которая ежедневно до нее дотягивается. Можно подумать, будто странное суеверие пока удерживает ее от того, чтобы ступить на эту заминированную территорию. 2 июля 1916 года она пишет:
А этот колокол там, что кремлевских тяжeле,
Безостановочно ходит и ходит в груди, —
Это – кто знает? – не знаю – быть может,
– должно быть —
Мне загоститься не дать на российской земле!
Пророчество, произнесенное ею в тот вечер, не спешило осуществиться. И тем не менее, по мере того как проходили дни, над Россией все тяжелее нависала зловещая туча. Все жили в постоянном ожидании событий, которые, казалось, могли быть лишь трагическими. Новости, приходившие с фронта, становились все страшнее. Смены министров не могли успокоить фронды политических кругов. Внезапно в конце декабря 1916 года газеты сообщили об убийстве Распутина. В редакционных комнатах и на улицах шептались о том, что преступление было совершено людьми, стоявшими близко к трону, которым помогал видный член Государственной Думы.[62]62
Вскоре после этого станет известно, что участниками заговора были князь Феликс Юсупов, великий князь Дмитрий Павлович, депутат Пуришкевич, которым помогали два более скромных заговорщика, врач Лазоверт и офицер в отпуске по ранению, капитан Сухотин.
[Закрыть] Иные, среди лучше информированных людей, вслух говорили, что испытывают облегчение от смерти Распутина, этого наглого типа, чье присутствие во дворце дискредитировало императорскую семью; другие задавались вопросом, не был ли это неудавшийся государственный переворот и не станет ли эта кровавая казнь прелюдией к революции? Среди всей этой истерической суеты Марина думала прежде всего о том, как все эти беспорядки могут сказаться на судьбе ее мужа. Она понятия не имела о том, какой выйдет из этой бури Россия, главное было – чтобы Сережа вышел из нее целым и невредимым. Однако он по-прежнему носил мундир и оставался в зоне боев. Несмотря на то что он был братом милосердия, Сергей рисковал жизнью. Необходимо было вмешательство какого-нибудь важного человека, который мог бы вытащить его оттуда. Был бы жив профессор Цветаев, он мог бы что-то предпринять, у него были связи в высоких кругах. Но Марина была одна, ее единственным оружием были перо и бумага. Она писала стихи, а других тем временем убивали. И все же у нее было ощущение, что за этим занятием она теряла меньше времени, чем теряла бы, если бы читала газеты и отмечала на карте продвижение германской армии.
VI. Большевистская революция на марше
«Рыба тухнет с головы…» Разве не надо опасаться врага внутреннего больше, чем приходящего извне? Некоторые в то время задавали себе такой вопрос, понимая, какая непоследовательность, какая бессвязность мыслей царит на самом верху государственной власти. Отзвуком потерь на фронтах стали скандалы в тылу. То здесь, то там слышался шепоток: пора провозгласить сепаратный мир с Германией. Генералы один за другим заявляли о своей неспособности поддерживать моральный дух в войсках, если гражданские будут по-прежнему подавать пример безрассудства и коррупции. Некоторые видели спасение лишь в том, чтобы немедленно подчиниться требованиям либералов. У царя не оставалось выбора: желая предохранить страну от вторжения и анархии, он должен был отречься от престола. И – под двойным давлением: военных и политиков – отрекся от него 2 марта 1917 года в пользу брата Михаила. Но тот отказался принять корону, и теперь расколотой, растерянной нацией силилось хоть как-то руководить жалкое и беспомощное Временное правительство. В Петрограде после образования «совета рабочих и солдат» приступ реваншистской радости привел к немыслимому хаосу. И если некоторые интеллигенты – такие, например, как Андрей Белый и Александр Блок – приветствовали повсеместные и повседневные беспорядки, видя в них зарю будущей цивилизации – цивилизации свободы и справедливости, то других тревожило половодье низменных инстинктов, обуревавших население страны.
Марина Цветаева оплакивала арест царя, которого вместе с семьей заперли в Царскосельском дворце. Как большинство соотечественников, она надеялась, что Керенский, ставший главой Временного правительства, сумеет успокоить народ, навести порядок на улицах, придумает, как обеспечить почетный статус бывшему государю, а главное – остановить вражду с Германией. Но Керенский, напротив того, провозгласил во всеуслышание о своем стремлении вести войну до победного конца. И Марина возмущалась этим упрямством, потому что, по ее мнению, время уходило зря, а Сергей из-за этого рисковал угодить на передовую. Опасаясь потерять свое привилегированное положение медбрата при новом рекрутском наборе и оказаться простым пехотинцем, он только что записался на офицерские курсы при Военной академии в Москве. Вопреки семейной традиции мятежа и анархии Сергей оставался верным низложенному монарху.
Марина поддерживала лояльность мужа по отношению к царю, но отнюдь не потому, что была сторонницей абсолютистской власти, а потому лишь, что догадывалась: Николай II, несмотря на все свои слабости и недостатки, воплощает в себе образ вечной России, которую большевики хотят разрушить до основания. Точно так же, как Цветаева обожала Москву с ее церквями, не посещая проходящих там богослужений, почитала она и царя – символ российского прошлого, но оставалась при этом в стороне от тех, кто официально воскурял ему фимиам. Для нее предать поверженного императора было подлостью, низостью, почти клятвопреступным деянием. С гордостью, с вызовом, с признательностью традициям, в которых выросла, хотя часто и оспаривала их, она напишет:
Надобно смело признаться, Лира!
Мы тяготели к великим мира:
Мачтам, знаменам, церквам, царям,
Бардам, героям, орлам и старцам,
Так, присягнувши на верность – царствам,
Не доверяют Шатра – ветрам.
Знаешь царя – так псаря не жалуй!
Верность как якорем нас держала:
Верность величью – вине – беде,
Верность великой вине венчанной!
Так, присягнувши на верность – Хану,
Не присягают его орде.
Ветреный век мы застали, Лира!
Ветер, в клоки изодрав мундиры,
Треплет последний лоскут Шатра…
Новые толпы – иные флаги!
Мы ж остаемся верны присяге,
Ибо дурные вожди – ветра.[63]63
Стихотворение написано 14 августа 1918 г., входит в сборник «Лебединый стан». (Прим. перев.)
[Закрыть]
Но на самом деле в это время Марина Цветаева была куда менее внимательна к явлению новой России, чем к первым движениям ребенка, которого носила в чреве. Снова беременная, она дрожала за будущее этого ребенка, который рисковал родиться в наихудших условиях. Да и отец был совсем не уверен в завтрашнем дне… Пусть сейчас его прикрывает крыша офицерской школы, но разве, едва получив погоны, он не может быть послан в огненную кашу? Если бы только Керенский притих, умерил свои притязания и отменил ближайшие наступления! Если бы только безумцы России и Германии нашли согласие, водя пальцем по карте! Если бы только Сережа снял мундир и снова стал гражданским лицом, как в благословенные дни мира на земле! Нет, это напрасные мечты… Керенский, такой ловкий на словах, решительно не способен претворять их в жизнь. Больше похож на банального – болтливого и пустого – французика, когда нужен, по крайней мере, «Бонапарт»!
Приезд 2 апреля 1917 года в Петроград Ленина, преследуемого, но победительного вождя большевиков, из духа противоречия вдохновил Марину на нежнейшие стихи, адресованные царевичу Алексею, такому же, как его родители, узнику, томящемуся в Царском Селе. Она умоляла «церковную Россию» сохранить живым и здоровым невинного «ягненка», который чахнет за стенами бывшего императорского дворца, охраняемого красными солдатами.[64]64
Речь идет о стихотворении «За Отрока – за Голубя – за Сына…», написанном 4 апреля 1917 г., в третий день Пасхи, и вошедшем в сборник «Лебединый стан». (Прим. перев.)
[Закрыть] А потом, обращаясь уже к поруганному и униженному монарху, она пишет:
Царю – на пасху
Настежь, настежь
Царские врата!
Сгасла, схлынула чернота.
Чистым жаром
Горит алтарь.
– Христос Воскресе,
Вчерашний царь!
Пал без славы
Орел двуглавый.
– Царь! Вы были не правы.
Помянет потомство
Еще не раз —
Византийское вероломство
Ваших ясных глаз.
Ваши судьи —
Гроза и вал!
Царь! Не люди —
Вас Бог взыскал.
Но нынче Пасха
По всей стране,
Спокойно спите
В своем Селе,
Не видьте красных
Знамен во сне.
Царь! – Потомки
И предки – сон.
Есть – котомка,
Коль отнят – трон.[65]65
А вот это стихотворение из того же сборника датировано: «Москва, 2 апреля 1917, первый день Пасхи». (Прим. перев.)
[Закрыть]
Наконец 13 апреля 1917 года в Москве, среди полного военного разгрома, среди полного политического смятения Марина в муках рожает дочь – Ирину. И сразу же сообщает о счастливом событии маленькой Ариадне (Але):
«Милая Аля!
Я очень по тебе соскучилась… Твою сестру Ирину мне принес аист – знаешь, такая большая белая птица с красным клювом, на длинных ногах. У Ирины темные глаза и темные волосы, она спит, ест, кричит и ничего не понимает… Кричит она совсем как Алеша, – тебе понравится… Когда я приеду, я подарю тебе новую книгу».[66]66
Эта – данная в сокращении первая из четырех замечательных записок, переданных Мариной Цветаевой дочери из родильного дома, – написана крупными печатными буквами – Аля уже умела читать – 16 апреля 1917 года, четвертая, последняя – 29 апреля. Алеша – младший сын Анастасии Цветаевой. (Прим. перев.)
[Закрыть]
Однако у Марины совершенно не было времени умиляться рождению нового человека. Живя в дезорганизованной стране, она не могла понять, как и чем защитить своего мужа и себя самое, у кого просить этой защиты. Конечно, большевики во главе со своим вождем Лениным и его приспешником Троцким провалились с попыткой государственного переворота, но не укрепилась и власть Временного правительства. Улица диктовала сверхосторожным и боязливым политикам свою волю. Марина боялась, что в любую минуту по приказу какого-нибудь безответственного комитета Сергея выдернут из его офицерской школы и отправят на кровавую бойню. Доведенная почти до безумия, растерянная, она просит своего лучшего друга Максимилиана Волошина (Макса), предполагая, что у того есть связи в «высших сферах», попробовать добиться для Сережи безопасного, с ее точки зрения, прикомандирования.
«Дорогой Макс! – пишет ему Цветаева. – У меня к тебе огромная просьба: устрой Сережу в артиллерию на юг. (Через генерала Маркса?) Лучше всего в крепостную артиллерию, если это невозможно – в тяжелую. (Сначала говори о крепостной. Лучше всего бы – в Севастополь. Сейчас Сережа в Москве, в 56 пехотном запасном полку. Лицо, к которому ты обратишься, само укажет тебе на форму перехода. Только, Макс, умоляю тебя – не откладывай. Пишу с согласия Сережи. Жду ответа». Но дни проходили, а Макс не отвечал. А в Москве между тем уже не хватало всего. Город нерегулярно снабжался продовольствием. Цены на продукты взлетели запредельно. Всю зиму невозможно было достать дрова, чтобы отопить помещения. Поняв, что ждать дальше бессмысленно, Марина вернулась к прежней теме и опять написала Волошину. Теперь она сама собралась в Крым, но ей надо было, чтобы Сережа поехал вместе с семьей.
«Дорогой Макс,
Убеди Сережу взять отпуск и поехать в Коктебель. Он этим бредит, но сейчас у него какое-то расслабление воли, никак не может решиться. Чувствует он себя отвратительно, в Москве сыро, промозгло, голодно. Отпуск ему, конечно, дадут. Напиши ему, Максинька! Тогда и я поеду – в Феодосию, с детьми. А то я боюсь оставлять его здесь в таком сомнительном состоянии.
Я страшно устала… Просыпаюсь с душевной тошнотой, день как гора… Напиши Сереже, а то – боюсь – поезда встанут».[67]67
Письмо от 25 августа 1917 г. (Прим. перев.)
[Закрыть]
Пока Марина жаловалась на судьбу Сережи, ставшего пленником своего мундира, Анастасия, уехавшая по настоянию Волошина еще в середине мая с детьми в Феодосию, переживала горе, которое физически и морально совершенно выбило ее из колеи. 21 мая 1917 года она потеряла мужа – Маврикия Минца, умершего от перитонита. В Москву Ася попала только на следующий день после похорон, и надо было немедленно возвращаться в Крым – к детям, оставленным у чужих людей. Они перебрались в Коктебель, к Волошиным. Несколько недель спустя, в июле, оба ее сына заболели дизентерией. Старший, Андрей, выздоровел, маленький Алеша 18 августа умер. Тогда совершенно растерявшаяся Анастасия обратилась к старшей сестре, остававшейся в Москве. Марина усмотрела в этом форс-мажорные обстоятельства и, стремясь решить все дела разом, решила воспользоваться пребыванием в Крыму для того, чтобы снять квартиру, где обоснуется с детьми, подальше от северных столиц с их беспорядками и голодом. Авантюристка по призванию, она села в поезд, бросив в Москве мужа и обеих дочерей. Пусть они ни о чем не беспокоятся! Как только она найдет в Коктебеле или в Феодосии подходящую квартиру, она вернется за ними троими и унесет на юг – как кошка, спасающая своих котят…
Программа Марины отличалась завидной логикой. Но внезапно неожиданные события помешали ее осуществлению. В ночь с 24 на 25 октября 1917 года, когда Цветаева уже находилась в Крыму, народ и Петроградский гарнизон, послушные приказаниям Ленина, взяли штурмом Зимний дворец, резиденцию Временного правительства, бросили в тюрьму ошеломленных министров и привели к власти большевиков с их чванным «лидером». Провинциальные города один за другим также восставали. Повсюду торжествовала революция, погружая Россию в хаос, неразбериху, сея беспорядки, насаждая ненависть и беззаконие. Те, кто осмеливался протестовать, взывая к осознанию гражданского долга, попадали за решетку или оказывались расстрелянными на месте. В Феодосии солдатня праздновала победу, грабя, устраивая попойки и оскорбляя пытавшихся образумить их младших офицеров. А ведь Сергей вот-вот должен был закончить в Москве офицерскую школу! Как и большинство его товарищей, «юнкеров», он, разумеется, не преминет ввязаться в борьбу с бунтовщиками… Еще 15 сентября 1917 года он писал семье Волошиных: «…Рвусь в Коктебель всей душою и думаю, что в конце концов вырвусь. Все дело за „текущими событиями“. К ужасу Марины, я очень горячо переживаю все, что сейчас происходит, – настолько горячо, что боюсь оставить столицу. <…> Я занят весь день обучением солдат – вещь безнадежная и бесцельная. Об этом стоило бы написать поподробнее, но, увы, боюсь „комиссии по обеспечению нового строя“. <…> Здесь все по-прежнему. Голодные хвосты, наглые лица, скандалы, драки, грязи как никогда и толпы солдат в трамваях. Все полны кипучей злобой, которая вот-вот прорвется. <…> Я сейчас так болен Россией, так оскорблен за нее, что боюсь – Крым будет невыносим. Только теперь почувствовал, до чего Россия крепка во мне. <…> С очень многими не могу говорить. Мало кто понимает, что не мы в России, а Россия в нас…»[68]68
Цит. по кн.: Марина Цветаева. Неизданное. Семья, история в письмах. М., Эллис Лак, 1999, стр. 249–250. (Прим. перев.)
[Закрыть]
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!