Читать книгу "Юмористические рассказы (сборник)"
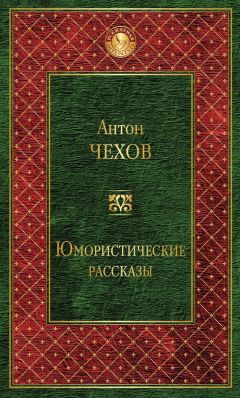
Автор книги: Антон Чехов
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 6+
сообщить о неприемлемом содержимом
Горе
Токарь Григорий Петров, издавна известный за великолепного мастера и в то же время за самого непутевого мужика во всей Галчинской волости, везет свою больную старуху в земскую больницу. Нужно ему проехать верст тридцать, а между тем дорога ужасная, с которой не справиться казенному почтарю, а не то что такому лежебоке, как токарь Григорий. Прямо навстречу бьет резкий, холодный ветер. В воздухе, куда ни взглянешь, кружатся целые облака снежинок, так что не разберешь, идет ли снег с неба, или с земли. За снежным туманом не видно ни поля, ни телеграфных столбов, ни леса, а когда на Григория налетает особенно сильный порыв ветра, тогда не бывает видно даже дуги. Дряхлая, слабосильная кобылка плетется еле-еле. Вся энергия ее ушла на вытаскивание ног из глубокого снега и подергиванье головой. Токарь торопится. Он беспокойно прыгает на облучке и то и дело хлещет по лошадиной спине.
– Ты, Матрена, не плачь… – бормочет он. – Потерпи малость. В больницу, бог даст, приедем и мигом у тебя, это самое… Даст тебе Павел Иваныч капелек, или кровь пустить прикажет, или, может, милости его угодно будет спиртиком каким тебя растереть, оно и тово… оттянет от бока. Павел Иваныч постарается… Покричит, ногами потопочет, а уж постарается… Славный господин, обходительный, дай бог ему здоровья… Сейчас, как приедем, перво-наперво выскочит из своей фатеры и начнет чертей перебирать. «Как? Почему такое? – закричит. – Почему не вовремя приехал? Нешто я собака какая, чтоб цельный день с вами, чертями, возиться? Почему утром не приехал? Вон! Чтоб и духу твоего не было. Завтра приезжай!» А я и скажу: «Господин доктор! Павел Иваныч! Ваше высокоблагородие!» Да поезжай же ты, чтоб тебе пусто было, чёрт! Но!
Токарь хлещет по лошаденке и, не глядя на старуху, продолжает бормотать себе под нос:
– «Ваше высокоблагородие! Истинно, как перед богом… вот вам крест, выехал я чуть свет. Где ж тут к сроку поспеть, ежели господь… матерь божия… прогневался и метель такую послал? Сами изволите видеть… Какая лошадь поблагороднее, и та не выедет, а у меня, сами изволите видеть, не лошадь, а срамота!» А Павел Иваныч нахмурится и закричит: «Знаем вас! Завсегда оправдание найдете! Особливо ты, Гришка! Давно тебя знаю! Небось, раз пять в кабак заезжал!» А я ему: «Ваше высокоблагородие! Да нешто я злодей какой или нехристь? Старуха душу богу отдает, помирает, а я стану по кабакам бегать! Что вы, помилуйте! Чтоб им пусто было, кабакам этим!» Тогда Павел Иваныч прикажет тебя в больницу снесть. А я в ноги… «Павел Иваныч! Ваше высокоблагородие! Благодарим вас всепокорно! Простите нас, дураков, анафемов, не обессудьте нас, мужиков! Нас бы в три шеи надо, а вы изволите беспокоиться, ножки свои в снег марать!» А Павел Иваныч взглянет этак, словно ударить захочет, и скажет: «Чем в ноги-то бухать, ты бы лучше, дурак, водки не лопал да старуху жалел. Пороть тебя надо!» – «Истинно пороть, Павел Иваныч, побей меня бог, пороть! А как же нам в ноги не кланяться, ежели благодетели вы наши, отцы родные? Ваше высокоблагородие! Верно слово… вот как перед богом… плюньте тогда в глаза, ежели обману: как только моя Матрена, это самое, выздоровеет, станет на свою настоящую точку, то всё, что соизволите приказать, всё для вашей милости сделаю! Портсигарчик, ежели желаете, из карельской березы… шары для крокета, кегли могу выточить самые заграничные… всё для вас сделаю! Ни копейки с вас не возьму! В Москве бы с вас за такой портсигарчик четыре рубля взяли, а я ни копейки». Доктор засмеется и скажет: «Ну, ладно, ладно… Чувствую! Только жалко, что ты пьяница…» Я, брат старуха, понимаю, как с господами надо. Нет того господина, чтоб я с ним не сумел поговорить. Только привел бы бог с дороги не сбиться. Ишь метет! Все глаза заворошило.
И токарь бормочет без конца. Болтает он языком машинально, чтоб хоть немного заглушить свое тяжелое чувство. Слов на языке много, но мыслей и вопросов в голове еще больше. Горе застало токаря врасплох, нежданно-негаданно, и теперь он никак не может очнуться, прийти в себя, сообразить. Жил доселе безмятежно, ровно, в пьяном полузабытьи, не зная ни горя, ни радостей, и вдруг чувствует теперь в душе ужасную боль. Беспечный лежебока и пьянчужка очутился ни с того ни с сего в положении человека занятого, озабоченного, спешащего и даже борющегося с природой.
Токарь помнит, что горе началось со вчерашнего вечера. Когда вчера вечером воротился он домой, по обыкновению пьяненьким, и по застарелой привычке начал браниться и махать кулаками, старуха взглянула на своего буяна так, как раньше никогда не глядела. Обыкновенно выражение ее старческих глаз было мученическое, кроткое, как у собак, которых много бьют и плохо кормят, теперь же она глядела сурово и неподвижно, как глядят святые на иконах или умирающие. С этих, странных, нехороших глаз и началось горе. Ошалевший токарь выпросил у соседа лошаденку и теперь везет старуху в больницу, в надежде, что Павел Иваныч порошками и мазями возвратит старухе ее прежний взгляд.
– Ты же, Матрена, тово… – бормочет он. – Ежели Павел Иваныч спросит, бил я тебя или нет, говори: никак нет! А я тебя не буду больше бить. Вот те крест. Да нешто я бил тебя по злобе? Бил так, зря. Я тебя жалею. Другому бы и горя мало, а я вот везу… стараюсь. А метет-то, метет! Господи, твоя воля! Привел бы только бог с дороги не сбиться… Что, болит бок? Матрена, что ж ты молчишь? Я тебя спрашиваю: болит бок?
Странно ему кажется, что на лице у старухи не тает снег, странно, что само лицо как-то особенно вытянулось, приняло бледно-серый, грязно-восковой цвет и стало строгим, серьезным.
– Ну и дура! – бормочет токарь. – Я тебе по совести, как перед богом… а ты, тово… Ну и дура! Возьму вот и не повезу к Павлу Иванычу!
Токарь опускает вожжи и задумывается. Оглянуться на старуху он не решается: страшно! Задать ей вопрос и не получить ответа тоже страшно. Наконец, чтоб покончить с неизвестностью, он, не оглядываясь на старуху, нащупывает ее холодную руку. Поднятая рука падает как плеть.
– Померла, стало быть! Комиссия!
И токарь плачет. Ему не так жалко, как досадно. Он думает: как на этом свете всё быстро делается! Не успело еще начаться его горе, как уж готова развязка. Не успел он пожить со старухой, высказать ей, пожалеть ее, как она уже умерла. Жил он с нею сорок лет, но ведь эти сорок лет прошли, словно в тумане. За пьянством, драками и нуждой не чувствовалась жизнь. И, как на зло, старуха умерла как раз в то самое время, когда он почувствовал, что жалеет ее, жить без нее не может, страшно виноват перед ней.
– А ведь она по миру ходила! – вспоминает он. – Сам я посылал ее хлеба у людей просить, комиссия! Ей бы, дуре, еще лет десяток прожить, а то, небось, думает, что я и взаправду такой. Мать пресвятая, да куда же к лешему я это еду? Теперь не лечить надо, а хоронить. Поворачивай!
Токарь поворачивает назад и изо всей силы бьет по лошадке. Путь с каждым часом становится всё хуже и хуже. Теперь уже дуги совсем не видно. Изредка сани наедут на молодую елку, темный предмет оцарапает руки токаря, мелькнет перед его глазами, и поле зрения опять становится белым, кружащимся.
«Жить бы сызнова…» – думает токарь.
Вспоминает он, что Матрена лет сорок тому назад была молодой, красивой, веселой, из богатого двора. Выдали ее за него замуж потому, что польстились на его мастерство. Все данные были для хорошего житья, но беда в том, что он как напился после свадьбы, завалился на печку, так словно и до сих пор не просыпался. Свадьбу он помнит, а что было после свадьбы – хоть убей, ничего не помнит, кроме разве того, что пил, лежал, дрался. Так и пропали сорок лет.
Белые снежные облака начинают мало-помалу сереть. Наступают сумерки.
– Куда ж я еду? – спохватывается вдруг токарь. – Хоронить надо, а я в больницу… Ошалел словно!
Токарь опять поворачивает назад и опять бьет по лошади. Кобылка напрягает все свои силы и, фыркая, бежит мелкой рысцой. Токарь раз за разом хлещет ее по спине… Сзади слышится какой-то стук, и он, хоть не оглядывается, но знает, что это стучит голова покойницы о сани. А воздух всё темнеет и темнеет, ветер становится холоднее и резче…
«Сызнова бы жить… – думает токарь. – Инструмент бы новый завесть, заказы брать… деньги бы старухе отдавать… да!»
И вот он роняет вожжи. Ищет их, хочет поднять и никак не поднимет; руки не действуют…
«Всё равно… – думает он, – сама лошадь пойдет, знает дорогу. Поспать бы теперь… Покеда там похороны или панихида, прилечь бы».
Токарь закрывает глаза и дремлет. Немного погодя, он слышит, что лошадь остановилась. Он открывает глаза и видит перед собой что-то темное, похожее на избу или скирду…
Ему бы вылезти из саней и узнать, в чем дело, но во всем теле стоит такая лень, что лучше замерзнуть, чем двинуться с места… И он безмятежно засыпает.
Просыпается он в большой комнате с крашеными стенами. Из окон льет яркий солнечный свет. Токарь видит перед собой людей и первым делом хочет показать себя степенным, с понятием.
– Панихидку бы, братцы, по старухе! – говорит он. – Батюшке бы сказать…
– Ну, ладно, ладно! Лежи уж! – обрывает его чей-то голос.
– Батюшка! Павел Иваныч! – удивляется токарь, видя перед собой доктора. – Вашескородие! Благодетель!
Хочет он вскочить и бухнуть перед медициной в ноги, но чувствует, что руки и ноги его не слушаются.
– Ваше высокородие! Ноги же мои где? Где руки?
– Прощайся с руками и ногами… Отморозил! Ну, ну… чего же ты плачешь? Пожил, и слава богу! Небось, шесть десятков прожил – будет с тебя!
– Горе!.. Вашескородие, горе ведь! Простите великодушно! Еще бы годочков пять-шесть…
– Зачем?
– Лошадь-то чужая, отдать надо… Старуху хоронить… И как на этом свете всё скоро делается! Ваше высокородие! Павел Иваныч! Портсигарик из карельской березы наилучший! Крокетик выточу…
Доктор машет рукой и выходит из палаты. Токарю – аминь!
Ну, публика!
– Шабаш, не буду больше пить!.. Ни… ни за что! Пора уж за ум взяться. Надо работать, трудиться… Любишь жалованье получать, так работай честно, усердно, по совести, пренебрегая покоем и сном. Баловство брось… Привык, брат, задаром жалованье получать, а это вот и нехорошо… и нехорошо…
Прочитав себе несколько подобных нравоучений, обер-кондуктор Подтягин начинает чувствовать непреодолимое стремление к труду. Уже второй час ночи, но, несмотря на это, он будит кондукторов и вместе с ними идет по вагонам контролировать билеты.
– Вашш… билеты! – выкрикивает он, весело пощелкивая щипчиками.
Сонные фигуры, окутанные вагонным полумраком, вздрагивают, встряхивают головами и подают свои билеты.
– Вашш… билеты! – обращается Подтягин к пассажиру II класса, тощему, жилистому человеку, окутанному в шубу и одеяло и окруженному подушками. – Вашш… билеты!
Жилистый человек не отвечает. Он погружен в сон. Обер-кондуктор трогает его за плечо и нетерпеливо повторяет:
– Вашш… билеты!
Пассажир вздрагивает, открывает глаза и с ужасом глядит на Подтягина.
– Что? Кто? а?
– Вам говорят по-челаэчески: вашш… билеты! Па-а-трудитесь!
– Боже мой! – стонет жилистый человек, делая плачущее лицо. – Господи, боже мой! Я страдаю ревматизмом… три ночи не спал, нарочно морфию принял, чтоб уснуть, а вы… с билетом! Ведь это безжалостно, бесчеловечно! Если бы вы знали, как трудно мне уснуть, то не стали бы беспокоить меня такой чепухой… Безжалостно, нелепо! И на что вам мой билет понадобился? Глупо даже!
Подтягин думает, обидеться ему или нет, – и решает обидеться.
– Вы здесь не кричите! Здесь не кабак! – говорит он.
– Да в кабаке люди человечней… – кашляет пассажир. – Изволь я теперь уснуть во второй раз! И удивительное дело: всю заграницу объездил, и никто у меня там билета не спрашивал, а тут, словно чёрт их под локоть толкает, то и дело, то и дело!..
– Ну, и поезжайте за границу, ежели вам нравится!
– Глупо, сударь! Да! Мало того, что морят пассажиров угаром, духотой и сквозняком, так хотят еще, чёрт ее подери, формалистикой добить. Билет ему понадобился! Скажите, какое усердие! Добро бы это для контроля делалось, а то ведь половина поезда без билетов едет!
– Послушайте, господин! – вспыхивает Подтягин. – Вы извольте подтвердить ваши доводы! И ежели вы не перестанете кричать и беспокоить публику, то я принужден буду высадить вас на станции и составить акт об этом факте!
– Это возмутительно! – негодует публика. – Пристает к больному человеку! Послушайте, да имейте же сожаление!
– Да ведь они сами ругаются! – трусит Подтягин. – Хорошо, я не возьму билета… Как угодно… Только ведь, сами знаете, служба моя этого требует… Ежели б не служба, то, конечно… Можете даже начальника станции спросить… Кого угодно спросите…
Подтягин пожимает плечами в отходит от больного. Сначала он чувствует себя обиженным и несколько третированным, потом же, пройдя вагона два-три, он начинает ощущать в своей обер-кондукторской груди некоторое беспокойство, похожее на угрызения совести.
«Действительно, не нужно было будить больного, – думает он. – Впрочем, я не виноват… Они там думают, что это я с жиру, от нечего делать, а того не знают, что этого служба требует… Ежели они не верят, так я могу к ним начальника станции привести».
Станция. Поезд стоит пять минут. Перед третьим звонком в описанный вагон II класса входит Подтягин. За ним шествует начальник станции, в красной фуражке.
– Вот этот господин, – начинает Подтягин, – говорят, что я не имею полного права спрашивать с них билет, и… и обижаются. Прошу вас, господин начальник станции, объяснить им – по службе я требую билет или зря? Господин, – обращается Подтягин к жилистому человеку. – Господин! Можете вот начальника станции спросить, ежели мне не верите.
Больной вздрагивает, словно ужаленный, открывает глаза и, сделав плачущее лицо, откидывается на спинку дивана.
– Боже мой! Принял другой порошок и только что задремал, как он опять!.. Умоляю вас, имейте вы сожа ление!
– Вы можете поговорить вот с господином начальником станции… Имею я полное право билет спрашивать или нет?
– Это невыносимо! Нате вам ваш билет! Нате! Я куплю еще пять билетов, только дайте мне умереть спокойно! Неужели вы сами никогда не были больны? Бесчувственный народ!
– Это просто издевательство! – негодует какой-то господин в военной форме. – Иначе я не могу понять этого приставанья!
– Оставьте… – морщится начальник станции, дергая Подтягина за рукав.
Подтягин пожимает плечами и медленно уходит за начальником станции.
«Изволь тут угодить! – недоумевает он. – Я для него же позвал начальника станции, чтоб он понимал, успокоился, а он… ругается».
Другая станция. Поезд стоит десять минут. Перед вторым звонком, когда Подтягин стоит около буфета и пьет сельтерскую воду, к нему подходят два господина, один в форме инженера, другой в военном пальто.
– Послушайте, г. обер-кондуктор! – обращается инженер к Подтягину. – Ваше поведение по отношению к больному пассажиру возмутило всех очевидцев. Я инженер Пузицкий, это вот… господин полковник. Если вы не извинитесь перед пассажиром, то мы подадим жалобу начальнику движения, нашему общему знакомому.
– Господа, да ведь я… да ведь вы… – оторопел Подтягин.
– Объяснений нам не надо. Но предупреждаем, если не извинитесь, то мы берем пассажира под свою защиту.
– Хорошо, я… я, пожалуй, извинюсь… Извольте…
Через полчаса Подтягин, придумав извинительную фразу, которая бы удовлетворила пассажира и не умалила его достоинства, входит в вагон.
– Господин! – обращается он к больному. – Послушайте, господин!
Больной вздрагивает и вскакивает.
– Что?
– Я тово… как его?.. Вы не обижайтесь…
– Ох… воды… – задыхается больной, хватаясь за сердце. – Третий порошок морфия принял, задремал и… опять! Боже, когда же, наконец, кончится эта пытка!
– Я тово… Вы извините…
– Слушайте… Высадите меня на следующей станции… Более терпеть я не в состоянии. Я… я умираю…
– Это подло, гадко! – возмущается публика. – Убирайтесь вон отсюда! Вы поплатитесь за подобное издевательство! Вон!
Подтягин машет рукой, вздыхает и выходит из вагона. Идет он в служебный вагон, садится изнеможенный за стол и жалуется:
«Ну, публика! Извольте вот ей угодить! Извольте вот служить, трудиться! Поневоле плюнешь на всё и запьешь… Ничего не делаешь – сердятся, начнешь делать – тоже сердятся… Выпить!»
Подтягин выпивает сразу полбутылки и больше уже не думает о труде, долге и честности.
Шило в мешке
На обывательской тройке, проселочными путями, соблюдая строжайшее инкогнито, спешил Петр Павлович Посудин в уездный городишко N., куда вызывало его полученное им анонимное письмо.
«Накрыть… Как снег на голову… – мечтал он, пряча лицо свое в воротник. – Натворили мерзостей, пакостники, и торжествуют, небось, воображают, что концы в воду спрятали… Ха-ха… Воображаю их ужас и удивление, когда в разгар торжества послышится: «А подать сюда Тяпкина-Ляпкина!» То-то переполох будет! Ха-ха…»
Намечтавшись вдоволь, Посудин вступил в разговор со своим возницей. Как человек, алчущий популярности, он прежде всего спросил о себе самом:
– А Посудина ты знаешь?
– Как не знать! – ухмыльнулся возница. – Знаем мы его!
– Что же ты смеешься?
– Чудное дело! Каждого последнего писаря знаешь, а чтоб Посудина не знать! На то он здесь и поставлен, чтоб его все знали.
– Это так… Ну, что? Как он, по-твоему? Хорош?
– Ничего… – зевнул возница. – Господин хороший, знает свое дело… Двух годов еще нет, как его сюда прислали, а уж наделал делов.
– Что же он такое особенное сделал?
– Много добра сделал, дай бог ему здоровья. Железную дорогу выхлопотал, Хохрюкова в нашем уезде увольнил… Конца краю не было этому Хохрюкову… Шельма был, выжига, все прежние его руку держали, а приехал Посудин – и загудел Хохрюков к чёрту, словно его и не было… Во, брат! Посудина, брат, не подкупишь, не-ет! Дай ты ему хоть сто, хоть тыщу, а он не станет тебе приймать грех на душу… Не-ет!
«Слава богу, хоть с этой стороны меня поняли, – подумал Посудин, ликуя. – Это хорошо».
– Образованный господин… – продолжал возница, – не гордый… Наши ездили к нему жалиться, так он словно с господами: всех за ручку, «вы, садитесь»… Горячий такой, быстрый… Слова тебе путем не скажет, а всё – фырк! фырк! Чтоб он тебе шагом ходил, или как – ни боже мой, а норовит всё бегом, всё бегом! Наши ему и слова сказать не успели, как он: «Лошадей!!» – да прямо сюда… Приехал и всё обделал… ни копейки не взял. Куда лучше прежнего! Конечно, и прежний хорош был. Видный такой, важный, звончее его во всей губернии никто не кричал… Бывало, едет, так за десять верст слыхать; но ежели по наружной части или внутренним делам, то нынешний куда ловчее! У нынешнего в голове этой самой мозги во сто раз больше… Одно только горе… Всем хорош человек, но одна беда: пьяница!
«Вот так клюква!» – подумал Посудин.
– Откуда же ты знаешь, – спросил он, – что я… что он пьяница?
– Оно, конечно, ваше благородие, сам я не видал его пьяного, не стану врать, но люди сказывали. И люди-то его пьяным не видали, а слава такая про него ходит… При публике, или куда в гости пойдет, на бал, это, или в обчество, никогда не пьет. Дома хлещет… Встанет утром, протрет глаза и первым делом – водки! Камердин принесет ему стакан, а он уж другого просит… Так цельный день и глушит. И скажи ты на милость: пьет, и ни в одном глазе! Стало быть, соблюдать себя может. Бывало, как наш Хохрюков запьет, так не то что люди, даже собаки воют. Посудин же – хоть бы тебе нос у него покраснел! Запрется у себя в кабинете и локает… Чтоб люди не приметили, он себе в столе ящик такой приспособил, с трубочкой. Всегда в этом ящике водка… Нагнешься к трубочке, пососешь, и пьян… В карете тоже, в портфеле…
«Откуда они знают? – ужаснулся Посудин. – Боже мой, даже это известно! Какая мерзость…»
– А вот тоже насчет женского пола… Шельма! (Возница засмеялся и покрутил головой.) Безобразие, да и только! Штук десять у него этих самых… вертефлюх… Две у него в доме живут… Одна у него, эта Настасья Ивановна, как бы заместо распорядительши, другая – как ее, чёрт? – Людмила Семеновна, на манер писарши… Главнее всех Настасья. Эта что захочет, он всё делает… Так и вертит им, словно лиса хвостом. Большая власть ей дадена. И его так не боятся, как ее… Ха-ха… А третья вертуха на Качальной улице живет… Срамота!
«Даже по именам знает, – подумал Посудин, краснея. – И кто же знает? Мужик, ямщик… который и в городе-то никогда не бывал!.. Какая мерзость… гадость… пошлость!»
– Откуда же ты всё это знаешь? – спросил он раздраженным голосом.
– Люди сказывали… Сам я не видал, но от людей слыхивал. Да узнать нешто трудно? Камердину или кучеру языка не отрежешь… Да, чай, и сама Настасья ходит по всем переулкам да счастьем своим бабьим похваляется. От людского глаза не скроешься… Вот тоже взял манеру этот Посудин потихоньку на следствия ездить… Прежний, бывало, как захочет куда ехать, так за месяц дает знать, а когда едет, так шуму этого, грому, звону и… не приведи создатель! И спереди его скачут, и сзади скачут, и с боков скачут. Приедет к месту, выспится, наестся, напьется и давай по служебной части глотку драть. Подерет глотку, потопочет ногами, опять выспится и тем же порядком назад… А нынешний, как прослышит что, норовит съездить потихоньку, быстро, чтоб никто не видал и не знал… Па-а-теха! Выйдет неприметно из дому, чтоб чиновники не видали, и на машину… Доедет до какой ему нужно станции и не то что почтовых или что поблагородней, а норовит мужика нанять. Закутается весь, как баба, и всю дорогу хрипит, как старый пес, чтоб голоса его не узнали. Просто кишки порвешь со смеху, когда люди рассказывают… Едет, дурень, и думает, что его узнать нельзя. А узнать его, ежели которому понимающему человеку – тьфу! раз плюнуть…
– Как же его узнают?
– Оченно просто. Прежде, как наш Хохрюков потихоньку ездил, так мы его по тяжелым рукам узнавали. Ежели седок бьет по зубам, то это, значит, и есть Хохрюков. А Посудина сразу увидать можно… Простой пассажир просто себя и держит, а Посудин не таковский, чтоб простоту соблюдать. Приедет, скажем, хоть на почтовую станцию, и начнет!.. Ему и воняет, и душно, и холодно… Ему и цыплят подавай, и фрухтов, и вареньев всяких… Так на станциях и знают: ежели кто зимой спрашивает цыплят и фрухтов, то это и есть Посудин. Ежели кто говорит смотрителю «милейший мой» и гоняет народ за разными пустяками, то и божиться можно, что это Посудин. И пахнет от него не так, как от людей, и ложится спать на свой манер… Ляжет на станции на диване, попрыщет около себя духами и велит около подушки три свечки поставить. Лежит и бумаги читает… Уж тут не то что смотритель, но и кошка разберет, что это за человек такой…
«Правда, правда… – подумал Посудин. – И как я этого раньше не знал!»
– А кому есть надобность, то и без фрухтов и без цыплят узнает. По телеграфу всё известно… Как там ни кутай рыла, как ни прячься, а уж тут знают, что едешь. Ждут… Посудин еще у себя из дому не выходил, а тут уж – сделай одолжение, всё готово! Приедет он, чтоб их на месте накрыть, под суд отдать или сменить кого, а они над ним же и посмеются. Хоть ты, скажут, ваше сиятельство, и потихоньку приехал, а гляди: у нас всё чисто!.. Он повертится, повертится да с тем и уедет, с чем приехал… Да еще похвалит, руки пожмет им всем, извинения за беспокойство попросит… Вот как! А ты думал как? Хо-хо, ваше благородие! Народ тут ловкий, ловкач на ловкаче!.. Глядеть любо, что за черти! Да вот, хоть нынешний случай взять… Еду я сегодня утром порожнем, а навстречу со станции летит жид буфетчик. «Куда, спрашиваю, ваше жидовское благородие, едешь?» А он и говорит: «В город N. вино и закуску везу. Там нынче Посудина ждут». Ловко? Посудин, может, еще только собирается ехать или кутает лицо, чтоб его не узнали. Может, уж едет и думает, что знать никто не знает, что он едет, а уж для него, скажи пожалуйста, готово и вино, и семга, и сыр, и закуска разная… А? Едет он и думает: «Крышка вам, ребята!» – а ребятам и горя мало! Пущай едет! У них давно уж всё спрятано!
– Назад! – прохрипел Посудин. – Поезжай назад, с-с-скотина!
И удивленный возница повернул назад.









































