Текст книги "Рассказы. Повести. Юморески. 1880—1882"
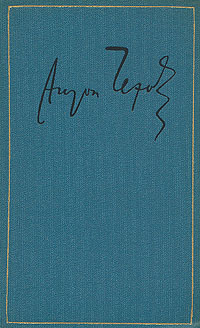
Автор книги: Антон Чехов
Жанр: Классическая проза, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 36 страниц)
Идиллия – увы и ах!
– Дядя мой прекраснейший человек! – говорил мне не раз бедный племянник и единственный наследник капитана Насечкина, Гриша. – Я люблю его всей душой… Зайдемте к нему, голубчик! Он будет очень рад!
И слезы навертывались на глазах Гриши, когда он говорил о дядюшке. К чести его сказать, он не стыдился этих хороших слез и плакал публично! Я внял его просьбам и неделю тому назад зашел к капитану. Когда я вошел в переднюю и заглянул в залу, я увидел умилительную картину. В большом кресле среди залы сидел старенький, худенький капитан и кушал чай. Перед ним на одном колене стоял Гриша и с умилением мешал ложечкой его чай.
Вокруг коричневой шеи старичка обвивалась хорошенькая ручка Гришиной невесты… Бедный племянник и невеста спорили о том, кто из них скорей поцелует дядюшку, и не жалели поцелуев для старичка.
– А теперь вы сами поцелуйтесь, наследники! – лепетал Насечкин, захлебываясь от счастья…
Между этими тремя созданиями существовала завиднейшая связь. Я, жестокий человек, замирал от счастья и зависти, глядя на них…
– Да-с! – говорил Насечкин. – Могу сказать: пожил на своем веку! Дай бог всякому. Одних осетров сколько поел! Страсть! Например, взять бы хоть того осетра, что в Скопине съели… Гм! И теперь слюнки текут…
– Расскажите, расскажите! – говорит невеста.
– Приезжаю это я в Скопин со своими тысячами, детки, и прямо… гм… к Рыкову[200]200
…господину Рыкову… – О директоре Скопинского банка Иване Гавриловиче Рыкове в 1884 г. Чехов написал репортаж «Дело Рыкова и комп. (от нашего корреспондента)».
[Закрыть]… господину Рыкову. Человек… уу! Золотой господин! Джентльмен! Как родного принял… Какая, кажись бы, надобность ему, а… как с родным! Ей-богу! Кофеем потчевал… После кофею закуска… Стол… На столе распивочно и на вынос… Осетр… от угла до угла… Омары… икорка. Ресторант!
Я вошел в залу и прервал Насечкина. Это было аккурат в тот день, когда в Москве было получено первое телеграфическое известие[201]201
…первое телеграфическое известие… – Первое сообщение о крахе Скопинского банка появилось в газете «Русский курьер» 30 октября 1882 г., № 272: «Свершилось! Скопинский банк покончил свое земное существование и покончил его воистину с треском…»
[Закрыть] о том, что скопинский банк лопнул.
– Детками наслаждаюсь! – сказал мне Насечкин после первых приветствий и, обратясь к деткам, продолжал хвастливым тоном: – И общество благородное… Чиноначальники, духовенство… иеромонахи, иереи… После каждой рюмочки под благословение подходишь… Сам весь в орденах… Генералу нос утрет… Скушали осетра… Подали другого… Съели… Потом уха с стерлядкой… фазаны…
– На вашем месте я теперь икал и страдал бы изжогой от этих осетров, а вы хвастаетесь… – сказал я. – Много у вас пропало за Рыковым?
– Зачем пропало?
– Как зачем? Да ведь банк лопнул!
– Шутки! Стара песня… И прежде пугали…
– Так вам еще неизвестно? Батенька! Серапион Егорыч! Да ведь это… это… это… Читайте!
Я полез в карман и вытащил оттуда газетину. Насечкин надел очки и, недоверчиво улыбаясь, принялся читать. Чем более он читал, тем бледнее и длиннее делалась его физиономия.
– Ло… ло… лллопнул! – заголосил он и затрясся всеми членами. – Бедная моя головушка!
Гриша покраснел, прочитал газету, побледнел… Дрожащая рука его потянулась за шапкой… Невеста зашаталась…
– Господа! Да неужели вы только теперь об этом узнали? Ведь уж об этом вся Москва говорит. Господа! Успокойтесь!
Час спустя стоял я один-одинешенек перед капитаном и утешал его:
– Полно, Серапион Егорыч! Ну что ж? Деньги пропали, зато детки остались.
– Это правда… Деньги суета… Детки…. Это точно.
Но увы! Через неделю я встретился с Гришей.
– Сходите, батенька, к дядюшке! – обратился я к нему. – Отчего вы к нему не сходите? Совсем бросили старика!
– А ну его к чёрту! Очень он мне нужен, старый чёрт! Дурак! Не мог найти другого банка!
– Все-таки сходите. Ведь он ваш дядя!
– Он? Ха-ха!.. Вы смеетесь? Откуда вы это взяли? Он троюродный брат моей мачехи! Десятая вода на киселе! Нашему слесарю двоюродный кузнец!
– Ну хоть невесту пошлите к нему!
– Да! Чёрт вас дернул показывать газету до свадьбы! До свадьбы не могли подождать со своими новостями!.. Теперь она рожу воротит. Тоже ведь на дядюшкин каравай рот разевала! Дура чёртова… Разочарована теперь.
Так, сам того не желая, разрушил я теснейшее трио… завиднейшее трио!
Барон
Барон – маленький, худенький старикашка лет шестидесяти. Его шея дает с позвоночником тупой угол, который скоро станет прямым. У него большая угловатая голова, кислые глаза, нос шишкой и лиловатый подбородок. По всему лицу его разлита слабая синюха, вероятно, потому, что спирт стоит в том шкафу, который редко запирается бутафором. Впрочем, кроме казенного спирта, барон употребляет иногда и шампанское, которое можно найти очень часто в уборных, на донышках бутылок и стаканов. Его щеки и мешочки под глазами висят и дрожат, как тряпочки, повешенные для просушки. На лысине зеленоватый налет от зеленой подкладки ушастой меховой шапки, которую барон, когда не носит на голове, вешает на испортившийся газовый рожок за третьей кулисой. Голос его дребезжит, как треснувшая кастрюля. А костюм? Если вы смеетесь над этим костюмом, то вы, значит, не признаете авторитетов, что не делает вам чести. Коричневый сюртук без пуговиц, с лоснящимися локтями и подкладкой, обратившейся в бахрому, – замечательный сюртук. Он болтается на узких плечах барона, как на поломанной вешалке, но… что ж из этого следует? Зато он облекал когда-то гениальное тело величайшего из комиков. Бархатная жилетка с голубыми цветами имеет двадцать прорех и бесчисленное множество пятен, но нельзя же бросить ее, если она найдена в том нумере, в котором жил могучий Сальвини![202]202
…могучий Сальвини… – Томмазо Сальвини (1829—1916), итальянский трагический актер, гастролировал в Москве в апреле 1882 г.
[Закрыть] Кто может поручиться, что этой жилетки не носил сам трагик? А найдена она была на другой день после отъезда великана-артиста; следовательно, можно поклясться, что она не фальшивая. Галстух, греющий шею барона, не менее замечательный галстух. Им можно похвастать, хотя и следовало бы его в чисто гигиенических и эстетических видах заменить другим, более прочным и менее засаленным. Он выкроен из останков того великого плаща, которым покрывал когда-то свои плечи Эрнесто Росси[203]203
…Эрнесто Росси… – Э. Росси (1827—1896), итальянский трагический актер. Гастролировал в России в 1877 и 1878 годах, с большим успехом выступая в ролях Дон-Гуана и Барона в трагедиях Пушкина «Каменный гость» и «Скупой рыцарь».
[Закрыть], беседуя в «Макбете» с ведьмами.
– От моего галстуха пахнет кровью короля Дункана! – говорит часто барон, ища в своем галстухе паразитов.
Над пестренькими, полосатыми брючками барона можете смеяться сколько вам угодно. Их не носило ранее ни одно авторитетное лицо, хотя актеры и шутят, что эти брючки сшиты из паруса парохода, на котором Сара Бернар ездила в Америку. Они куплены у капельдинера № 16.
Зиму и лето барон ходит в больших калошах, чтобы сапоги были целей и чтобы не простудить своих ревматических ног на сквозном ветру, гуляющем по полу его суфлерской будки.
Барона можно видеть только в трех местах: в кассе, в суфлерской будке и за сценой в мужской уборной. Вне этих мест он не существует и едва ли мыслим. В кассе он ночью ночует, а днем записывает фамилии покупающих ложи и играет с кассиром в шашки. Старый и золотушный кассир – единственный человек, который слушает барона и отвечает на его вопросы. В суфлерской будке барон исполняет свои священные обязанности; там он зарабатывает себе кусок насущного хлеба. Эта будка выкрашена в блестящий, белый цвет только снаружи; внутри же стенки ее покрыты паутиной, щелями и занозами. В ней пахнет сыростью, копченой рыбой и спиртом. В антрактах барон торчит в мужской уборной. Новички, первый раз входящие в эту уборную, увидев барона, хохочут и аплодируют. Они принимают его за актера.
– Браво, браво! – говорят они. – Вы прелестно загримировались! Какая у вас смешная рожица! А где вы достали такой оригинальный костюм?
Бедный барон! Люди не могут допустить, что он имеет собственную физиономию!
В уборной он наслаждается созерцанием светил или же, если нет светил, осмеливается вставлять в чужие речи свои замечания, которых у него очень много. Замечаний его никто не слушает, потому что они всем надоели и попахивают рутиной; их пускают мимо ушей без всяких церемоний. С бароном вообще не любят церемониться. Если он вертится перед носом и мешает, ему говорят: убирайтесь! Если он шепчет из своей будки слишком тихо или слишком громко, его посылают к чёрту и грозят ему штрафом или отставкой. Он служит мишенью для большинства закулисных острот и каламбуров. На нем смело можно пробовать свое остроумие: он не ответит.
Прошло уже двадцать лет с тех пор, как его начали дразнить «бароном», но за все эти двадцать лет он ни разу не протестовал против этого прозвища.
Заставить его переписать роль и не заплатить ему – тоже можно. Всё можно! Он улыбается, извиняется и конфузится, когда наступают ему на ногу. Побейте его публично по морщинистым щекам, и, ручаюсь вам честным словом, он не пойдет с жалобой к мировому. Оторвите от его замечательного, горячо любимого сюртука кусок подкладки, как это сделал недавно jeune premier[204]204
первый любовник (франц.)
[Закрыть], он только замигает глазками и покраснеет. Такова сила его забитости и смирения! Его никто не уважает. Пока он жив, его выносят, когда же умрет, его забудут немедленно. Жалкое он создание!
А между тем было когда-то время, когда он чуть было не сделался товарищем и братом людей, которым он поклонялся и которых любил больше жизни. (Он не мог не любить людей, которые бывают иногда Гамлетами и Францами Моор!) Он сам едва не стал артистом и, наверное, стал бы им, если бы не помешал ему один смешной пустяк. Таланта было много, желания – тоже, была на первых порах и протекция, но не хватило пустяка: смелости. Ему вечно казалось, что они, эти головы, которыми усеяны все пять ярусов, низ и верх, захохочут и зашикают, если он позволит себе показаться на сцене. Он бледнел, краснел и немел от ужаса, когда предлагали ему подебютировать.
– Я подожду немного, – говорил он.
И он ждал до тех пор, пока не состарился, не разорился и не попал, по протекции, в суфлерскую будку.
Он стал суфлером, но это не беда. Теперь уж его не выгонят из театра за неимение билета: он должностное лицо. Он сидит впереди первого ряда, видит лучше всех и не платит за свое место ни копейки. Это хорошо. Он счастлив и доволен.
Обязанность свою исполняет он прекрасно. Перед спектаклем он несколько раз прочитывает пьесу, чтобы не ошибиться, а когда бьет первый звонок, он уже сидит в будке и перелистывает свою книжку. Усердней его трудно найти кого-либо во всем театре.
Но все-таки нужно выгнать его из театра.
Беспорядки не должны быть терпимы в театре, а барон производит иногда страшные беспорядки. Он скандалист.
Когда на сцене играют особенно хорошо, он отрывает глаза от своей книжки и перестает шептать. Очень часто он прерывает свое чтение криками: браво! превосходно! – и позволяет себе аплодировать в то время, когда не аплодирует публика. Раз даже он шикал, за что чуть было не потерял места.
Вообще поглядите на него, когда он сидит в своей вонючей будке и шепчет. Он краснеет, бледнеет, жестикулирует руками, шепчет громче, чем следует, задыхается. Иногда бывает его слышно даже в коридорах, где около платья зевают капельдинеры. Он позволяет еебе даже браниться из будки и подавать актеру советы.
– Правую руку вверх! – шепчет он часто. – У вас горячие слова, но лицо – лед! Это не ваша роль! Вы молокосос для этой роли! Вы бы поглядели в этой роли Эрнесто Росси! К чему же шарж? О, боже мой! Он всё испортил своей мещанской манерой!
И подобные вещи шепчет он, вместо того чтобы шептать по книжке. Напрасно терпят этого чудака. Если бы его выгнали, то публике не пришлось бы быть свидетельницей скандала, который произошел на этих днях.
Скандал, состоял в следующем.
Давали «Гамлета». Театр был полон. В наши дни Шекспир слушается так же охотно, как и сто лет тому назад. Когда дают Шекспира, барон находится в самом возбужденном состоянии. Он много пьет, много говорит и не переставая трет кулаками свои виски. За висками кипит жестокая работа. Старческие мозги взбудораживаются бешеной завистью, отчаянием, ненавистью, мечтами… Ему самому следовало бы поиграть Гамлета, хоть Гамлет и плохо вяжется с горбом и со спиртом, который забывает запирать бутафор. Ему, а не этим пигмеям, играющим сегодня лакеев, завтра сводников, послезавтра Гамлета! Сорок лет штудирует он этого датского принца, о котором мечтают все порядочные артисты и который дал лавровый венец не одному только Шекспиру. Сорок лет он штудирует, страдает, сгорает от мечты… Смерть не за горами. Она скоро придет и навсегда возьмет его из театра… Хоть бы раз в жизни ему посчастливилось пройтись по сцене в принцевой куртке, вблизи моря, около скал, где одна пустыня места,
Сама собой, готова довести
К отчаянью, когда посмотришь в бездну
И слышишь в ней далекий плеск волны.
Если даже мечты заставляют таять не по дням, а по часам, то каким огнем сгорел бы лысый барон, если бы мечта приняла форму действительности!
В описываемый вечер он готов был проглотить весь свет от зависти и злости. Гамлета дали играть мальчишке, говорящему жидким тенором, а главное – рыжему. Неужели Гамлет был рыж?
Барон сидел в своей будке, как на горячих угольях. Когда Гамлета не было на сцене, он был еще относительно покоен, когда же на сцену появлялся жидкий рыжеволосый тенор, он начинал вертеться, метаться, ныть. Шёпот его походил больше на стон, чем на чтение. Руки его тряслись, страницы путались, подсвечники ставились то ближе, то дальше… Он впивался в лицо Гамлета и переставал шептать… Ему страстно хотелось повыщипать из рыжей головы все волосы до единого. Пусть Гамлет будет лучше лыс, чем рыж! Шарж – так шарж, чёрт возьми!
Во втором действии он уж вовсе не шептал, а злобно хихикал, бранился и шикал. К его счастью, актеры хорошо знали свои роли и не замечали его молчания.
– Хорош Гамлет! – бранился он. – Нечего сказать! Ха-ха! Господа юнкера не знают своего места! Им следует за швейками бегать, а не на сцене играть! Если бы у Гамлета было такое глупое лицо, то едва ли Шекспир написал бы свою трагедию!
Когда ему надоело браниться, он начал учить рыжего актера. Жестикулируя руками и лицом, читая и стуча кулаками о книжку, он потребовал, чтобы актер следовал его советам. Ему нужно было спасти Шекспира от поругания, а для Шекспира он на всё готов: хоть на сто тысяч скандалов!
Беседуя с актерами, рыжий Гамлет был ужасен. Он ломался, как тот «дюжий длинноволосый молодец» – актер, о котором сам Гамлет говорит: «Такого актера я в состоянии бы высечь». Когда он начал декламировать, барон не вынес. Задыхаясь и стуча лысиной по потолку будки, он положил левую руку на грудь, а правой зажестикулировал. Старческий, надорванный голос прервал рыжего актера и заставил его оглянуться на будку:
Распаленный гневом,
В крови, засохшей на его доспехах,
С огнем в очах, свирепый ищет Пирр
Отца Приама.
И, высунувшись наполовину из будки, барон кивнул головой первому актеру и прибавил уже не декламирующим, а небрежным, потухшим голосом:
– Продолжай!
Первый актер продолжал, но не тотчас. Минуту он промедлил, и минуту в театре царило глубокое молчание. Это молчание нарушил сам барон, когда, потянувшись назад, стукнулся головой о край будки. Послышался смех.
– Браво, барабанщик! – крикнули из райка.
Думали, что прервал Гамлета не суфлер, а старый барабанщик, дремавший в оркестре. Барабанщик шутовски раскланялся с райком, и весь театр огласился смехом. Публика любит театральные недоразумения, и если бы вместо пьес давали недоразумения, она платила бы вдвое больше.
Первый актер продолжал, и тишина была мало-помалу водворена.
Чудак же барон, услышавши смех, побагровел от стыда и схватил себя за лысину, забыв, вероятно, что на ней уже нет тех волос, в которые влюблялись когда-то красивые женщины. Теперь мало того, что над ним будет смеяться весь город и все юмористические журналы, его еще выгонят из театра! Он горел от стыда, злился на себя, а между тем все члены его дрожали от восторга: он сейчас декламировал!
«Не твое дело, старая, заржавленная щеколда! – думал он. – Твое дело быть только суфлером, если не хочешь, чтобы тебе дали по шее, как последнему лакею. Но это возмутительно, однако! Рыжий мальчишка решительно не хочет играть по-человечески! Разве это место так ведется?»
И, впившись глазами в актера, барон опять начал бормотать советы. Он еще раз не вынес и еще раз заставил смеяться публику. Этот чудак был слишком нервен. Когда актер, читая последний монолог второго действия, сделал маленькую передышку, чтобы молча покачать головой, из будки опять понесся голос, полный желчи, презрения, ненависти, но, увы! уже разбитый временем и бессильный:
Кровавый сластолюбец! Лицемер!
Бесчувственный, продажный, подлый изверг!
Помолчав секунд десять, барон глубоко вздохнул и прибавил уже не так громко:
Глупец, глупец! Куда как я отважен!
Этот голос был бы голосом Гамлета настоящего, не рыжего Гамлета, если бы на земле не было старости. Многое портит и многому мешает старость.
Бедный барон! Впрочем, не он первый, не он и последний.
Теперь его выгонят из театра. Согласитесь, что эта мера необходима.
Добрый знакомый
По зеркальному льду скользят мужские ботфорты и женские ботинки с меховой опушкой. Скользящих ног так много, что, будь они в Китае, для них не хватило бы бамбуковых палок. Солнце светит особенно ярко, воздух особенно прозрачен, щечки горят ярче обыкновенного, глазки обещают больше, чем следует… Живи и наслаждайся, человек, одним словом! Но…
«Дудки!» – говорит судьба в лице моего… доброго знакомого.
Я вдали от катка сижу на скамье под голым деревом и беседую с «ней». Я готов ее скушать вместе с ее шляпкой, шубкой и ножками, на которых блестят коньки, – так хороша! Страдаю и в то же время наслаждаюсь! О, любовь! Но… дудки…
Мимо нас проходит наш департаментский «отворяйло и запирайло», наш Аргус и Меркурий, пирожник и рассыльный, Спевсип Макаров. В руках его чьи-то калоши, мужские и женские, должно быть превосходительные. Спевсип делает мне под козырек и, глядя на меня с умилением и любовью, останавливается около самой скамьи.
– Холодно, ваше высокобл… бл… На чаишко бы! Хе-хе-с…
Я даю ему двугривенный. Эта любезность трогает его донельзя. Он усиленно мигает глазками, оглядывается и говорит шёпотом:
– Оченно мне жалко вас, обидно, ваше благородие!.. Страсть как жалко! Точно вы мне сынок… Человек вы золотой! Душа! Доброта! Смиренник наш! Когда намедни он, превосходительство то есь, накинулся на вас – тоска взяла! Ей-богу! Думаю, за что он его? Ты и лентяй, и молокосос, и тебя выгоню, то да се… За что? Когда вы вышли от него, так на вас лица вашего не было. Ей-богу… А я гляжу, и мне жалко… Ох, у меня всегда сердечность к чиновникам!
И, обратись к моей соседке, Спевсип прибавляет:
– Уж больно они плохи у нас насчет бумаг-то. Не ихнее это дело в умственных бумагах… Шли бы по торговой части или… по духовной… Ей-богу! Ни одна бумага у них толком не выходит… Всё зря! Ну и достается на орехи… Сам заел его совсем… Турнуть хочет… А мне жалко. Их благородие добрые…
Она смотрит мне в глаза с самым обидным состраданием!
– Ступай! – говорю я Спевсипу, задыхаясь…
Я чувствую, что у меня даже калоши покраснели. Осрамил, каналья! А в стороне, за голыми кустами, сидит ее папенька, слушает и глазеет на нас, чтобы я впредь до «титулярного» не смел и думать о… На другой стороне, за другими кустами, прохаживается ее маменька и наблюдает за «ней». Я чувствую эти четыре глаза… и готов подохнуть…
Месть
Был день бенефиса нашей ingénue[205]205
инженю (франц.)
[Закрыть].
В десятом часу утра у ее двери стоял комик. Он прислушивался и стучал по обеим половинкам двери своими большими кулаками. Ему необходимо было видеть ingénue. Она должна была вылезть из-под своего одеяла во что бы то ни стало, как бы ей ни хотелось спать…
– Отворите же, чёрт возьми! Долго ли еще мне придется коченеть на этом сквозном ветру? Если б вы знали, что в вашем коридоре двадцать градусов мороза, вы не заставили бы меня ждать так долго! Или, быть может, у вас нет сердца?
В четверть одиннадцатого комик услышал глубокий вздох. За вздохом последовал скачок с кровати, а за скачком шлепанье туфель.
– Что вам угодно? Кто вы?
– Это я…
Комику не нужно было называть себя. Его легко можно было узнать по голосу, шипящему и дребезжащему, как у больного дифтеритом.
– Подождите, я оденусь…
Через три минуты его впустили. Он вошел, поцеловал у ingénue руку и сел на кровать.
– Я к вам по делу, – начал он, закуривая сигару. – Я хожу к людям только по делу, ходить же в гости я предоставляю господам бездельникам. Но к делу… Сегодня я играю в вашей пьесе графа… Вы, конечно, это знаете?
– Да.
– Старого графа. Во втором действии я появляюсь на сцену в халате. Вы, надеюсь, и это знаете… Знаете?
– Да.
– Отлично. Если я буду не в халате, то я согрешу против истины. На сцене же, как и везде, прежде всего – истина! Впрочем, mademoiselle, к чему я говорю это? Ведь, в сущности говоря, человек и создан для того только, чтобы стремиться к истине…
– Да, это правда…
– Итак, после всего сказанного вы видите, что халат мне необходим. Но у меня нет халата, приличного графу. Если я покажусь публике в своем ситцевом халате, то вы много потеряете. На вашем бенефисе будет лежать пятно.
– Я вам могу помочь?
– Да. После вашего у вас остался прекрасный голубой халат с бархатным воротником и красными кистями. Прекрасный, чудный халат!
Наша ingénue вспыхнула… Глазки ее покраснели, замигали и заискрились, как стеклянные бусы, вынесенные на солнце.
– Вы мне одолжите этот халат на сегодняшний спектакль…
Ingénue заходила по комнате. Нечесаные волосы ее попадали беспорядочно на лицо и плечи… Она зашевелила губами и пальцами…
– Нет, не могу! – сказала она…
– Это странно… Гм… Можно узнать почему?
– Почему? Ах, боже мой, да ведь это так понятно! Могу ли я? Нет!.. нет! Никогда! Он нехорошо поступил со мной, он неправ… Это правда! Он поступил со мной, как последний негодяй… Я согласна с этим! Он бросил меня только потому, что я получаю мало жалованья и не умею обирать мужчин! Он хотел, чтобы я брала у этих господ деньги и носила эти подлые деньги к нему, – он хотел этого! Подло, гадко! На подобные притязания способны одни только бессовестные пошляки!
Ingénue повалилась в кресло, на котором лежала свежевыглаженная сорочка, и закрыла руками лицо. Сквозь ее маленькие пальчики комик увидел блестящие точки: то окно отражалось в слезинках…
– Он ограбил меня! – продолжала она всхлипывая. – Грабь, если хочешь, но зачем же бросать? Зачем? Что я ему сделала? Что я тебе сделала? Что?
Комик встал и подошел к ней.
– Не будем плакать, – сказал он. – Слезы есть малодушие. И к тому же мы можем найти утешение во всякую минуту… Утешьтесь!.. Искусство – самый радикальный утешитель!
Но ничего не поделал радикальный утешитель.
За всхлипыванием последовала истерика.
– Это пройдет! – сказал комик. – Я подожду.
Он в ожидании, пока она придет в себя, походил по комнате, зевнул и лег на кровать. Ее постель женская, но она не так мягка, как те постели, на которых спят ingénues порядочных театров. Комика заколола в бок какая-то пружина, и его лысину зачесали перья, кончики которых робко выглядывали из подушки, сквозь розовую наволочку. Края кровати были холодны, как лед. Но всё это не мешало нахалу сладко потянуться. Чёрт возьми, от этих бабьих кроватей так хорошо пахнет!
Он лежал и потягивался, а плечи ingénue прыгали, из груди ее вылетали отрывистые стоны, пальцы корчились и рвали на груди фланелевую кофточку… Комик напомнил ей самую несчастную страницу одного из несчастнейших романов! Истерика продолжалась минут десять. Очнувшись, ingénue откинула назад волосы, обвела комнату глазами и продолжала говорить.
Когда дама говорит с вами, неловко лежать на кровати. Вежливость прежде всего. Комик крякнул, поднялся и сел.
– Он поступил со мной нечестно, – продолжала она, – но из этого не следует, что я должна отдавать вам халат. Несмотря на его подлый поступок, я еще продолжаю любить его, и халат единственная вещь, оставшаяся у меня после него! Когда я вижу халат, я думаю о нем и… плачу…
– Я ничего не имею против этих похвальных чувств, – сказал комик, – напротив, в наш реальный, чертовски практический век приятно встретить человека с таким сердцем и с такой душой. Если вы дадите мне на один вечер халат, то вы принесете жертву, согласен… Но, подумайте, как приятно жертвовать для искусства!
И, подумав немного, комик вздохнул и прибавил:
– Тем более, что я вам завтра же возвращу его…
– Ни за что!
– Но почему же? Ведь я же не съем его, возвращу! Какая вы, право…
– Нет, нет! Ни за что!
Ingénue забегала по комнате и замахала руками.
– Ни за что! Вы хотите лишить меня единственной дорогой для меня вещи! Я скорей умру, но не отдам! Я еще люблю этого человека!
– Вполне понимаю, но не постигаю только одного, сударыня: как можете вы менять халат на искусство?.. Вы – артистка!
– Ни за что! И не говорите!
Комик покраснел и поцарапал себя по лысине. Он помолчал немного и спросил:
– Не дадите?
– Ни за что!
– Гм… Тэкссс… Это по-товарищески… Так поступают только товарищи!
Комик вздохнул и продолжал:
– Жалко, чёрт возьми! Очень жаль, что мы товарищи только на словах, а не на деле. Впрочем, несогласие слова с делом очень характерно для нашего времени. Взгляните, например, на литературу! Очень жаль! В частности же нас, артистов, губит отсутствие солидарности, истинного товарищества… Ах, как нас губит это! Впрочем, нет! Это только показывает, что мы не артисты, не художники! Мы лакеи, а не артисты! Сцена дана нам только для того, чтобы показывать публике свои голые локти и плечи… чтобы глазки делать… щекотать инстинкты райка… Не дадите?
– Ни за какие деньги!
– Это последнее слово?
– Да…
– Прелестно…
Комик надел шапку, церемонно раскланялся и вышел из комнаты ingénue. Красный как рак, дрожащий от гнева, шипящий ругательствами, пошел он по улице, прямо к театру. Он шел и стучал палкой по мерзлой мостовой. С каким наслаждением нанизал бы он своих подлых товарищей на эту сучковатую палку! Еще лучше, если бы он мог проколоть этой артистической палкой насквозь всю землю! Будь он астрономом, он сумел бы доказать, что это худшая из планет!
Театр стоит на конце улицы, в трехстах шагах от острога. Он выкрашен в краску кирпичного цвета. Краска всё замазала, кроме зияющих щелей, показывающих, что театр деревянный. Когда-то театр был амбаром, в котором складывались кули с мукой. Амбар был произведен в театры не за какие-либо заслуги, а за то, что он самый высокий сарай в городе.
Комик пошел в кассу. Там, за грязным липовым столом, сидел его друг и приятель, кассир Штамм, немец, выдававший себя за англичанина. Кассир подслеповат, глуп и глух, но всё это, однако, не мешает ему с должным вниманием выслушивать своих товарищей.
Комик вошел в кассу, нахмурил брови и остановился перед кассиром в позе боксера, скрестившего на груди руки. Он помолчал немного, покачал головой и воскликнул:
– Как прикажете назвать этих людей, мистер Штамм?!
Комик стукнул кулаком по столу и, негодующий, опустился на деревянную скамью. Не поток, а океан ядовитых, отчаянных, бешеных слов полился из его рта, окруженного давно уже не бритым пространством. Пусть посочувствует ему хоть кассир! Девчонка, сентиментальная кислятина, не уважила просьбы того, без которого рухнул бы этот дрянный сарай! Не сделать одолжения (не говорю уж, оказать услугу) первому комику, которого десять лет тому назад приглашали в столичный театр! Возмутительно!
Но, однако, в этом бедняжке-театре более чем холодно. В собачьей конуре не холодней. Старый кассир умно делает, что сидит в шубе и валяных калошах. На окне – лед, а по полу гуляет ветер, которому позавидовал бы даже Северный полюс. Дверь плохо притворяется, и края ее белы от инея. Чёрт знает что! И сердиться даже холодно.
– Она будет меня помнить! – закончил свою филиппику комик.
Он положил свои ноги на скамью и прикрыл их полой своей шубы, оставшейся ему в наследство двенадцать лет тому назад от одного приятеля-актера, умершего от чахотки. Он плотнее завернулся в шубу, умолк и начал дышать в шубу себе на грудь.
Язык молчал, но зато действовали мозги. Эти мозги искали способа. Нужно же отмстить этой дерзкой, неуважительной девчонке!
Комик не завернул глаз в шубу, а пустил их на волю: гляди, коли хочешь… Они же, кстати, и не мерзнут. В кассе нет ничего интересного для глаз. У деревянной перегородки стол, перед столом скамья, на скамье – старый кассир в собачьей шубе и валенках. Всё серо, обыденно, старо. И грязь даже старая. На столе лежит еще не початая книга билетов. Покупатели не идут. Они начнут ходить во время обеда. Кроме стола, скамьи, билетов и кучи бумаг в углу – больше ничего нет. Ужасная бедность и ужасная скука!
Впрочем, виноват: в кассе есть один предмет роскоши. Этот предмет валяется под столом вместе с ненужной бумагой, которую не выметают вон только потому, что холодно. Да и веник куда-то запропал.
Под столом валяется большой картонный лист, запыленный и оборванный. Кассир топчет его своими валенками и плюет на него без всякой церемонии. Этот-то лист и есть предмет роскоши. На нем крупными буквами написано: «На сегодняшний спектакль все билеты распроданы». Ему за всё время своего существования ни разу еще не приходилось висеть над окошком кассы, и никто из публики не может похвастать тем, что видел его. Хороший, но ехидный лист! Жаль, что он не находит себе употребления. Публика не любит его, но зато в него влюблены все артисты!
Глаза комика, гулявшие по стенам и по полу, не могли не натолкнуться на эту драгоценность. Комик не мастер соображать, но на этот раз он сообразил. Увидев картонный лист, он ударил себя по лбу и воскликнул:
– Идея! Прелестно!
Он нагнулся и потянул к себе повесть о распроданных билетах.
– Прекрасно! Бесподобно! Это обойдется ей дороже голубого халата с красными кистями!
Через десять минут картонный лист первый и последний раз за всё время своего существования висел над окошечком и… лгал.
Он лгал, но ему поверили. Вечером наша ingénue лежала у себя в номере и рыдала на всю гостиницу.
– Меня не любит публика! – говорила она.
Один только ветер взял на себя труд посочувствовать ей. Он, этот добрый ветер, плакал в трубе и в вентиляциях, плакал на разные голоса и, вероятно, искренно. Вечером же в портерной сидел комик и пил пиво. Пил пиво и – больше ничего.









































