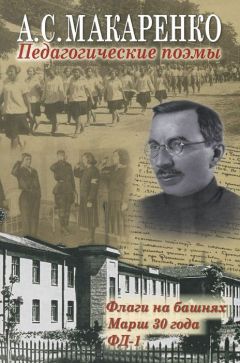
Автор книги: Антон Макаренко
Жанр: Воспитание детей, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 57 страниц)
Технология гнева
В начале ноября в колонии шла напряженная подготовка к празднику. А готовиться было и некогда, рабочие дни загружены были до отказа. Каждый дорожил минутой, и каждая минута имела значение. Но в один из вечеров Люба Ротштейн из одиннадцатой бригады нашла записку. Эта записка лежала в книге, которую Люба только что принесла из библиотеки. Люба быстро прочла записку и вскрикнула:
– Ой, девочки! Ой, какая гадость! Лида!
Лида Таликова взяла из ее рук листок бумаги. Написано было аккуратным курсивом:
«Надо спросить Ванду Стадницкую, чем она занималась до колонии и как зарабатывала деньги».
В это время в нижнем коридоре возвращался из библиотеки Семен Гайдовский. Название книги, которую он только что получил, было настолько завлекательно, что хотя он и наметил основательно книгу эту читать во время праздников, но уже сейчас он медленно бредет по коридору и рассматривает картинки. Из книги выпала бумажка, Гайдовский не заметил этого и побрел дальше. Записку поднял Олег Рогов и прочитал:
«Хлопцы! За дешевую цену можете поухаживать за Вандой Стадницкой, опытная барышня!»
– Где ты взял это?
– Чего?
– Записку эту?
– Я не знаю… какую записку?
– Обронил… ты обронил.
– Может, из книги?
– А книга откуда?
– Это я сейчас взял в библиотеке. А что там написано?
Рогов не ответил и бросился в комнату совета бригадиров.
– Смотри, что у нас делается!
Виктор Торский сидел за столом, и перед ним лежало несколько таких же записок.
– Я уже полчаса смотрю. Это четвертая записка.
Через некоторое время Торский поставил у дверей Володю Бегунка и засел с Зырянским и Марком Грингаузом. Зырянский, впрочем, недолго заседал. Он быстро пробежал все записки и сказал уверенно:
– Это Левитин писал.
Марк спросил:
– Ты хорошо знаешь?
– Это Левитин. Он со мной на одной парте. Его почерк. И помнишь, он на Марусю в уборной написал? Помнишь?
– Да как же он подложил?
– А как же? Очень просто: член библиотечного кружка.
Виктор ничего не сказал, послал Володю позвать Левитина. Севка пришел, скользнул взглядом по запискам, разложенным на столе, ловко не заметил внимательных суровых глаз Торского, спросил с умеренной почтительностью:
– Ты меня звал?
– Твоя работа? – Торский кивнул на стол.
– А что такое?
– Ты не видишь?
– А что такое?
Левитин наклонился над столом. Зырянский круто повернул его за плечо:
– Читать еще будешь?
– Вы говорите – моя работа, так я должен прочитать?
– Должен! Ты и писать должен, ты и читать должен? На одного много работы!
– Не писал я это.
– Не ты?
– Нет.
Зырянский горячо ненавидяще взглянул через стол, словно выстрелил в Левитина. Тот с трудом отвел глаза; было видно, как дрожали у него ресницы от напряжения. Зырянский прошептал что-то уничтожающее и резко обернулся к Виктору:
– Давай совет, Виктор!
– Сейчас будет и совет.
Прошло не больше трех минут, пока Витя побывал у Захарова. В течение этих трех минут никто ни слова не сказал в комнате совета бригадиров. Марк Грингауз отвернулся к окну, Зырянский опустил глаза, чтобы не давать своей ненависти простора. Левитин прямо стоял против стола, немного побледнел и смотрел в угол. Захаров вошел серьезный, молча пробежал одну записку за другой, последнюю оставил в руке и холодно-внимательно присмотрелся к Левитину.
– Хорошо, – сказал он очень тихо и ушел к себе. Левитин побледнел еще сильнее.
Витя крикнул к дверям:
– Бегунок!
– Есть!
– Сбор командиров!
– Есть!
В спальне пятой бригады Ванда Стадницкая рыдала, уткнувшись в подушку. Рядом сидит Оксана и молча гладит ее голову. Девочки собрались и перешептывались растерянно. В спальню вбежала Клава Каширина. Ни лица ее, ни голоса нельзя было узнать:
– «Совет» играют! Я его удавлю! Своими руками! Если его не выгонят… Идем, Ванда!
Ванда подняла голову:
– Я не пойду!
– Что! Сдаваться Левитину? Как ты смеешь? А что твоя подшефная скажет?
Ванда села на кровати, быстро вытерла слезы, нахмурила брови:
– Оксана, ты скажи: идти разве?
Оксана вдруг улыбнулась, улыбнулась просто и весело, как улыбаются девушки, когда у них на душе хорошо:
– Пойдем. А почему не пойти! Посмотрим, какой там гадик. Пойдем.
Правая бровь Ванды удивленно изогнулась. Кто-то из девочек взял ее за плечи, сказал:
– Умойся только. Пусть не воображает, что ты плакала.
В совете бригадиров было сегодня необычно. Во-первых, Торский безжалостно выставил всех пацанов и они большой кучей стояли в коридоре и по выражению входящих старались понять, что такое происходит в совете. Володя Бегунок стоял у дверей и никого не впускал, кроме бригадиров. Только перед Вандой и Оксаной он отступил, и пацаны поняли, что Бегунок кое-что знает. Но когда дверь окончательно закрылась и они спросили Володю о причинах тревоги, Володя серьезно ответил:
– Нельзя говорить.
Через несколько минут выглянул Виктор и приказал:
– Бегунок, Рыжикова!
Володя поставил у дверей Ваню Гальченко, а сам побежал за Рыжиковым. Рыжиков прошел в дверь быстро, не глядя на пацанов.
В это время в совете гудело общее возмущение. Многие даже не могли сидеть на диване, а стояли у председательского стола тесной кучкой. Слова никто не брал, и Виктор не следил за порядком прений. Зырянский держал руку на собственном горле, он почти задыхался:
– Не могу! Видеть не могу! Ты еще запираешься! Какое это имеет значение? Выгоним, все равно выгоним! И признаешься – выгоним, и не признаешься – выгоним!
Левитин стоял не на середине, а в углу, и никто не требовал, чтобы он стал «смирно». Ноги у Левитина сделались слабыми, одной рукой он неудобно держался за спинку дивана. Смотрел вбок, в стену. Зырянский не находил слов, только в глазах мобилизовалась вся его ненавидящая душа.
Воленко спросил Левитина:
– А откуда ты знал? Кто тебе сказал?
Левитин сначала пошевелил толстыми губами, но слов никаких не вышло. Тогда он широко открыл рот, зевнул, как рыба, выброшенная на берег, и с трудом, неясно произнес:
– Я ничего не знал, и я ничего… не писал.
Ванда сидела между девочками в противоположном углу. Она покраснела, сказала хрипло:
– Витя, дай слово!
Все обернулись к ней, подошли ближе. Она сделала несколько шагов вперед, не отрываясь взглядом от Левитина, и остановилась прямо против него, заложив руки за спину. Левитину было неудобно, он крепче оперся на диван, еще больше отвернулся к стене. Ванда сказала тихо, с трудом выбирая слова, с трудом преодолевая гнев:
– Ты! Слышишь? Моя жизнь… была… как ты написал! Ты написал… ну и что же? Все равно, пускай знают! Здесь товарищи! Пускай знают! А только в другом… дело. Кто меня довел до такой жизни?! Такие люди… отвратительные, понимаешь… такие, как ты! Такие, как ты… такие, как ты…
Последние слова Ванда произносила в забытье, уже оглядываясь по сторонам, с трудом подавляя рыдания. Потом она в смятении бросилась к дверям, но Нестеренко сильной рукой перехватил ее по дороге, и она, не разбирая, заплакала на его плече. Ее слезы никого не испугали и не удивили.
Нестеренко спокойно сказал Левитину:
– Слыхал, паскуда? Ванда замечательно сказала. Ты написал, а мы Ванду теперь еще больше уважаем. Она наша сестра, понимаешь ты, гад? А тебя мы выгоним. Будь покоен, выгоним и через полчаса забудем, как тебя звали.
Зырянский перебил его:
– Сейчас! После совета! Я сам тебя выведу на дорогу. Ты со мной еще глаз на глаз поговоришь!
Лида Таликова стояла рядом с Зырянским, говорила задумчиво, как будто про себя:
– Никогда так не голосовала, а сейчас буду голосовать: выгнать! Ты в нашу жизнь… у нас такая красивая жизнь! А ты… Тебя нужно раздавить… башмаком.
Зырянский не мог больше выносить прений. Он подошел вплотную к Левитину:
– Довольно! Противно! Ты не писал? Скажи еще раз!
Левитин молчал. И молчали все бригадиры. Хорошенький Илья Руднев беспомощно оглянулся на Захарова – нужно было что-то делать. Но неожиданно раздался голос Рыжикова:
– Я скажу… Торский…
– Да, да, я для того тебя и позвал.
– Я скажу: конечно, Левитина нужно выгнать. Конечно: сидит и пишет. Ему нужно чужую жизнь заедать!
Левитин с силой повернулся в углу:
– Да ты же мне и сказал!
– Ага! – крикнул кто-то один, но все лица поддержали этот возглас. Рыжикова он не смутил, Рыжиков знал жизнь и умел разговаривать с людьми. Только выражение лица Игоря Чернявина немного смущало его, но Игорь Чернявин потом. Рыжиков даже добродетельно улыбнулся.
– Я тебе сказал как товарищу. И я тебе сказал, что тут ничего плохого нет. Говорил?
– Да… ты это говорил.
– Я тебе как товарищу… А ты… нагадить тебе нужно! Я тебе сам говорил, ничего плохого нет! Два раза говорил…
Рыжиков разошелся. Рыжиков благородно вскрывал событие. Но откуда-то вдруг появилось против его лица перекошенное лицо Игоря:
– Брось! Помнишь, я тебе сказал: утоплю. Забыл? Забыл?
Рыжиков отступил, испуганный, Чернявин шел на него. Кто-то взял Игоря за локоть, но он нетерпеливо сбросил чужую руку:
– Здесь совет, тебя не судят! А только я тебе этого не прощу! Никогда! Я тебя, все равно… ты свое получишь. – Игорь в знак еще большего подтверждения кивнул головой и вышел из комнаты.
Рыжиков посмотрел на всех, но все смотрели на него отчужденно. Он сел на диван. Торский сказал:
– Тебе здесь нечего рассиживаться, убирайся!
Рыжиков спешно прошел к двери, Ванда брезгливо посторонилась. Когда дверь закрылась за ним, Нестеренко протянул:
– Да-а! Все понятно!
Торский поставил вопрос:
– Так что будем делать с этим… с Левитиным?
Зырянский бросил на Левитина небрежный взгляд, махнул рукой:
– Да ну его к черту! Стоит о нем говорить! Я предлагаю наказание: оставить без обеда завтра. Он и то будет плакать и клянчить: дайте пообедать!
В совете рассмеялись. Захаров сказал серьезно:
– Нельзя так издеваться над человеком! Я решительно протестую. Выгнать – это другое дело! А что вы в самом деле: оставить без обеда. У Левитина есть тоже свое достоинство. Иногда наказать человека значит выразить уважение к нему.
Сумрачный бригадир третьей Брацан не понял Захарова[222]222
В оригинале «улыбнулся грустно.
[Закрыть]:
– Не бойтесь, Алексей Степанович! Никто его без обеда не оставит.
Ты не волнуйся, Левитин: будешь обедать. И выгонять его не следует: пускай живет, и кормить его, конечно, нужно. А только я об одном прошу: Левитин, сделай для меня одолжение: когда будем идти на демонстрацию седьмого ноября, не становись с нами в строй, посиди дома. И для тебя спокойнее, и нам будет как-то… приятнее. Потому… мы идем под знаменем, а тебе… какое тебе дело до нашего знамени?
Поршнев сказал, как всегда, добродушно и тепло:
– Я дежурю седьмого. Куда-нибудь… я его… пристрою. Дежурным по кухне, хочешь, Левитин?
Это был последний удар презрения, который свалил Левитина на диван. Он забился в мягкий его угол и заплакал негромко, заплакал для себя, не обращая внимания на то, что происходит в совете. На его склоненную фигуру посмотрели с секунду, и Виктор Торский объявил:
– Все! Можно расходиться. Объявляю заседание совета бригадиров закрытым.
Все двинулись к дверям, но Левитин вскочил с дивана и, протягивая руки, обливаясь слезами, заорал:
– Товарищи! Накажите как-нибудь. Товарищи, нельзя же так! Товарищи! Алексей Степанович! Накажите как-нибудь!
Никто на него не посмотрел. Только пацаны из коридора вторглись в комнату и, удивленные, окружили Левитина. Он снова упал на диван и зарыдал отчаянно громко, приговаривая что-то.
Захаров прикрикнул на пацанов:
– Марш отсюда! До чего народ любопытный!
Они исчезли мгновенно. Захаров положил руку на плечо Левитина:
– Идем! Не нужно так убиваться! Иди сюда, я тебе назначу наказание.
Левитин перестал рыдать и, всхлипывая, побрел за Захаровым в кабинет.
27Кто что любит
На второй день праздника Захаров в тишине работал в кабинете. Пришли в кабинет Володя Бегунок и Ваня Гальченко и сели тихонько на диване. Захаров посмотрел на них, ничего не сказал, что-то подсчитывал на большом листе.
Володя наклонился к уху приятеля:
– Все равно не скажешь…
– Нет, скажу.
– Слабо тебе сказать.
– Нет, не слабо.
– А чего ж ты сидишь и не говоришь?
– А я еще скажу.
– Посидишь и уйдешь.
Ваня быстро поднялся, подошел к столу Захарову. Захаров не обратил на него внимания. Ваня подошел ближе, коснулся стола животом и положил руки на его край. Потом вкось посмотрел на Володю, покраснел. Захаров, не прекращая работы, спросил:
– Ну?
– Алексей Степанович! Тот… сегодня ж восьмое ноября?
– Восьмое.
– А новых опок еще не сделали.
Захаров улыбнулся, посмотрел на Ваню:
– Не сделали.
– Значит, Алеша правду говорил?
– Выходит, так…
Ваня что-то еще хотел сказать, но… не выдержал, бросился к двери. Володя снялся с якоря на диване, но в дверях Ваня обернулся:
– Значит, Соломон Давидович не сдержал слова?
Захаров покачал головой. Мальчики захлопнули дверь.
Авторитетное подтверждение Захарова было необходимо ввиду крайне противоречивых толкований, распостраненных в четвертой бригаде. Находились такие, вроде Кирюшки Новака, которые утверждали, что вопрос о слове, данном Соломоном Давидовичем в свое время, снят с очереди. Этому оппортунистическому течению в четвертой бригаде способствовало то обстоятельство, что на производстве почему-то стало очень мирно. Станки по-прежнему хрипели и останавливались, пасы и шкивы по-прежнему выходили из строя по нескольку раз в день, но колонисты заявляли об этом Соломону Давидовичу вежливо, терпеливо выслушивая его обещания. Нужно, впрочем, сказать, что Соломон Давидович теперь не столько обещал, сколько разводил руками и говорил нежно:
– Вы же понимаете, дорогие товарищи!
Намечались и другие линии примирения между колонистами и Соломоном Давидовичем. В конце декабря предстоял годовой праздник – день открытия колонии. Теперь, после годовщины Октября, началась развернутая подготовка к этому празднику. Петр Васильевич Маленький напомнил как-то на общем собрании, что по старой колонистской традиции все к этому празднику должно быть сделано руками колонистов. Выходило так, что без Соломона Даивдовича обойтись будет трудно. Работала уже праздничная комиссия, составленная из представителей всех бригад. От восьмой бригады в эту комиссию вошел Игорь Чернявин, от четвертой бригады – Ваня Гальченко, от пятой – Оксана. Ваня в это время играл уже в оркестре, правда, только во втором, учебном составе. Ему был поручен второй корнет. Но не было никаких надежд, что к празднику он успеет пройти всю учебную программу второго корнета. Поэтому Ваня значительную часть души мог отдать подготовке к празднику.
На первом же заседании комиссии выяснилось, что без помощи Соломона Давидовича вечер самодеятельности устроить будет трудно. И комиссия постановила: выделить для переговоров наиболее искушенных в дипломатии товарищей. Таковыми оказались, по общему признанию, Игорь Чернявин и Шура Мятникова, которая даже в библиотеке умела каждому выбрать книгу по вкусу.
У Соломона Давидовича Игорь начал:
– У нас будет вечер самодеятельности…
Соломон Давидович перебил его:
– Вам нужно сделать декорации? Я уже согласен. Так, чтобы не испортить доски, пожалуйста! А когда будет вечер?
– Через полтора месяца.
– Это очень хорошее дело. Очень хорошее начинание. Я сам с удовольствием принял бы участие.
– Соломон Давидович! Давайте! Давайте, и все!
– Я и декламировать могу. И танцевать. Давайте я вам такой гопак станцую, пальчики оближете, хе-хе! Я вам покажу молодость, черт возьми!
– С Оксаной?
– А что же вы думаете: если Оксана, так я испугался?
– По рукам!
– По рукам!
Соломон Давидович рассмеялся весело, а Игорь побежал порадовать комиссию. Маленький очень одобрил результаты его посольства:
– Во-первых, это будет оригинально: Соломон Давидович тоже участвует, а во-вторых – мы получим и доски, и фанеру, и бязь, и бумагу, и лампочки, и всякие сценические эффекты.
Еще через неделю Игорь предложил в комиссии более подробный план участия Соломона Давидовича. Его проект был встречен взрывами хохота. Маленький с горящими глазами слушал подробности:
– Шикарно! Только… догадается.
– Ни за что на свете!
Ваня сказал:
– Убиться можно!
Оксана была смущена смелостью проекта:
– Игорь, не нужно так делать.
– Оксана! Это будет замечательно. Замечательно! И Соломон Давидович доволен будет. Очень будет доволен.
Маленький подтвердил:
– Будет доволен! Эт-то… шикарно!
Когда Игорь отправился к Соломону Давидовичу, Ваня увязался с ним, только Игорь предупредил его:
– Глаза! Глаза у тебя – прямо невозможно! Спрячь глаза.
Ваня спрятал глаза, как умел, т. е. в разговоре с Соломоном Давидовичем прикрывал их рукой. Другого способа спрятать глаза Ваня еще не знал. Предложению Игоря Соломон Давидович обрадовался:
– Монолог Бориса Годунова?
– Пушкина!
– Нет, вы говорите ясно: Бориса Годунова или Пушкина? Нельзя же смешивать!
– «Борис Годунов» – сочинение Пушкина.
– Так и нужно говорить во избежание недоразумений. Так это я должен объявить: «Борис Годунов» – сочинение Пушкина?
– Нет, вы не беспокойтесь, это конферансье объявит.
– Тем лучше. Борис Годунов – это такой полководец?
– Царь.
– Допустим, не царь, а бывший царь. Я что-то такое помню. Его кто-то зарезал такой.
– Нет, это он зарезал… царевича Димитрия.
– Ну, я же знаю. Какие-то у него были там неприятности… Хорошо, я прочитаю.
– И гопак.
– С Оксаной?
– Только… нужно ходить на репетицию. Разве у меня есть время ходить?
– Не нужно, Соломон Давидович, на репетиции. Мы хотим, чтобы это было для всех сюрпризом, понимаете, для всех… Мы так… потихоньку… прорепетируем.
– Будьте покойны!
– Так вот мы вам принесли.
– Что это такое?
– А это слова!
– Ага, слова! Так чистенько написано. Кто это такой так хорошо пишет?
– А это Ваня Гальченко.
– Это ты так хорошо написал? А почему ты все улыбаешься? У тебя такой веселый характер?
– У него всегда такой характер, Соломон Давидович, – сказал Игорь и ущипнул Ваню за ногу. – Ваня несколько изменил характер.
– Будьте покойны, – сказал Соломон Давидович на прощание. – Я не подведу. А то вы думаете: Соломон Давидович – это давай сырье, давай станки, давай опоки, давай ремонт, все давай, давай! Вот вы увидите.
Подготовка к празднику пошла полным ходом. На полном ходу пошли и другие дела. В один из выходных дней состоялась закладка нового завода. На краю площадки, против цветников, уже несколько дней копали котлованы. Колхозные подводы свозили кирпич и складывали его аккуратными розовыми стопками. На закладку приехал Крейцер, а с ним еще много людей, между ними был и толстый инженер Воргунов. Крейцер всем показывал колонию, только Воргунов ничего не захотел смотреть, сидел в кабинете Захарова и говорил:
– Закладка – это еще не дело. Это марафет. Наши вообще не могут без марафета. – Кто это «наши», Петр Петрович?
– Наши – русские!
– Вы не любите русских?
– Я люблю борщ с чесноком, а с русскими я предпочел бы работать как следует.
– Вот и хорошо: поработаем вместе.
– Посмотрим. Только… товарищ Захаров, неужели и вы серьезно думаете, что ваши… мальчики способны будут справиться с таким заводом?
– Совершенно серьезно.
– Так. Ну, хорошо, пока нужно торжествовать…
Колонисты в парадных костюмах выстроились на площадке и вынесли знамя с обычным торжеством. Воргунов стоял возле котлована и ухмылялся[223]223
В оригинале «улыбался».
[Закрыть]. Крейцер спросил у него:
– Понравилось все-таки?
– Да, понравилось. Это их дело, хорошо! Музыка, стройно, красиво. А только при чем здесь завод электроинструмента? Нельзя смешивать!
– Смешаем, Петр Петрович. Музыку с заводом, и вас еще прибавим полную порцию!
Воргунов снова надул губы:
– Нет, уж увольте: я стар для таких забав, Михаил Осипович!
На дне котлована, на кирпичном ложе, уложили большую грамоту, в которой было написано, когда и кем закладывается новый завод. Укладывали эту грамоту, придавили ее кирпичом и закрыли известкой два человека: самый старый и самый молодой представители Советской власти в колонии: Крейцер и Ваня Гальченко.
В этот день Ваня Гальченко был дневальным от десяти до двенадцати вечера. Он стал на пост в момент сигнала «спать». Еще через полчаса затихло движение на лестнице. Ваня потушил свет в коридорах, крепче стянул пояс на шинели и заходил по вестибюлю, переставляя винтовку, широким шагом. В половине двенадцатого Захаров окончил работу. Проходя мимо Вани, он спросил:
– Спать не очень хочешь?
– Хоть до утра стоять, – ответил Ваня.
– Ну молодец! Спокойной ночи! Ты кому сдаешь дневальство?
– Володе Бегунку.
– А сигналы кто завтра?
– Сигналы Петька будет.
– Хорошо…
Захаров ушел. Когда до смены оставалось десять минут, тихо открылась дверь и рыжая голова просунулась в щель, зеленые глаза смотрели на Ваню подозрительно.
– А я… из города. Погулял… немного.
Зацепив за дверь, Рыжиков пролез в вестибюль, пошатнулся перед Ваней, бессильно взмахнул рукой:
– Отметь… пожалуйста… в рапорте. Отметь! Все равно, так и отметь: Рыжиков опоздал на три часа. Опоздал, ну так что же!
Он полез по лестнице, именно полез, потому что часто спотыкался и хватался рукой за ступени. Ваня испуганно смотрел ему вслед.
Когда прибежал сверху Володя в шинели, туго стянутой в талии, Ваня зашептал страстно:
– Рыжиков… пьяный пришел, понимаешь!
– Рыжиков! Да ну!
– Пьяный, совсем пьяный, так шатается и падает все.
– Попадет! Его все равно выгонят…
– А если он скажет: кто видел?
– Ты завтра должен сдать рапорт дежурному бригадиру[224]224
В оригинале «командиру».
[Закрыть].
– А если он скажет: вранье![225]225
В оригинале «неправда».
[Закрыть]
– Против рапорта не поспорит!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































