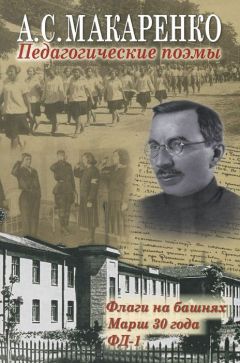
Автор книги: Антон Макаренко
Жанр: Воспитание детей, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 47 (всего у книги 57 страниц)
3
История производственного фона
Когда-то, в первой молодости, я написал рассказ и послал его Максиму Горькому. Получил от Горького письмо, в котором между прочим было написано:
«…рассказ написан слабо: не написан фон…»
Тогда письмо Горького отбило у меня охоту заниматься художественной выдумкой. Но и теперь, когда мне выпало на долю описывать художественную правду, я всегда со страхом вспоминаю:
– Стой… А фон? Написан ли фон?
Я начинаю рассматривать нашу советскую жизнь и ищу фон. Пробовал учиться у великих мастеров – ничего не выходит. У них все это было легко. Небеса, темные и прохладные дубравы, тихие и сонные мещанские будни. Можно накрепко укрепить мольберт на одном месте и писать, писать… Можно даже лечь, отдохнуть, проснуться и продолжать писать все тот же фон.
Попробуйте теперь подойти к окну с таким философским спокойствием. Ну, никаких небес, а есть зарево иллюминаций, курьерские скорости вихрей и облака, перемешанные с дымом заводов. Даже и слова такого нет. Наш человек если представит себе такую дубраву, то обязательно со столбиком какого-нибудь отдела пятилетки – либо лесное хозяйство, либо осушение, либо дорога. Поэтому по вопросу о фоне, на котором рисовалась коммунарская жизнь, мне приходилось говорить чрезвычайно осторожно, ибо наша жизнь совсем иная, и нельзя…
Действительно, жизнь ста пятидесяти коммунаров-дзержинцев осенью 1930 года рисовалась на определенном фоне, мы все этот фон замечали. Только этот фон не торчал отдельно на заднем плане картины, а выпирал вперед, расплывался по лицам переднего плана и вдруг начинал играть на первых ролях, оттесняя в сторону специально назначенных для этих целей персонажей.
Привез этот фон из Киева тот же Соломон Борисович.
Очень жаль, что Ильф и Петров истратили по пустякам прекрасный термин: «великий комбинатор»[314]314
Великим комбинатором назвали Остапа Бендера – героя «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова.
[Закрыть]. Их герой имел гораздо меньше права на это звание, чем Соломон Борисович, и занимался он какими-то стульями, между тем как Соломон Борисович – прежде всего производственник.
Соломон Борисович в нашей поэме играет не последнюю роль. По всем правилам нужно рассказать о нем подробно, не мешало бы даже остановиться на его предках. Но предков у Соломона Борисовича не было. Не было у него и прошлого. Соломон Борисович родился после 1917 года. Некоторые товарищи, правда, утверждали, что Соломон Борисович имел раньше в Киеве маленький заводик, жил хорошо, была у него квартирка…
По поводу таких предположений Соломон Борисович всегда говорит:
– Заводик, скажите пожайлуста, заводик… может, имел фабрику, магазин готового платья? Всем до этого дело, а никто не спросит, сколько часов в сутки спал Соломон Борисович… Подумаешь, фабриканта нашли…
После такого отзыва заводик и квартирка и в самом деле начинают представляться в далеком тумане, может быть, было, а может, и не было.
Если бы Соломон Борисович имел более спокойный характер, то и тумана никакого не было бы. Но иногда в совете командиров, когда коммунары доведут его до белого каления, раскричится в обиде:
– Вы понимаете? Много вы понимаете в производстве. Он, смотрите, носа вытереть не знает, а в производстве он все знает. Вы это говорите мне? Эти ваши мастерские, подумаешь, завод! Я имел получше дела, и спросите, как я их делал. Я не видел этой вагранки?..
Говорили также, что Соломон Борисович окончил Политехнический институт в Германии, но когда к нам приехали немцы-рабочие и на собрании в «громком» клубе просили Соломона Борисовича переводить, он сказал:
– Забыл, знаете, товарищи коммунары.
Коммунары мало интересовались его прошлым, ибо настоящее Соломона Борисовича слишком основательно было установлено перед их глазами и отвернуться от него нельзя. Вот вы отвернулись. Но Соломон Борисович, несмотря на свою толщину и некоторую бесформенность фигуры, несмотря на тяжелую седоватую голову и обрюзгшее лицо, перемещается с места на место с быстротой удивительной и при этом настойчиво избегает прямых линий. Не было случая, чтобы Соломон Борисович, желая пройти из деревянного сарая в каменный, просто прошел бы это расстояние по прямой дорожке. По пути он обязательно сворачивает несколько раз в какой-нибудь цех, обходит зачем-то вокруг сарая, снова направляется к прежней цели, но вдруг что-то вспоминает и озабоченно делает зигзаг по направлению к лесному складу, из которого не выходит в дверь, а укоризнено вылезает в одну из дыр, которыми лесной склад изобилует. И в конце концов он подходит к каменному сараю с противоположной стороны или даже вовсе к нему не подходит, а подходит к Шнейдерову в другом конце двора и кричит:
– Если будет дальше такая никелировка, то я вам спасибо не скажу. Что это вам – кустарная мастерская на еврейском базаре или государственное производство?!
И, наконец, Соломон Борисович оказывается как раз перед вами, а вы ведь только что от него отвернулись.
Соломон Борисович привез в коммуну производственный фон. До Соломона Борисовича, до марша тридцатого года, положение с фоном у нас было очень тяжелое. Специалисты об этом говорили так:
– Нет производственной базы.
И в самом деле, какая могла быть в коммуне производственная база? Было две комнаты, в которых стояли несколько деревообделочных станков, два токарных по металлу, шепинг и револьверный. В этих комнатах насилу помещалось десятка два коммунаров и никак не оставалось места для материалов и фабрикатов. На всю производственную базу было два инструктора, которые большей частью занимались составлением учебных программ. При таком положении с производственной базой коммунары хоть и работали в мастерских и даже кое-что выпускали на рынок, но больше сидели в долгах и в постоянных конфликтах с заказчиками. Размах наш в то время не достигал 10 тысяч в год. Коммуна никогда не состояла на государственном, или местном бюджете. Сотрудники ГПУ Украины, построившие наш дом, принуждены были и в дальнейшем отчислять от своего жалованья 2–3 процента для того, чтобы коммунары могли жить, питаться и одеваться. Правда, и в то время забота чекистов была достаточна, чтобы мы не испытывали особенной бедности. Коммунарский коллектив был всегда весел и полон надежд, всегда у коммунаров была хорошая дисциплина, и мы не переживали никаких страданий. Но двухлетняя совершенно безнадежная борьба за производственную базу, постоянные убытки и неприятности, вечная смена инструкторов, заведующих производством и производственных установок издергали нам нервы.
Все мы понимали, что на наших случайно собранных станках в двух комнатах никогда не родится производственная база.
К нам часто приезжали комиссии из разных специалистов, составляли планы более рациональной расстановки станков, обещали рекомендовать хорошего инструктора, при отъезде сочувствовали:
– Нельзя без оборотного капитала. Нужно не меньше десяти тысяч оборотного капитала.
Вновь назначенные старички завпроизводством привозили к нам в портфель дощечки для настольных зеркал и говорили:
– Будем выпускать вот эту продукцию – дело не трудное, и на рынке есть спрос.
– Что, зеркала? – удивленно спрашивали коммунары.
– Нет, зачем же зеркала, вот досточки…
Мы уже совсем потеряли надежду выбраться на производственную дорогу. И в этот самый момент появился на горизонте Соломон Борисович…
Горизонт тогда помещался приблизительно на линии нашего Правления в ГПУ УССР. Соломон Борисович пришел в Правление, показал короткий доклад с приложением калькуляции и сказал:
– Я там был, в коммуне, такие хорошие мальчики, очень хотят разработать, почему им не делать замки?
– Замки? Почему именно замки?
– Разве я сказал, что нужно обязательно замки? Можно делать и что-нибудь другое. Нужно что-нибудь делать и продавать государственным организациям. Зачем давать деньги коммунарам, когда они могут давать деньги Правлению.
– Как это?
– А вот видите – калькуляция? Вы же видите, что здесь показано сто тысяч рублей чистой прибыли?
Соломона Борисовича просили зайти вечерком. Вечером в заседании Правления, где были я и два коммунара, и родился Соломон Борисович послереволюционный, не имеющий предков и прошлого.
Калькуляция Соломона Борисовича не вызывала у нас доверия, но нам понравилась глубокая уверенность в возможности нашего производственного оздоровления.
– На чем же будем делать замки?
– Не замки, а французские замки. Важно, чтобы вы решили их делать, а потом вы дадите мне командировку в Киев, и я привезу вам станки и все оборудование по последнему достижению техники.
– Почему в Киев?
– В Киеве меня всякая собака знает, а здесь меня никто не знает.
– Но… видите ли, у нас нет денег ни на станки, ни для оборотного капитала…
– Если бы у вас был оборотный капитал, чего бы я к вам приходил? Разве приятно человеку, когда его выгоняют через двери и через порог? Но нельзя же спокойно смотреть на такое дело: это – детское учреждение, налогов не платит, все для мальчиков, а не делается никакого дела… Нам не нужно денег, нам нужно работать, а когда люди работают, у них бывает много денег, и у нас будут. А какая у мальчиков будет квалификация, ах! Токаря, слесаря, никелировщики, сборщики…
В Правлении разрешили Соломону Борисовичу съездить в Киев и использовать знакомых «собак» для приобретения в кредит оборудования и материалов. Список всего этого Соломон Борисович прочитал нам с совершенно артистической дикцией. Для коммунарского уха музыкой были такие нерифмованные строки:

Это целое богатство после наших двух токарных и шепинга. Мы возвратились домой, во всяком случае, в приподнятом настроении, однако наш доклад в совете командиров встретили с недоверием:
– Замки? Буза какая-то…
– Замки, наверное, такие будут, что только собачники запирать.
– Это вроде как тот чудак приехал: досточки для зеркал, на рынке сейчас спрос!
– А черт с ним, пускай хоть станки привезет, а там видно будет. Только зачем столько токарных станков, что ж замки на токарных будем делать?
Через три недели в коммуну влетел Соломон Борисович, оживленный и по-прежнему уверенный в себе. В моем кабинете в окружении всего коммунарского актива он разложил на столе какие-то блестящие штучки и сказал:
– Вот! Мы будем делать не французские замки, а кроватные углы, имейте в виду, мы их сами будем никелировать, а спрос? С руками оторвут…
Начало тридцатого года было до краев напихано непривычными для коммунаров событиями. Соломон Борисович с четырех часов утра убегал в город и потом в течение целого дня свозил в коммуну разные вещи… Сначала были привезены Шнейдеров, Свет, Ганкевич, Островский и два Каневских. Для них в коммуне не было свободных помещений, и Соломон Борисович сказал:
– Ничего, они поживут у меня, пока жена приедет…
– Но ведь у вас только одна комната…
– Это ничего, не пропадать же людям… Ах, вот вы узнаете, какие это мастера…
Вслед за мастерами начали прибывать станки. Их свозили к нам во двор крестьянские подводы и сваливали у дверей нашего столярного цеха. По некоторым признакам можно было догадаться, что это токарные станки, мастер Шевченко смог даже определить их возраст:
– Эти станки, хлопцы, старше меня с вами. Им лет по семьдесят.
Вместе со станками был привезен и знаменитый литейный барабан, составивший эпоху в истории коммуны имени Дзержинского. Наконец, два грузовика высыпали посреди нашего двора целую кучу чрезвычайно странных вещей: между различными решеточками, обрезками, пластинками, подсвечниками, шайбочками торчали церковные кресты, исконные ризы и даже венчальные короны, в которых наши пацаны несколько дней гуляли по коммуне, вызывая осуждение Соломона Борисовича:
– Вам все играться… Это же не игрушки, это медь, вы думаете, мне легко было достать это в Киеве?
Прибыл из Киева и вагон глины и несколько возов железных рамок. Все это увенчивалось множеством всякого лома, назначение которого было покрыто мраком неизвестности. Была здесь между прочим и небольшая железная бочка, но с одним только колесом – она, кажется, и до сих пор где-то валяется в коммуне, никуда ее не пристроил Соломон Борисович, хотя и говорил мне:
– Это же дорогая вещь!.. Попробуйте сделать такую бочку!..
Соломон Борисович не был сторонником строго письма – фон наносился на полотно широкими мазками, и иногда даже трудно было разобрать отдельные его подробности. В течение двух недель мастера Соломона Борисовича перетаскивали и устанавливали на новых местах различные приспособления. Соломон Борисович одобрительно отнесся к нашей столярной и швейной, и вообще он не был склонен к пессимизму и придирчивости:
– Столярная? Разве это плохо?
– Вы еще не знаете, что можно делать в швейной мастерской? Можно делать трусики, не нужно никаких платьев, трусики всем нужны, и каждый может их купить.
Все это богатство трудно было разместить в наших производственных помещениях, и по этому вопросу Соломону Борисовичу пришлось часто ссориться с советом командиров, но он оказался большим мастером находить уголки, щели и закоулки, которые через два-три дня называл уже цехами и обставлял привезенным из Киева оборудованием.
Две комнаты в главном доме, от природы назначенные под производство, он занял деревообделочной мастерской, в красном кирпичном доме расположил токарные по металлу, подвесив к шаткому потолку длинную трансмиссию. Рядом пристроил небольшой деревянный сарайчик – это литейная. В подвальном помещении он разыскал три вентиляционные камеры и, убедив всех, что у нас и без того воздух хороший, организовал в них никелировочный и шлифовальный цехи, перепутав их привезенными из Киева эксгаустерами, целой системой труб длиной в несколько метров. Эта сложная система, впрочем, с первого дня отказалась вытягивать опилки и пыль, как было ей положено по должности.
В один прекрасный день зашумел барабан в литейной, и желтый тяжелый дым повалил из низенькой жестяной трубы, полез в окна классов и спален, квартир служащих. Мы закашляли и зачихали, кто-то выругался, старушки в квартирах потеряли сознание на десять минут, коммунары хохотали и вертели головами в знак восхищения:
– Вот это так химия!..
В это время в коммуне уже работал доктор Вершнев, один из лицедеев горьковской истории, получивший медобразование с нашей помощью, наш общий корешок, именуемый обычно Колькой.
Колька Вершнев в ужасе хватал термометр и тыкал его литейщикам под мышку, что-то штудировал в словаре о литейной лихорадке. Но Соломон Борисович был весел и доволен:
– У вас что, санаторий или производство? Скажите, пожайлуста, – вредно для здоровья. Поезжайте в Ялту и кушайте виноград – тогда будет полезно для здоровья, а всякое производство для здоровья вредно. Никто не умер?
– Не умер, так заболеет.
– Ну, когда заболеет, тогда будем говорить.
Два Каневских, Шнейдеров, Свет и Ганкевич летали по коммуне, развевая полами пиджаков, кричали в кладовых, распоряжались в цехах, доказывали Соломону Борисовичу, что они больше его понимают, иногда вступали с ним в настоящую перебранку и в таких случаях переходили даже на еврейский язык. После этого Соломон Борисович прибегал ко мне и кричал:
– Разве с этим барахлом можно работать? Они привыкли к своей кустарной мастерской и никак не могут понять, что такое большое производство…
– Надо выгнать…
– Выгнать! Легко сказать… А с кем я буду работать… А как же я их выгоню, если станки ихние, барабан ихний, даже медь ихняя?
Коммунары сначала не очень ссорились с Соломоном Борисовичем, только смеялись много. Все же много внес Соломон Борисович нового в коммуну: всем нашлось место у станка, всех захватили наполненная материалом и фабрикатом работа, понравилось, что коммунары получают зарплату.
Отряды коммунаров: машинистов, сборщиков, формовщиков, токарей, никелировщиков, шлифовальщиков – в две смены проходили рабочий день, вечером на собраниях осторожно говорили о недостатках и пустых местах, но на другой день убегали в цехи и радостно ныряли в волнах непривычных предметов и терминов: опока, суппорт, оправка, анод, катод, шкив, вагранка…
Еще в самый первый день, как только Соломон Борисович положил на мой стол никелированный кроватный угол, его спросили в совете командиров?
– А на Крым заработаем?
– А сколько вам нужно на Крым?
– Пять тысяч, – с трудом выдохнул кто-то…
– Так это же пустяки, – сказал Соломон Борисович. – Пять тысяч, разве это деньги?
Кто-то отвернул листки моего настолько календаря и сказал Соломону Борисовичу:
– Напишите, вот – первого июля: «Даю пять тысяч на Крым».
– Хе-хе… давайте и напишу…
– Нет, вы и распишитесь…
Коммунары долго собирались в Крым… Это было венцом нашего трудового года, это было непривычно восхитительно – всей коммуной в Крым. Ежедневно к моему столу на переменах и вечером подходили коммунары и перелистывали мой календарь, чтоб не прочитать, а полюбоваться надписью красным карандашом…
С трудом собрал Соломон Борисович пять тысяч… Это было первое наше достижение, достаточно нас восхитившее…
А теперь рабфак бросил наши ряды на неожиданно заблестевшие просторы. Кроватный угол, меднолитейный дым и мастера Соломона Борисовича шли рядом с нами на каком-то фланге, уже явно отставая от нашего движения.
4
Арифметическая поэзия
Осень тридцатого года мы начали бодро. Коммунарские дни звенели смехом, как и раньше, в коммуне все было привинчено, прилажено, все блестело и тоже смеялось. Подтянутые, умытые, причесанные коммунары, как и раньше, умели с мальчишеской грацией складывать из напряженных трудовых дней просторные, светлые и радостные пятидневки и месяцы. Напористые, удачливые и ловкие командиры вели наш коллектив к каким-то несомненным ценностям, а когда командиры сдавали, общее собрание коммунаров двумя ехидными репликами вливало в них новую энергию, энергию высокого качества.
Коммуна жила во дворце, не будем греха таить. Дворец блестел паркетом, зеркалами, высокими, пронизанными солнцем комнатами, а наши лестничные клетки были похожи на «царство будущего» в «Синей птице» Художественного театра. Дворцом этим нам кололи глаза наробразовские диогены[315]315
Диогены – греческий философ Диоген из Синопа (403–323 гг. до н. э.).
[Закрыть]. По утверждению завистливых педагогов, мы были богаты, но наше богатство только и заключалось в одном этом доме. Вокруг него расположился Соломон Борисович со своим производством, и общий вид напоминал старую Москву на картинах Рериха. А вместе с тем мы были бедны, просто бедны, гораздо беднее даже Наробраза.
Здесь нужны цифры. Старая эстетика запрещала в художественном произведении цифры. Вот странно, почему? Цифры – это замечательно художественная вещь. В какой-нибудь такой двузначной или пятизначной штуке заключается больше поэзии, чем в целой дивизии пастушков и пастушек, чем во всем семействе Лариных. Разве это не поэтично, слушайте…
Для того, чтобы жить «по-человечески», нашей коммуне нужно было в месяц тратить шесть тысяч рублей, сотрудники ГПУ отчисляли из своего жалованья на содержание коммуны до лета тридцатого года некоторую сумму. С появлением у нас текущего счета, с появлением зарплаты и прибылей коммунары поблагодарили чекистов за помощь и просили их прекратить дотации. Соломон Борисович хотя и обещал нам богатство, но к осени 1930 года, кое-как выполнив свое обязательство относительно пяти тысяч на крымский поход, он вконец выдохся. Постройка всех его сооружений, запасы материалов и инструментов требовали много денег, а выпуск продукции его цехов был в то время еще невелик. Соломон Борисович производил операции, по гениальности неповторимые, могущие ввергнуть в зависть даже Наполеона I. Именно в эту эпоху произошло нечто, напоминающее Ваграм[316]316
Ваграм – сражение под селом Ваграм на Дунае (6 июля 1809 г.). Наполеон разбил австрийскую армию. Австрия платила многомиллионную контрибуцию.
[Закрыть], с энным институтом. Но гениальные фланговые марши Соломона Борисовича только и позволяли ему держаться на производственном фронте, для коммуны же не приносили облегчения. Огромные авансы, полученные Соломоном Борисовичем в результате его стратегии, все были вложены в дело, все обратилось в основной и оборотный капитал. Двести тысяч рублей, однажды задержавшиеся на текущем счету, вдруг исчезли, как дым, в результате какой-то сложной операции. Уже к нашему горлу прикасались лезвия ножей нетерпеливых заказчиков, доверивших нам свои капиталы, а свободных денег у нас все еще не было.
Совет командиров после многих дум и наморщенных лбов, после многократных упражнений в решении ребусов, в которых участвовали изодранные ботинки, недостаток белья, плохие шинели и даже слабоватый стол, нашел было основание приступить к Соломону Борисовичу с иском:
– Занимает швейная класс – платите, яблоки оборвали ваши рабочие, когда мы были в Крыму, – платите, подвал заняли под никелировочную – платите…
Соломон Борисович презрительно выпячивал губы и говорил:
– Скажите пожайлуста, я им должен платить! Вы же хозяева, зачем я буду платить? Сделайте постановление, чтобы вам отдать всю кассу, и покупайте себе ботинки и шелковые чулки. А если остановится цех, тогда вы все закричите на общем собрании: «Куда смотрит Соломон Борисович?» Потерпите немножко, будете иметь деньги, вот…
Соломон Борисович с трудом поднял руку выше головы, и это понравилось коммунарам. Командир первого отряда Волчок улыбнулся, глядя в окно на золотую осень, и сказал:
– Да мы эту бузу затеяли шутя, какие там мы кассы будем брать. А вот плохо, что даже на нотную бумагу денег нет…
Волчок – командир оркестра и смотрит с музыкальной колокольни. Командир двенадцатого Конисевич более беспристрастен:
– Ничего страшного нет, терпеть нам не надо учиться, а нужно вот прибрать к рукам кое-кого из коммунаров. А то у нас есть такие, как Корниенко, так ему, гаду, ничего не нужно, а только чтобы пожрать.
В совете командиров насчитали несколько человек, страдающих излишней приверженностью к земным благам.
– Не только Корниенко, Корниенко – это уже известно, это разве коммунар, грак всегда был граком…
Граками в коммуне называют людей чрезвычайно сложного состава. Грак – это человек прежде всего деревенский, не умеющий ни сказать, ни повернуться, грубый с товарищами и вообще первобытный. Но в понятие грака входило и начало личной жадности, зависти, чревоугодия, а кроме того, грак еще и внешним образом несимпатичен: немного жирный, немного заспанный…
– Не только Корниенко, а возьмите Гарбузова. Дай ему три порции, сожрет и еще оглядывается, может, и четвертую дадут.
– Э, нет, Гарбузова не равняйте с Корниенко. Ну что же, аппетит такой, за аппетит нельзя обвинять человека, за то он и на производстве другому не уступит…
Гарбузова обвиняли в других грехах. У этого человека шестнадцати лет была привычка брать кого-нибудь за плечи и пытаться повалить на землю. Сам он неловкий, тяжелый, с туповатым лицом, мог рассчитывать только на свою силу, но обычно бывало, что сила его не могла устоять против ловкости коммунаров, и Гарбузов всегда заканчивал тем, что его ноги взлетали вверх и опускались на самые неподходящие места: стены, столы, стулья, шкафы. Поэтому спина Гарбузова всегда испачкана, костюм всегда в беспорядке, а окружающие его предметы всегда изломаны и побиты. На общих собраниях неизменно отмеченный в рапорте Гарбузов выходил на середину и безнадежным жестом старался вправить в штаны рубаху, а штаны кое-как зацепить за неловкую, негнущуюся лошадиную талию.
Гарбузова упрекали, не жалея выражения и гнева:
– Когда, наконец, он сделается коммунаром? Ничего ему не жалко, где ни пройдет, все к черту летит. Его нужно в упаковке водить по коммуне.
– И упаковка не поможет… человек не понимает. Слова никакого не понимает… что же, тебе обязательно бубну нужно выбить, чтобы ты понял? После тебя нужно всё ремонтировать и поправлять, а ведь знаешь, что у нас сейчас и копейки лишней нету. В командировку идешь, и то на трамвай нет десяти копеек.
Гарбузов тяжело поворачивается в сторону оратора и улыбается виновато красивыми карими глазами.
– Да что же вы пристали, – говорит он грубоватым, обиженно-беспризорным голосом. – Вот уже сказал… ремонтировать из-за меня… и без меня ремонтировали бы…
Ораторы махали на него руками… Но его в коммуне любили за хороший, покладистый характер, за прекрасную работу токаря, за замечательный аппетит. В школе он тянулся изо всех сил и подавал надежды. Это, конечно, не Корниенко.
Корниенко в своем роде единственный в коммуне. Бывали и еще ребята, способные изобразить страдающего, но до Корниенко им далеко.
Только он мог с настоящим вкусом на вопрос председателя: «Какие еще есть вопросы у коммунаров?» – солидно откашлявшись и открыто неприязненно повернувшись к начхозу, спросить:
– А когда нам будут давать новые ботинки?
Из каких-то детских домов он принес вот это самое третье лицо: «будут давать», вызывающее насмешку коммунаров.
– Видали беспризорного? Ему будут давать. Сколько человек?
– А шо ж… А как по-вашему: подметок нет и верха нет, а спросишь Степана Акимовича, так у него один ответ: а ты заработал? Конешно ж, заработал…
В зале шум улыбок и нетерпения. Всем нужно положить на обе лопатки этого грака.
– Ты еще что придумай! Тебе ничего не понятно! Может, просить пойдем на улицу? Или с производства возьмем? Потерпишь, не большой барин.
– А производство разве его? Какое ему дело до производства!
– Производство казенное…
– И коммуна казенная.
Сопин в таких случаях нарушает все законы демократии и общих собраний. Он сначала протягивает к Корниенко кулак, а потом и сам выходит, выходит почти на середину… Слов он не может найти от возмущения и презрения…
– Вот… вот… вот же… понимаешь, вот ей-ей я его сейчас отлуплю…
Зал заливается – Сопин вдвое меньше Корниенко. Смущенно улыбается и Сопин.
– Ну, чего смеетесь, а что ж тут делать?.. Вы ж понимаете…
Общий хохот покрывает его последние слова. Корниенко густо краснеет…
Общее собрание расходилось с хохотом и шутками. Сопина окружала толпа любителей. Многие любили смотреть, как он «парится».
Уходил с собрания и я со сложным чувством восторга перед коммунарами и беспомощности перед их нуждой.
Дело, видите ли, в том, что коммунары уходили с собрания почти голодные. Сплошь и рядом у нас было так мало пищи, что даже самые неутомимые шутники и зубоскалы туже затягивали пояса и старались больше налечь на работу.
– За работой не так есть хочется.
Наши обеды и ужины на глаз были недостаточны для трудящегося человека, а если этот человек еще учится, да еще и растет, и на коньках катается, то совсем плохо. Только обилие в наших полях свежего воздуха да запасы крымские кое-как поддерживали нас на поверхности. Но многие коммунары уже начинали бледнеть, худеть и уставать на производстве.
Это было время неприятное для педагога и еще неприятнее для заведующего коммуной. У нас по неделям не бывало ни копейки…
Служащим тоже задерживали жалованье, и бывали дни, когда и одолжить рубль в коммуне было невозможно.
Капиталы Соломона Борисовича выражались не в рублях, а в кубометрах, тоннах и полуфабрикатах.
Однажды с большим трудом я раздобыл пятьдесят рублей, до зарезу нужных, чтобы завтра оплатить какой-то крайний счет. Возвратился я в коммуну из города и нарвался на неприятность. Временная фельдшерица встретила меня кислым сообщением:
– А у нас Коломийцев заболел…
Фельдшерица в панике показывала мне термометр.
– Сорок… понимаете…
Куда-то позвонили, через час приехал доктор, молодой и нерешительный. Он тоже заразился паникой:
– Надо немедленно отправить в больницу… Знаете, сорок это все-таки… Вы мне дайте мальчика какого-нибудь, пусть он со мной проедет в город, мы устроим место в больнице, а там вы как-нибудь его отправите…
– В больницу? А может, подождать, знаете, в больнице уход…
– Нет, нет, я не могу отвечать…
Сергей Фролов поехал с доктором в город на его извозчике, а перед отъездом я заплатил этому извозчику шесть рублей, и Вася Камардинов, возвращаясь со мной к парадному входу, улыбаясь и грустно глядя на меня, сказал:
– Вот еще, болеть начинают… Шесть рублей – это деньги… А отчего вы не поторговались?
За всякой работой у себя в кабинете я уже было успокоился, а тут же в кабинете Ленька Алексюк смотрит в окно на дорогу и подымается вдруг на цыпочки:
– О, кто-то едет на машине!..
Кто же может ездить на машине в коммуну? Гости или начальство… Но Ленька кричит удивленно:
– О, смотри, Сережка приехал… на такси приехал…
Смотрю и я в окошко: действительно, Сергей Фролов дает какие-то распоряжения шоферу. Я сразу догадался – Фролов такси нанял, наверное, доктор дал хороший совет…
Сережка вошел в кабинет румяный и довольный…
– Место есть, я привел такси, доктор говорит, недорого и спокойно… А я думал, что на нашей линейке плохо…
– Ну что ж? Иди к фельдшерице… такси… Если так будем болеть, то и жрать скоро нечего будет…
Сережка серьезно сказал:
– Есть.
И удалился.
Через три минуты в рамке той же двери стоит белобрысая, веснушчатая фельдшерица и улыбается радостно:
– А знаете, больной выздоровел…
– Как выздоровел? А температура?
– Температура сейчас почти нормальная…
– А чтоб вас!
Перепуганная фельдшерица уселась на стул и рот открыла от оскорбления… Я даже воротник рубашки расстегнул от обиды.
– Ну, все равно, везите в больницу.
Фельдшерица в недоумении раскрыла глаза и смотрит на меня, как на удава, оторваться не может.
– Так он же здоров…
Каюсь, я потерял всякое уважение к женщине, закричал на нее, загремел стулом:
– Наплевать! Здоров! Все равно везите, черт вас там разберет, здоров или болен. Сейчас у него нормальная, а через час опять температура… Что у меня, наркомфин? Такси будет для вашего удовольствия писать мне счета?
Фельдшерица больше не сидит на стуле и не торчит в рамке двери, она исчезла.
Вышел я на крыльцо. Стоит такси, и ребята с восторгом наблюдают, как «цокают» пятачки за простой машины.
– Ступай, скажи там, чтоб не копались.
Вышел Коломийцев Алешка, веселый и аккуратный. Веселый потому, что такое приятное событие: на такси поедет… Залезла фельдшерица в такси, а за ней юркнул и Алешка и заулыбался в окно:
Я достал из кармана деньги:
– Сколько?
Заплатил двенадцать рублей. Алешка возвратился из города пешком.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































