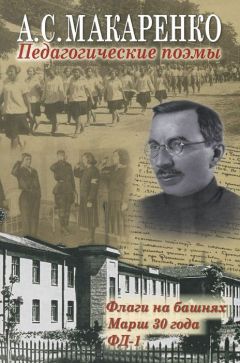
Автор книги: Антон Макаренко
Жанр: Воспитание детей, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 50 (всего у книги 57 страниц)
9
Трагедия
Кроватный угол, выпускаемый Соломоном Борисовичем на рынок, представлял собой очень несложную штуковину: в литейной он отливался почти в совершенном виде – с узорами. На токарных станках ребята только очищали резцами его цилиндрические плечики, и после этого, он поступал в никелировочную. Поэтому мы выпускали этих кроватных углов множество. По сложности работы кроватный угол немногим отличался от трусиков, которые изготовляла швейная мастерская. В столярной мастерской производились более сложные и громоздкие вещи: аудиторные и чертежные столы и стулья, но и здесь особенной техникой не пахло. Отдельные детали выходили из машинного цеха с шипами и пазами, в сборном нужно было их привести в более блестящий вид и собрать в целую вещь.
В самом содержании производственной работы было очень мало интересного для коммунаров. Их увлекла только заработная плата, постоянная война с производственными «злыднями» и, пожалуй, еще общий размах производства – вот это обилие вещей, горы полуфабрикатов и фабрикатов и ежедневные отправки готовой продукции в город.
По вечерам коммунары заходили иногда в кабинет покалякать и посмеяться. Уже никакой злобы и огорчения к этому времени у них не оставалось. Посмеивались всегда над производством Соломона Борисовича и говорили:
– А все-таки удивительно: не производство, а барахло, куча какая-то старья всякого, а смотришь, все везут и везут в город.
В это время давно исчезло то удовлетворение, которое было вызвано постройками Соломона Борисовича. Всем уже начинало надоедать сарайное богатство Соломона Борисовича, приелись вечные споры о печах и зимних рамах, надоело говорить о засоренности производственного двора, о плохих станках и плохом материале. Коммуна стояла оазисом среди производственного беспорядка и грязи, и у коммунаров начинало складываться отношение к производству, как к чему-то постороннему.
В это время к нам очень редко приезжали члены Правления, в самом Правлении происходили перемены. Стихия Соломона Борисовича разливалась вокруг коммуны безудержно, все шире и шире, захватывая территорию, и уже располагалася перед фасадом, заваливала цветники обрезками и бросовым материалом.
Коммунары знали цену своей коммуне, любили чекистов и были благодарны им за свой дом, и за порядок, и за рабфак. На производство же они смотрели несколько иронически, как на необъяснимое недоразумение в общей гармонии коммуны. Сборный цех коммуны «сборным стадионом», отражая в этом названии и его грандиозные размеры и его неприспособленность к цеховому назначению.
Соломон Борисович очень обижался за это название и даже просил меня запретить его приказом по коммуне:
– Обязательно отдать нужно в приказе. Скажите, пожайлуста, «сборный стадион»… А где они работают?
Соломон Борисович гордился стадионом до приезда в коммуну председателя Правления[317]317
В рукописи А. С. Макаренко: «До приезда в коммуну Всеволода Аполлоновича Балицкого».
[Закрыть]. Он приехал в счастливый день, когда немного подмерзла жижица грязи на производственном дворе и до стадиона можно было легко добраться, остановился пораженный в центре стадиона и спросил Соломона Борисовича:
– Это, что же, вы выстроили?
Соломон Борисович выкатился вперед и с гордостью сказал:
– Да, это я конструировал. Деревянное, конечно, строение, но оно будет долго стоять…
Председатель но это ничего не сказал, а обратился к коммунарам с вопросом, никакого отношения не имеющим к стадиону:
– Понравилось вам в Крыму?
– Ого, – сказали коммунары.
– Что ж, на лето еще куда-нибудь поедем?
– На Кавказ, – сказали коммунары…
– На Кавказ – это хорошо. Только нужно выполнить промфинплан…
– Выполним…
– Да, на Кавказ хорошо. Поезжайте на Кавказ. Ну, до свидания.
Председатель уехал, а Соломон Борисович пришел ко мне и спросил:
– Как вы думаете, какое впечатление произвел на него сборный цех? Он так посмотрел…
Васька Камардинов не дал мне ответить:
– Какое же впечатление? Вы думаете, он не понимает. Отвратительное впечатление.
– Вы еще молодой человек, – сказал Соломон Борисович, покрасневший от гнева, – а обо всем беретесь рассуждать.
Но через два дня к нам дошли сухи, что действительно стадион произвел впечатление отвратительное. Соломон Борисович загрустил:
– Так кто виноват? Виноват Левенсон? А где деньги? Правление, может, думает, что нужно построить каменные цехи, так почему оно не строит? А все Соломон Борисович должен строить: и литейный цех, и сборный, и квартиры.
В это время заканчивается триместр, и у коммунара головы были забиты зачетами. Кроме того, в коммуне происходили события печальные и непонятные. В середине ноября командир третьего отряда поразил всех рапортом:
– У Орлова пропало пальто с вешалки.
Коммунары во время разбора рапорта сказали:
– Поискать надо лучше. Кто-нибудь захватил нечаянно или не на свою вешалку Орлов повесил…
– Ты поищи лучше, – сказал я Орлову.
– Да где я буду искать? Я уже всю вешалку перерыл и у всех смотрел – моего пальто нигде нет…
– Поищи все-таки.
Через день пропало пальто в седьмом отряде. Делали общий сбор и приказали всем коммунарам надеть пальто и выстроиться во дворе. На вешалке не осталось ни одного пальто, а Орлов и Кравченко все же своих пальто не нашли.
Опросили весь сторожевой отряд, но он ничем помочь не мог. На вешалке висит сто пятьдесят пальто, разве разберешь, какое пальто берет коммунар с вешалки – свое или чужое.
На общем собрании Фомичев предложил:
– Надо пока что пальто держать в спальне. Ясное дело, между нами завелся гад. Он и теперь сидит здесь и притаился, а завтра еще что-нибудь утащит.
Харланова возмутилась:
– Вот тебе и раз. У нас завелся вор, так мы будем от него прятаться, все будем в спальни тащить. Это безобразие, и нужно сейчас же поднять с этим борьбу.
– Да как ты поднимешь борьбу, если мы не знаем, на кого и думать. Кто может у нас взять?
– Раз взяли, значит, всякий может…
– Как это всякий?.. Я вот не возьму, например…
– А кто тебя знает? На тебя нельзя думать, а на какого коммунара можно думать? Покажи, на кого?
– Так что же делать?
– Надо найти вора.
– Найди…
– Надо собаку привести в коммуну, – предложил кто-то. – Вот как она на этого гада бросится, тогда уж мы будем знать, что делать.
В собрании закричали:
– Вот еще, собак тут не хватало. Сами найдем.
– Найдите.
Редько взял слово:
– Найдем. Все равно найдем. И если я найду, он у меня все равно не вырвется. Так пуская и знает. А вешалку, действительно, нечего переносить в спальню. Да больше он и не возьмет. Я его все равно поймаю…
Коммунары улыбнулись.
Через неделю в кабинет вошел Миша Нарский. Совет командиров три месяца назад командировал его на шоферские курсы, которые он регулярно посещает и о которых каждый вечер отзывается с восторгом. Живет он в коммуне в одном из отрядов и болеет коммунарскими делами по-прежнему.
Миша Нарский ввел в кабинет Оршановича и Столяренко и сказал:
– Вот они, голубчики, видите?
Миша Нарский, несмотря на многие годы, проведенные в колонии Горького и в коммуне Дзержинского, остался прежним: чудаковатым, по-детски искренним, неладно одетым. Он по-прежнему причесывается только по выходным дням и лучшим украшением для человеческого лица считает машинное масло. Он сейчас горд и от гордости на ногах не держится.
– В чем дело?
– Да вот вы их спросите…
– Ну, рассказывайте…
Оршанович грубовато отворачивается:
– А что я буду рассказывать? Я ничего не знаю.
Столяренко молчит.
– Видите, он не знает… А как пальто продавать, так он знает.
Полдесятка коммунаров, находившихся в кабинете, соскочили со стульев и окружили нас…
– Пальто? Что? Оршанович? Здорово…
Оршанович с недовольным видом усаживается на стул, но Миша сильной рукой металлиста берет его за воротник:
– Что? Ты еще будешь тут рассиживаться? Постоишь…
– Чего ты пристал? Чего ты пристал? Пальто какое-то…
– Ишь ты, какое-то… Смотрите… Субчик…
В кабинете уже не полдесятка коммунаров, а целая толпа, и кто…
…
[10
И трагедии и комедии (…)]
…
11
Праздник
…
Пацаны бегают по всей лестнице – ужасно оживленные и храбрые, но только до дверей «громкого» клуба, а здесь хвосты поджали и тихонько, бочком пробираются в клуб мимо председателя Правления и еще тише салют:
– Раст…
А потом все собрались и смотрят на гостя, глаз не сводят и молчат.
Правда, нужно сказать, что главные пацаньи силы в это время намазывались всеми возможными красками и наряжались в каморке за нашей сценой – готовились к постановке. Перский, на что уж человек изобретательный, а и тот «запарился»:
– Да сколько вас играет?
– Ого, еще Колька придет, Шурка, две девчонки, Петька и Соколов, да еще ни один кустарь не гримировался, а кустарей трудно будет, правда ж?
Коммуна украшена: везде протянулись плакаты, столовая, сцена и бюст Дзержинского в живых цветах. Много потрудились художественная комиссия. Много поработали и остальные. Все-таки наиболее поражает всех Миша Долинный, который со всей комиссией – человек двадцать, кажется, и праздника не видели – протолкались на дворе до часу ночи. Зато ни один гость не заблудился. На повороте к нашим тропинкам на белгородском шоссе стоял Мишин пикет и спрашивал публику:
– Вам в коммуну Дзержинского? Так сюда.
И указывал на линию огней, протянувшихся через лес и через поле до самой коммуны. Огни были сделаны самым разнообразным образом: здесь были и электрические фонари, и факелы, и разложенные на поворотах и трудных местах костры. Вся Мишина территория курилась дымом и пахла разными запахами наподобие украинского пекла.
Коммуна была тоже в огнях, а над главным входом в огненной рамке портрет Дзержинского.
В семь часов всех гостей пригласили в клуб, коммунары расположились под стенками. Когда все собрались, команда:
– Под знамя встать! Товарищи коммунары – салют!
Левшаков загремел салют. Может быть, читатели еще не знают, что такое знаменный салют коммунаров. Это наш сигнал на работу, обыкновенный будничный сигнал, который играется в коммуне два раза в день. Он оркестрован Левшаковым еще в 1926 году в колонии Горького и сейчас и у нас и у них является не только призывом к труду, но и салютным маршем, который мы играем, когда выносим наше знамя, когда проходим мимо ЦК партии, ВУЦИКа, когда встречаем очень дорогого гостя и когда встречаемся в городе с колонией Горького…
Дежурный по коммуне идет впереди, подняв руку над головой, за ним знаменная бригада шестого отряда – три девочки. Шестой отряд уже второй месяц владеет знаменем. Гости стоя встречают наше знамя…
Началась торжественная часть. Нас приветствовали с тремя годами работы, нам желали дальнейших успехов…
После торжественной части концерт оркестра. Левшаков сыграл гостям:
1. Марш Дзержинского – музыка Левшакова.
2. Торжество революции – увертюра.
3. Увертюра из «Кармен».
4. Кавказские этюды Ипполитова-Иванова.
5. Военный марш Шуберта.
Закончил он шуткой. Вышел к гостям и сказал:
– Быть хорошим капельмейстером очень трудное дело. Нужно иметь замечательное ухо, нельзя пропустить ни одной ошибки. Чуть кто сфальшивит, я сейчас же услышу, и поэтому я могу управлять оркестром, стоя к нему спиной. Вот послушайте.
Он обратился к музыкантам:
– Краснознаменный.
У музыкантов заволынили:
– Довольно уж.
– Уморились…
– Праздник так праздник, а то играй и играй…
– В самом деле…
У публики недоумение. Мало кто понял сразу, что здесь какой-то подвох. В зале отдельные замечания:
– Ого, дисциплинка!..
Левшаков стучит палочкой по пюпитру и говорит:
– Хочется в совете командиров разговаривать? Краснознаменный… Наконец волынка в оркестре понемногу утихает и музыканты подносят мундштуки к губам. Раздается один из громких и веселых советских маршей. Левшаков дирижирует стоя спиной к оркестру. Но уже на третьем такте часть корнетов поднимается с мест, машет руками и уходит за кулисы. Марш продолжается, но за корнетами удаляются альты, тенора, валторны и так далее. Остаются: Волчок с первым корнетом, Грушев с басом, Петька Романов с пиколкой и барабаны… Левшаков продолжает дирижировать, стоя лицом к публике, и даже строит какие-то нежные рожи, показывающие, что он переживает музыку. Но вот убежал и Волчок, последний раз ухнул Грушев, наконец, и Петька пробирается в зал, пролезая под рукой Левшакова. Остался один Могилин на большом барабане. Только теперь рукой Левшакова. Остался один Могилин на большом барабане. Только теперь Левшаков «понимает», как его подвели музыканты, и сам убегает. «Булька» последний раз гремит барабаном и хохочет. Хохочет и публика, все довольны, что это простая шутка и что с дисциплиной у дзержинцев не так уж плохо.
Настало время и пацанам показать, к чему они так долго и так таинственно готовились. Оркестр, их союзник, усаживается в соседнем классе, из класса дверь в зал открыта, и Левшаков уже с кем-то перемигивался у сцены.
Открывается занавес. В зале кто-то из коммунаров громко говорит:
– Ой, и вредные пацаны, дали им волю…
На сцене Филька в коммунарском парадном костюме. Он говорит:
– Сперва пойдет пролог.
…
Все гонят, все клянут меня,
Мучителей толпа,
Правителей несправедливых
И мальчиков неукротимых…
Безумным вы меня прославили всем хором
И от начальства до юнца
Покрыли детище мое позором.
Вы правы, тут не разберешь конца:
И строить вредно, и не строить плохо,
Построил вот, а теперь охай.
Я в Кисловодск теперь ездок,
Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,
Где оскорбленному есть чувству уголок…
Каре… Эй, Топчий, запрягай, пожайлуста, до автобуса…
Левенсон удаляется, а на сцену выходят три пацана с фанфарами, играют какой-то сигнал и объявляют, что феерия «Постройка стадиона» окончена.
Их место занимают три коммунарки в белых передниках и просят гостей ужинать, за их спиной Волчок играет наш призыв «все в столовую».
Гости расходятся только часам к двенадцати. Дежурные отряда коммунаров приступают к уборке всего здания, в кабинете делятся впечатлениями.
Соломон Борисович взбешен пацаньей проделкой:
– Разве я могу теперь работать в коммуне? Какой у меня будет авторитет?
– При чем тут ваш авторитет, Соломон Борисович? – спрашивает Клюшнев.
– Как при чем? Как при чем? Что это за заведующий производством, когда он освещается каким-то синими фонарями, а руки складывает, как Демон? Бегает по сцене и кричит, как сумасшедший? После этого будет авторитет?
– Вот вы, значит, не поняли, в чем тут дело. Эту пьеску пацаны здорово сделали. Теперь Правление задумается…
Действительно, феерия пацанов била не столько по Соломону Борисовичу, сколько по Правлению. Как ни комичен был Соломон Борисович, перемешанный с Борисом Годуновым, Демоном и Ленским, но его комизм был показан как необходимое следствие нашей производственной заброшенности. Жалкие цехи, размещенные по подвалам и квартирам, жалкие диктовые постройки, засилие кустарей и кустарщины были представлены пацанами в неприкрашенном виде. И председатель Правления, уезжая от нас в этот вечер, сказал:
– Молодцы коммунары, это они здорово сегодня критикнули…
12
Пожары и слабости
Не успели ребята отдохнуть после праздника, убрать цветы, снять иллюминационные лампочки и спрятать плакаты, как приехал в коммуну Крейцер и сказал в кабинете:
– Ну, товарищи, кажется, с весны начнем строиться…
Дорошенко сонно ответил:
– Давно пора.
Сопин не поверил:
– А долго так будет казаться? Строиться, строиться, а потом скажут денег нет. За какие деньги строиться?
– Да что вы, объелись чего? – сказал Крейцер. – У нас сейчас на текущем счету тысяч триста есть?
– Ну, есть, так это ж мало, смотря что строить…
– А вот об этом подумаем. А что, по-вашему, нужно строить…
– Мало ли чего, – сказал Фомичев. – Вот это все расчистить нужно, а на чистом месте построить завод. Новый завод…
Соломон Борисович из-за спины Крейцера моргал всем коммунарам. Это значило: построятся, как же… Но вслух он сказал:
– Надо строить маленький заводик, чтобы производить токарные станочки. Хорошая вещь, а спрос? Ух!..
– Токарные не выйдут, – сказал Фомичев. – Какой это завод на сто пятьдесят коммунаров? Нужно что-нибудь помельче…
– Надо прибавить коммунаров, – протянул Крейцер, усаживаясь за столом ССК.
– Ой, сколько же прибавить? – спросил Дорошенко.
– А сколько ж? Удвоить нужно.
Сопин задрал голову и показал на Крейцера пальцем:
– О, сказали, и все за триста тысяч: завод построить, новые спальни и классы ж нужно, а столовая наша тоже, выходит, тесная будет, а клуб?
– Так вы же работаете?
– На этом бузовом производстве много не заработаем, а тут, видно, миллионом пахнет…
Но вечером Сопин рассказывал пацанам уже в другом освещении:
– И что? И можно, конечно, построить, тут тебе такое будет – завод, во! И не то, что сто пятьдесят коммунаров, а триста, во! Это дело я понимаю.
– Вот обрадовался: триста… – кивает на Сопина Болотов, – как придут новенькие, от коммуны ничего не останется…
– Чего не останется? Ты думаешь, если беспризорные, так и не останется? Это ты такой…
– Я такой… скажи, пожайлуста. А вот ваш актив – Григорьев – вот хороший оказался.
– И то лучше тебя, – сказал Сопин.
– А я теперь что? Я теперь ничего, никто не обижается, – надувшись окончательно, сказал Болотов, и Сопину стало жалко его; он потрепал Болотова по плечу:
– Как придут сто пятьдесят новых, мы тебя обязательно ССК выберем.
Болотов улыбнулся неохотно:
– Выберем, как же!
Весть о том, что на лето предполагается постройка, в коммуне никого не взволновала – мало верили словам коммунары. Но все же появилась серьезная задача – надо побольше собрать денег.
Соломон Борисович предъявил одному из общих собраний промфинплан первого квартала. Коммунары о нем недолго думали:
– Это выполнить можно, если в цехах хоть немного наладится. А если выполним, то сколько у нас денег будет?
Соломон Борисович считал такие вопросы неприличными:
– Вы сделайте, а деньги будут.
– Не забудьте ж, и на Кавказ поехать нужно.
– И на Кавказ поедете.
– А все-таки, сколько будет денег, если выполним план?
Соломон Борисович развел руками:
– Ну, что им говорить?
– Тысяч сто прибавим на текущий счет, – сказал я коммунарам.
Промфинплан обсудили на цеховых собраниях. Встречный выдвигали без большого разгона – цифры Соломона Борисовича были без того жесткими; встречный план коммунаров на первый квартал был такой:

Металлисты наши очень обрадовались, что выбросили из плана эти отвратительные кроватные углы. Их не любили коммунары:
– Это что за такая продукция? Кроватный угол… Это самая легкая индустрия, какая только есть. Подумаешь, кому нужен кроватный угол? Покрась себе кровать хорошей краской и спи. А то: никелированный кроватный угол. Всякая, понимаете, охота пропадает…
– Масленка – это, действительно, груба! Это для машины для всякой нужная вещь. Это уже не такая легкая индустрия: масленка Штауфера. Видите – не сразу даже придумали, Штауфер такой нашелся…
– Серьезно, – говорили уважающие себя токари, – в масленке и резьбу нужно сделать, и все так пригнать, чтобы крышка правильно навинчивалась, и дырочку просверлить.
Колька Вершнев торжествовал – закрывали-таки никелировочный цех. Колька считал, что ничего вреднее для пацанов быть не может.
С первых дней января работа сразу пошла веселее в цехах, да и весной запахло – коммунары умеют на большом расстоянии чувствовать весну и ее запахи.
Соломон Борисович часто заходил ко мне и радовался:
– Молодцы коммунары, хорошо взялись! А я им план закатил, ой, будут меня ругать. Ну, ничего, все будет хорошо.
Соломон Борисович оживился в январе, забыл громы Декина и сарказмы пацанов в «Постройке стадиона». Его поднимало сознание, что коммуна нуждается в больших деньгах, что эти деньги коммунары заработают только под его руководством. Соломон Борисович прибавил стремительности в своих достижениях и до позднего вечера летал по производственной арене. Одно его смущало со времени приезда Декина – боялся Соломон Борисович пожара. Пожар ему мерещился ежеминутно, он не мог спокойно лечь спать и приходил ко мне иногда часов в двенадцать ночи, извинялся, что мешает, о чем-нибудь заговаривал, как будто спешном, а потом сидит и молчит.
– Чего ты не спишь? – спрашиваю его: мы с ним перешли на «ты» после праздника.
– По правде сказать, так боюсь ложиться – пожара боюсь.
– Вот глупости, – говорю ему, – откуда пожар возьмется, все уже спят.
– Там же, в стадионе, печки еще топятся, – с трудом выговаривает Соломон Борисович, – я вот подожду, пока закроют трубы, и пойду спать.
Он уже и сейчас почти спит, голова его все падает на лацканы пиджака, он тяжело отдувается и протирает глаза:
– Уф… Уф…
– Да иди спать, вот придумал человек занятие – пожара ожидать.
В дверях стоит с винтовкой дневальный, которому веселее с нами, чем в одиночестве скучать у денежного ящика. Дневальный улыбается:
– Пожар никогда не бывает по заказу. Вы ждете пожара, а он загорится в другое время, когда спать будете…
– Почему ты думаешь, что он обязательно загорится? – спрашивает Соломон Борисович.
– А как же? Это и не я один думаю, а все пацаны так говорят…
– Что говорят?
– Что стадион непременно сгорит, ему так уже от природы назначено…
Дневальный решил, что довольно для него развлечений, и побрел к своему посту. Соломон Борисович кивает головой в его сторону:
– Пацаны говорят! Они все знают!.. Загорится стадион, пропало все дело: будет гореть, а мы будем смотреть, это правильно сказал Декин. Все ж дерево, сухое дерево, сколько там дуба, сколько там лесу, ай-ай-ай, пока пожарная приедет…
В первом часу я отправляюсь домой. Бредет рядом со мной и Соломон Борисович и просит:
– Зайди в стадион, скажи этим истопникам, чтобы были осторожнее, они тебя больше боятся… зайди, скажи…
Однажды рано утром, только что взошло солнце, наш одноглазый сторож Юхин поднял крик:
– Пожар!
Прибежали кто поближе, никакого пожара нет, солнце размалево окна стадиона в такой пожарный стиль. Посмеялись над Юхиным, но в квартире Соломона Борисовича обошлось не так просто: услышал Соломон Борисович о пожаре – и в обморок, даже Колька бегал приводить его в чувство. Дня три ходил после этого Соломон Борисович с палочкой и говорил всем:
– Если загорится, я погиб – сердце мое не выдержит, так и доктор сказал: в случае пожара у вас будут чреватые последствия.
И вот настал момент: только что проиграли спать, кто-то влетел в вестибюль и заорал как резаный:
– В стадионе пожар! Пожар в стадионе!..
Захлопали двери, пронеслись по коммуне сквозняки, залился трубач тревожным сигналом, сначала оглушительно громко здесь, в коридоре, потом далеко в спальнях. Как лавина слетели коммунары по лестницам, дробь каблуков, крик и какие-то приказы вырвались в распахнувшуюся настежь парадную дверь – снова тихо в коммуне. Соломон Борисович тяжело опустил голову на бочок дивана и застонал.
Я поспешил в стадион. Подбегаю к его темной массе, а навстречу мне галдящая веселая толпа коммунаров.
– Потушили! – размахивает пустым огнетушителем Землянский.
Он хохочет раскатисто и аппетитно:
– Как налетели, только шипит, как не было!
– Что горело?
– Стружки возле печки. Это раззява Степанов в кочегарку пошел «воды попить», у них в стадионе и воды нет…
Говорливой торжествующей толпой ввалились мы в кабинет. Соломон Борисович изнемог на диване. Он с большим напряжением усаживается и стонущим голосом спрашивает:
– Потушили? Какие это замечательные люди – коммунары… Стружки, говорите? Большой огонь?
– Да нет, только начиналось, ну, так, половина кабинета костерчик, говорит Землянский. – А куда теперь эти банки девать? – показывает он на разряженные огнетушители, выстроившиеся в шеренгу в кабинете.
Соломон Борисович поднимается с дивана.
– Сколько вы разрядили?
Он начинает пальцем считать.
– Да кто их знает, штук двенадцать…
– Двенадцать штук? Двенадцать штук? Нет, в самом деле? – вертится сердитый Соломон Борисович во все стороны. Он протягивает ко мне обе руки:
– Это же безобразие, разве это куда-нибудь годится! Это же… Двенадцать на такой маленький пожар. Ты им скажи, разве можно так делать? Где я могу набрать столько огнетушителей, это разве дешевая вещь?
Коммунары притихли и виновато поглядывают на шеренгу огнетушителей.
– Нет, в самом деле… – даже раскраснелся Соломон Борисович.
Я серьезно говорю коммунарам:
– Слышите? Больше одного огнетушителя в случае пожара не тратить.
Коммунары хохочут:
– Есть! Соломон Борисович, пропал ваш стадион… Сегодня разве потушили бы одним?..
– Как ты сказал! Как ты сказал! – пораженный, обращается ко мне Соломон Борисович.
– Я исполнил твою просьбу…
– Разве я говорил – один? Я же не сказал один. Надо с расчетом делать…
После этого Соломон Борисович стал бояться всякого крика, всякого бега по коммуне. Только с приходом весны он несколько успокоился и стал смотреть веселее на мир.
Принимал Соломон Борисович разные противопожарные меры. Ему сказали:
– Полагается в цехе держать бочки с водой и швабры при них.
Соломон Борисович выпросил у заведующего хозяйством несколько старых бочек и действительно налил их водой. Это ничего не стоило. Но швабры оказались дорогой вещью, и Соломон Борисович втихомолку заменил их палками, на концы которых были привязаны пучки рогожи. Когда приехал пожарный инспектор, Соломон Борисович с гордостью повел его к кадушкам, но здесь он был незаслуженно посрамлен.
– И швабры есть, как же, – говорит он пожарному инспектору.
Он с гордым видом вынимает палку из бочки и видит, что на конце ее нет ничего, торчат одни хвостики рогожные.
Когда уехал пожарный инспектор, Соломон Борисович произвел расследование, и оказалось: бабы-мазальницы, которым поручил Соломон Борисович что-то выбелить в системе своих цехов, отрезали рогожные пучки от пожарных приспособлений и обратили их в щетки.
– Разве это люди? – сказал Соломон Борисович. – Это звери, это некультурные звери.
Много страдал Соломон Борисович от пожарной безопасности, и, наверное, его сердце не выдержало бы всех волнений, если бы не коммунары. Коммунары не позволяли Соломону Борисовичу сосредоточиваться…
…
…
– Вы посмотрите, что утром делается! Не успели окончить завтрак, а некоторые даже и не завтракают, а бегом в литейную. Каждый захватывает себе масленки и ударники, а кто придет позже, тому уже ничего не остается, жди утренней отливки, пока она остынет.
– Соломону Борисовичу жалко истратить тысячу рублей на новые опоки, а сколько он тратит на доставку глины из Киева? Сколько стоит вагон глины? А формовочный песок возле самой коммуны, сколько хочешь, и сушить формовку не надо, не то, что эта глина.
Соломон Борисович обещал, оправдывался, снова обещал, придумывал разные причины, говорил, что нет железа, что опоки будут тяжелые, что коммунары их не поднимут.
– Поднимем, вы сделайте…
На одном собрании он, наконец, взмолился?
– Что вы мне покоя не даете с этой глиной? Что, я сам не понимаю, что ли? Опоки будут скоро сделаны.
– Когда? Срок? – шумят в зале.
Через две недели…
Редько с места:
– Значит, будут сделаны к первому февраля?
– Я говорю, через две недели, значит – к двадцать пятому января.
– Значит, к первому февраля будут обязательно?
– Да, к двадцать пятому января обязательно, – гордо и неприязненно говорит Соломон Борисович.
Он становится в позу, протягивает руку вперед и торжественно произносит:
– К двадцать пятому января – ручаюсь моим словом.
В зале припадок смеха. Хохочет даже председатель.
Соломон Борисович краснеет, надувается, плюется, размахивает руками. Он уже на середине зала:
– Вы меня оскорбляете. Вы имеет право оскорблять меня, старика? Вы? Мальчишки?
Хохот стихает, но вежливый румяный и веселый Клюшнев говорит негромко:
– Никто вас не хочет оскорблять. Но я перед всем собранием утверждаю: вы говорите, что новые опоки будут готовы к двадцать пятому января, а я утверждаю, что они не будут готовы и к двадцать пятому февраля.
В собрании тишина внимания: что ответит Соломон Борисович? Но он молча поворачивается и уходит. Все смущены. Кто-то говорит Клюшневу:
– Ты все-таки чересчур. Разве так можно с человеком? Он ручается словом.
Клюшнев спокойно:
– И я ручаюсь словом. Если я окажусь неправ, выгоните меня из коммуны.
В первых числах февраля на мой стол оперся локтями Синенький, поставил щеки на собственные кулачки, долго молча наблюдает, чем я занимаюсь, и, наконец, осторожно пищит:
– Сегодня ж шестое февраля?
– Да, шестое.
– А новых опок еще не сделали…
Я улыбаюсь и смотрю на него.
– Не сделали.
– Значит, Клюшнев Вася правильно говорил…
– Выходит, так.
Синенький срывается с места и вылетает. Только в дверях он оборачивается и делает мне глазки:
– А Соломон Борисович, значит, не сдержал слова…
Но Синенький произвел эту рекогносцировку неофициально. Ни в общем собрании, ни в совете командиров не вспоминают о состязании Соломона Борисовича и Клюшнева. Соломон Борисович недолго обижается. Он оживлен и энергичен и первого марта с торжеством говорит общему собранию:
– Ваше желание, коммунары, выполнено: сегодня готовы новые опоки, и мы переходим на формовку в песке…
Коммунары шумно аплодируют Соломону Борисовичу Я ищу в зале Клюшнева. Он прячется от меня и за чьей-то головой и хохочет, хохочет. Перед ним стоит Синенький и быстро бьет ладонью о ладонь, широко отставив пальцы. Смотрю – и многие коммунары заливаются, но так, чтобы не видел Соломон Борисович.
А Соломон Борисович высоко поднял руку и говорил звонко:
– Видите, что нужно и что можно сделать для производства, я всегда сделаю.
В зале взрыв аплодисментов и уже откровенный взрыв смеха. Смеется и Соломон Борисович.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































