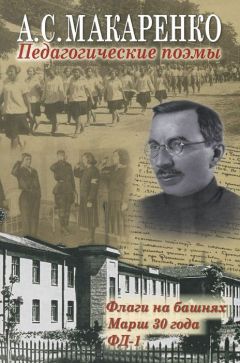
Автор книги: Антон Макаренко
Жанр: Воспитание детей, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 57 страниц)
Отказать
Март подходил к концу, но снегу было много, и каток работал по вечерам, как и в январе. А по выходным дням колонисты становились на лыжи, бродили далеко в лесу. Полюбил лыжи и Рыжиков. Его дела здорово поправились в колонии, только со стороны четвертой бригады он встречал упорное недоверие. После истории с «Дюбеком» Рыжиков стал присматриваться к пацанам и везде встречал их настороженные взгляды. Ваня Гальченко и Бегунок, безусловно, были главарями этой группы. Сначала Рыжиков думал, что все это дело затевается Чернявиным, но Чернявин делал такой вид, как будто он Рыжиковым совершенно не интересуется. За зиму только два раза Рыжиков имел с ним маленькие столкновения, но в них ничего нового не было: Игорь, по своей привычке, показал себя защитником обиженных.
Еще в начале зимы Игорь катался[243]243
В оригинале «бегал».
[Закрыть] на лыжах с Ваней. В лесу их догнал Рыжков и поехал рядом с Игорем. Ваня убежал вперед. Игорь сказал с каким-то намеком:
– Тебе опять благодарность в приказе?
Рыжиков ответил:
– Нужна мне благодарность, подумаешь!
Рыжиков не хотел разговаривать с Игорем. Что такое Игорь Чернявин, в самом деле? Рыжиков побежал вперед, обгоняя Ваню, он ловко зацепил его лыжей и опрокинул в снег. Ваня забарахтался в сугробе, Рыжиков стоит над ним и смеется. Ваня как будто даже не обиделся, сказал тихо:
– Ты меня не цепляй, тут дорог много.
Но Игорь налетел разгневанный, ни слова не сказал, а вцепился в горло, Рыжиков вверх ногами полетел в снег и в полете слышал:
– Я тебя, кажется, предупредил? В следующий раз я на тебе живого места не оставлю!
Рыжиков был так ошеломлен, что даже не поднялся из снежного праха, а боком лежал и злыми глазами смотрел на Игоря. Игорь поклонился.
– Извините, сэр, я, кажется, вас побеспокоил?
Он побежал дальше, Ваня устремился за ним, потом приостановился.
– Ты, Рыжиков, будь покоен. Я за это не сержусь. Пожалуйста! Есть другие дела.
– Какие там дела? – спросил Рыжиков с угрозой.
Игорь ожидал, оглянувшись, и Ваня никого не боялся:
– Такие дела!
– Какие… такие?
– А потом увидишь!
Рыжиков повернулся и укатил в глубь леса. Никаких дел… таких… и никакого права у них нет. Рыжиков в последнее время царем сделался в литейном цехе, Баньковский, отлучаясь куда-нибудь, доверял ему барабан. Нестеренко ушел в механический цех, а формовочную машинку передали Рыжикову. Воленко часто похлопывал Рыжикова по плечу и хвалил:
– Хорошо, Рыжиков, хорошо! Мастер из тебя выйдет замечательный, человеком будешь! А вот только в школе…
– Да поздно уже мне, Воленко, учиться.
И Воленко, и вся первая бригада уверяли Рыжикова, что учиться не поздно. И Рыжков тоже начал было сидеть над уроками по вечерам, симпатии первой бригады он не хотел терять. В первой бригаде были собраны заслуженные колонисты: Радченко Спиридон – могучий, большой, разумный помощник мастера машинного цеха, Садовничий – худощавый, высокий, начитанный и образованный, Бломберг Моисей – лучший ученик десятого класса, Колесников Иван – правая комсомольская рука Марка Грингауза, редактор стенгазеты и художник – все это были виднейшие комсомольцы в колонии. Были в первой бригаде и подростки, только что вышедшие из бурного пацаньего века, начинающие уже солидную колонистскую карьеру, с серьезными выражениями лиц, с прекрасными прическами: Касаткин, Хроменко, Гроссман, Иванов 5-й, Петров 1-й. Даже Самуил Ножик начинал выходить в ряды актива и уже очень важную роль играл в литературном и в модельном кружках. В колонии не было обычая давать прозвища товарищам, но Ножика все-таки чаще называли по прозвищу, а не по имени. Давно уже, года два назад, Ножик пришел в колонию и с первого дня всех поразил добродушно-веселой формой протеста. Он ничего и никого не боялся и после того, как отказался дежурить по бригаде, ответил на письменную просьбу Захарова широкой, размашистой, косой резолюцией: «Отказать». Захаров хохотал на весь кабинет, читая эту резолюцию, потом позвал Ножика и еще хохотал, сжимая руками его плечи:
– Какая ты все-таки прелесть, товарищ Ножик!
Ножик был действительно прелесть: хорошенький, всегда улыбающийся, свободный.
– Ну хорошо, – сказал Захаров, отсмеявшись. – Ты, конечно, прелесть, а только два наряда получи за такую резолюцию.
И Ножик ласково-хитро улыбнулся[244]244
Текст был отредактирован «нахмурился».
[Закрыть] и сказал «есть».
И после того много еще у Ножика бывало[245]245
В оригинале «за Ножиком числилось».
[Закрыть] всяких остроумных проказ, они сильно портили настроение у бригадиров первой, но не вызывали неприязни к Ножику. А потом и Ножик привык к колонии, сдружился с ребятами и остроумие свое обычно рассыпал в каком-нибудь общем деле. Все-таки прозвище «Отказать» осталось за ним надолго.
В первые дни своего пребывания в колонии Рыжиков пытался подружиться с Ножиком, но встретил какое-то увертливо-ласковое сопротивление.
– Ты что, за колонию все стоишь, да? – спрашивал Рыжиков.
Ножик заложил руку между колен, поеживался плечами:
– Я ни за кого не стою, я за себя стою.
– Так чего же ты?
– Что «я»?
– Чего ты стараешься?
– А мне понравилось…
– И Захаров понравился?
– О! Захаров очень понравился!
– За что же он тебе так понравился?
– А за то… за одно дело.
– За какое дело?
Хитрые большие глаза Ножика обратились в щелочки, когда он рассказывал, чуть-чуть поматывая круглой головой:
– Одно такое было дело, прямо чудо, а не дело. Он мне тогда и понравился. У нас свет потух, во всей колонии потух, во всем городе даже, там что-то такое на станции случилось. А мы пришли в кабинет и сидим – много пацанов, на всех диванах и на полу сидели. И все рассказывали про войну. Захаров рассказывал, и еще был тот… Маленький, тоже рассказывал. А потом Алексей Степанович и говорит:
– До чего это надоело! Работать нужно, а тут света нет! Что это за такое безобразие!
А потом посидел, посидел и говорит:
– Мне нужен свет, черт побери!
А мы смеемся. А он взял и сказал, громко так:
– Сейчас будет свет! Ну! Раз, два, три!
И как только сказал «три», так сразу свет! Кругом засветилось! Ой, мы тогда и смеялись, и хлопали, и Захаров смеялся, и говорит:
– Это нужно уметь, а вы, пацаны, не умеете!
Ножик это рассказал с хитрым выражением, а потом прибавил, открыв глаза во всю ширь:
– Видишь?
– Что ж тут видеть? – спросил пренебрежительно Рыжиков. – Что ж, по-твоему, он может светом командовать?
– Нет, – протянул весело Ножик. – Зачем командовать? Это просто так сошлось. А только… другой бы так не сделал.
– И другой бы так сделал.
– Нет, не сделал. Другой бы побоялся. Он так подумал бы: я скажу раз, два, три, а света не будет. Что тогда? И пацаны будут смеяться. А, видишь, он сказал. И еще… как тебе сказать: он везучий! Ему повезло, и свет сразу. А я люблю, если человеку везет.
Рыжиков с удивлением прислушивался к этому хитрому лепетанию и не мог разобрать, шутит Ножик или серьезно говорит. И Рыжиков остался недоволен этой беседой:
– Подумаешь, везет! А тебе какое дело?
– А мне такое дело: ему везет, и мне с ним тоже везет. Хорошо! Это я люблю.
Последние слова Ножик произнес даже с некоторым причмоком.
Теперь и Ножик сделался видной фигурой в колонии, и Ножик вместе с другими членами первой бригады относился к Рыжикову хорошо. Только один Левитин избегал разговаривать с Рыжиковым и смотрел на него недружелюбно. Ну и пускай себе, что такое из себя представляет Левитин? Левитин такая же шпана[246]246
В оригинале «такой же пустях».
[Закрыть], как и Ваня Гальченко. А Чернявин… Чернявин, еще посмотрим.
Зимой же, только позднее, Рыжикову еще раз пришлось поговорить с Чернявиным. Это произошло на дороге в город, куда Рыжиков отправился погулять. В конце просеки он догнал Игоря с Ваней Гальченко, и в тот же момент всем троим пришлось посторониться: из города шла полуторка. Рядом с шофером в кабинке сидела Ванда. Она высунулась из окна, весело кивнула головой. Ваня крикнул:
– Ванда, откуда это ты?
– Мы за досками ездили, – ответила Ванда.
Из-за ее плеча выглядывало смуглое остроносое лицо шофера Воробьева. Они проехали в колонию. Рыжиков проводил их взглядом:
– Напрасно это дозволяют! Чего она с ним ездит?
И Ваня спросил:
– А чего, нельзя?
– А хорошо это девочке с шофером путаться!
– Она не путается, – сказал Ваня с обидой. – Она ничуть не путается.
– Много ты понимаешь!
– Он больше тебя понимает, – сказал Игорь строго, и Рыжиков предпочел отодвинуться от Игоря подальше.
– Какой ты все-таки смердючий, – продолжал Игорь, – я тебе советую уходить из колонии.
Рыжиков тогда ничего не сказал, поспешил в город. Но сейчас, к концу зимы, Игорь, пожалуй, не скажет, что Рыжиков смердючий. Симпатии Ванды к шоферу были замечены всей колонией. Шофер Петр Воробьев пользовался общей любовью. Он был молчалив, много читал. Вся кабинка у Петра Воробьева наполнена книжками. Они лежат и на сиденье, и вверху, в карманах на потолке и в карманах боковых. Воробьев читал и в кабинке, и в свободное время где-нибудь на стуле, даже Игоря Чернявина перегнал в читательской славе. И этот самый Петр Воробьев, такой читатель, такой серьезный, такой худой и черномазый человек, безусловно, влюбился в Ванду. Они часто сидели в «тихом» клубе, Ванда в свободное время ездила[247]247
В оригинале «каталась».
[Закрыть] в кабине полуторки, а потом Петр Воробьев вздумал даже на коньках кататься, хотя во время катанья все равно нельзя читать книжку. И он не читал ничего и катался рядом с Вандой и по обыкновению помалкивал. Рыжиков мог торжествовать: все колонистское общество забеспокоилось по поводу этой любви, неожиданно свалившейся на колонию.
Михаил Гонтарь сказал однажды Игорю:
– А я говорю: Ванда влюблена в Воробьева!
– Неправда!
– Правда! Меня не обманешь! О! Я опытный человек, я сразу вижу!
И действительно: один раз Игорь, разбежавшись на коньках, поравнялся с парочкой. Они не заметили его приближения, и Игорь услышал:
– Ты его боишься, Ванда?
– Зырянского? А кто же его не боится?
Игорь понял, о чем шел разговор. Зырянский открыто говорил, что он не допустит никаких ухажеров в колонии.
Ванда имела основания бояться Зырянского. Через несколько дней Игорь катался вместе с Зырянским, и Зырянский сказал:
– Не могу я больше на это смотреть!
Он издали увидел парочку и побежал к ней. Игорь не отстал. Ванда круто повернула и улетела от своего друга, оставив его одного разговаривать с Зырянским. Воробьев, на что уже человек серьезный, и от смутился, очутившись перед гневными глазами Алеши:
– Петро! Я тебе говорю: брось!
– Да в чем дело? – растерянно сказал шофер и опустил глаза.
– Брось, говорю! Нечего девочке голову морочить! Если еще раз увижу вдвоем, вытащу на общее собрание.
Воробьев пожал плечами, быстро глянул на Алешу, снова опустил глаза:
– Я не колонист…
– Я тебе покажу, кто ты такой. Если ты работаешь в колонии, ты не имеешь права мешать нашей работе. Я тебе серьезно говорю.
– Я ничего такого не делаю…
– Мы разберем, ты не сомневайся! Ты влюблен в нее?
– Да откуда вы взяли, что я влюблен?
– А раз не влюблен, так какое ты имеешь право приставать к ней?
Петр Воробьев повозил правым коньком по льду и спросил с некоторой иронией:
– Ну хорошо… а если того… допустим, влюблен?
Зырянский даже присел от негодования:
– Ага! Допустим, влюблен! Мы тебя как захватим с твоей любовью, в зеркало себя не узнаешь!
Петр Воробьев недаром читал такую массу книг. Он комично повел удивленным пальцем справа налево и опять направо:
– Значит: влюблен – нельзя, не влюблен – тоже нельзя! А как же?
Зырянский опешил на самое короткое мгновение: надо было указать Воробьеву точное место, все равно, какие чувства и в каких размерах помещаются в его шоферской душе.
– Не подходи! Просто близко не подходи! Ванда – не твое дело!
Петр Воробьев задумался:
– Не подходить?
– Да, не подходи…
– А к кому можно подходить?
– Можешь… ко мне подходить.
Трудно угадать, как отнесся Петр Воробьев к проекту такой замены Ванды Алексеем Зырянским. Во всяком случае, он еще подумал и сказал:
– Странно у вас как-то… товарищи!
И все-таки, сколько ни смотрели потом пацаны, а не видели Ванды рядом с шофером: ни в клубе, ни в кабинке, ни на катке. Беспокоило их только одно: почему Ванда ходит такая веселая, даже поет, даже в цехе поет. И Петр Воробьев как будто повеселел, разговорчивее сделался, может быть, даже румянее.
3Занимательная арифметика
В апреле пришло много каменщиков и стали быстро строить новый завод. Не успели ребята опомниться, как уже под второй этаж начали подбираться леса на постройке. Здание строилось очень громадное, с разными поворотами, вокруг постройки моментально образовался целый город непривычно запутанных вещей: сараев, бараков, кладовок, бочек, складов, ям и всякого строительного мусора. Старшие колонисты приходили сюда по вечерам и молча наблюдали работу, а четвертая бригада не могла так спокойно наблюдать: тянуло на леса, на стены, на переходы, нужно было поговорить с каждым каменщиком и посмотреть, как он делает свое дело. Каменщики охотно разговаривали и показывали секреты своего искусства. Но чем выше росли леса, тем меньше становилось разговоров: все темы были в известной мере исчерпаны, зато на постройке образовалось так много интереснейших уголков! И теперь каменщики были недовольны:
– И чего это вас тут носит нелегкая. Свалишься, и кончено!
– Не свалюсь.
– Свалишься и костей не соберешь.
– Соберу…
– Убьешься, плакать по тебе будут.
– Никто плакать не будет.
– Родные будут…
– О! Родные!
– Товарищи жалеть будут.
– Товарищи не будут плакать, дядя, марш похоронный сыграют, а чего плакать?
– Ну и народ же… Марш отсюда, пока я тебя лопатой не огрел!
– Лопатой, это, дяденька, брось! А я и так уйду. Думаешь, очень интересно?
Уходить нужно было не столько потому, что прогоняли, сколько по другим причинам: много дела и в других местах и нужно наведаться к диаграмме, не повесили ли новую боевую сводку?
«ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТЕ НА 15 АПРЕЛЯ
Правый фланг – девочки, выполняя ежедневно программу на 170–180 процентов, с боем прошли линию 17 мая и ведут дальнейшее наступление на отступающего в беспорядке противника. Боевой штаб фронта постановил: отметить героическую борьбу правого фланга за новый завод и поставить на этом фланге красный революционный флаг.
Центр продолжает нажимать на синих и сегодня вышел на линию 21 апреля, идя впереди сегодняшнего дня на шесть переходов.
Только на левом фланге продолжается позорное затишье, столяры по-прежнему стоят на линии 15 марта, отставая от сегодняшнего дня на целый месяц.
Несмотря на это, под напором центра, и в особенности правого фланга, противник перевел свои силы даже и на левом фланге на линию 20 апреля: общий план колонии идет с перевыполнением на четыре дня.
Девчата впереди! Привет девчатам! Поздравляем пятую и одиннадцатую бригады!»
У диаграммы толпа, трудно пробиться к стене, приходиться подскакивать или нырять под локтями. Ваня закричал:
– Столяры! Ужас!
Бегунок поддержал в таком же стиле:
– Убиться можно!
Игорь Чернявин лучше бы не подходил – другие столяры ведь не подходят. Он подошел только потому, что состоял при боевом штабе в качестве редактора боевой сводки, и ему всегда интересно было прочитать свой собственный текст. Все-таки приходилось защищаться, хотя и старыми методами, давно уже опороченными:
– Что вы понимаете, синьоры? Тоже – токари! Ты сделай чертежный стол!
Ваня взялся руками за уши:
– Кошмар, и все! Так и написано: «отставая от сегодняшнего дня на целый месяц».
Горохов из-за спин обиженно загудел:
– Да ты посуди: ведь стол за один день не сделаешь! Чего ты пристал?
– Убиться можно! – повторил Бегунок. – Страшно смотреть на этот левый фланг! Левый фланг! А вот девчата молодцы, правда, Ванда?
– Я не девчонка. Я металлист.
Даже новенький, недавно прибывший в шестую бригаду, красноухий, веснушчатый Подвесько и тот смотрит на диаграмму и, может быть, завидует правому флангу, на котором так изящно стоит маленький красный флажок. А может быть, он и не завидует: бригадир шестой Шура Желтухин очень недоволен своим пополнением и говорил в совете:
– Ох, и чадо мне дали, Подвесько этот, придется повозиться!
Апрельский день куда больше, и сумерки до чего приятные. Вчера как будто еще была зима, и пальто висели на вешалке, и окна были закрыты, а сегодня в цветниках старый немец-садовник даже пиджак сбросил и работает в одном жилете, и в парке расчищают дорожки сводные бригады, по одному от каждой постоянной, и на подоконниках сидят целые компании и заглядывают вниз на просыхающую землю.
А все-таки и в апреле бывают неприятности. Казалось, все благополучно в колонии и можно забыть таинственно исчезнувшие пальто, как вдруг в один день: в шестой бригаде у самого бригадира украдены десять рублей, прямо с кошельком, ночью, из брючного кармана, а в театральном зале исчез большой суконный занавес, стоимость которого несколько сот рублей. Захаров ходил как ночь, угрюмый и неприветливый и, говорят, сказал кому-то:
– Честное слово, собаку вызову!
Пацаны этому поверили и с особенным вниманием осматривали каждую собаку, пробегающую через территорию колонии. Но Захаров собаку не вызвал, а поставил вопрос на общем собрании. Колонисты сидели на собрании опечаленные и молчаливые и даже слова не просили. Один Марк Грингауз говорил речь:
– Стыдно и обидно, товарищи! Стыдно в городе сказать кому-нибудь, что в колонии им. Первого мая можно безнаказанно украсть занавес со сцены. Надо обязательно выяснить этот вопрос, надо всем смотреть. А мы ушами хлопаем, у нас из-под носа скоро денежный ящик сопрут.
Зырянский не выдержал:
– Денежный ящик не сопрут, он стоит в вестибюле, и там часовой день и ночь ходит. Разве в том дело? Что же нам, бросить работу и всем стать часовыми возле каждой тряпки? Вы подумайте, какая это продажная гадина действует. Она не хочет рыскать по городу, потому что там везде все заперто и везде сторожа ходят и милиция. Она сюда прилезла, товарищем прикинулась, все ходы и выходы знает, с нами за одним столом ест, работает, спит, разве от нее убережешься? Разве можно смотреть? За кем? Что же теперь, каждого колониста подозревать, замки повесить, часовых поставить? Я не умею смотреть, не умею, но говорю: вот этими руками, вот этими самыми руками, я эту гадину когда-нибудь…
Зырянский не мог докончить, слов у него не находилось, чтобы рассказать, что он сделает «этими руками».
Потом попросил слова Рыжиков. На прошлой неделе ему дали звание колониста. Рыжиков, впрочем, не потому взял слово, что он колонист, а потому, что он кое-что знает. Он так и начал.
– Я, товарищи, кое-что заметил. Вчера возвращаюсь из города, в отпуске был, вижу: этот пацан новенький идет через лес и все оглядывается. Я его остановил: покажи, говорю, карманы. Он хэ, туда-сюда, да я его сгреб и все из карманов… как бы это сказать… вытрусил. Вот все здесь у меня, смотрите.
Рыжиков из своего кармана выгрузил много всякого добра: полплитки шоколада, карандашик-автомат, альбомчик «Крымские виды», билет в кинотеатр и два медовых пряника. Подвесько вытащили немедленно на середину. Уши Подвесько от этого отяжелели и сделались большие, но недовольное лицо оглядывалось во все стороны воинственно:
– Что? Так что? Я взял, да? Я взял?
– Ты это купил? – спросил Торский.
– Конечно, купил.
– А деньги откуда?
– А мне сестра прислала… в письме… все видели.
И тут со всех сторон подтвердили: действительно, на днях Подвесько в письме получил три рубля. Подвесько стоял на середине и показывал всем свое добродетельное лицо. Торский уже махнул рукой в знак того, что он может покинуть середину, но Захаров вмешался:
– Подвесько, а ты воду пил в городе? С сиропом?
Подвесько не успел сообразить, в чем дело, и ответил сразу:
– Пил…
– Два стакана?
– Ну два.
– Два, так, а пряников… вот этих… ты сколько съел? Четыре?
Подвесько отвернулся от Захарова и что-то прошептал.
– Что ты там шепчешь? Сколько ты съел пряников?
– И не четыре совсем.
– А сколько?
Подвесько прошептал:
– Три.
– А какая цена такому прянику?
– Двадцать копеек.
– Ты в город на трамвае ехал?
– На трамвае.
– И билет покупал?
– А как же!
– И обратно?
– И обратно.
– А сколько стоит альбомчик?
Подвесько задумался:
– Я забыл: или сорок пять или пятьдесят пять.
Несколько голосов с дивана немедленно закричали:
– Сорок пять копеек!
– А шоколад?
– Я уже забыл… кажется…
И снова несколько голосов закричали:
– Восемьдесят копеек! Такой шоколад «Тройка» – восемьдесят копеек!
И дальше Захаров обратился уже к дивану:
– Карандашик?
– Сорок копеек! Такой карандашик сорок копеек!
– Так. А на билете в кино написано: тридцать пять копеек. Правильно, Подвесько?
Подвесько без особого оживления сказал:
– Правильно!
– Выходит, что ты истратил три рубля тридцать пять копеек. Правильно?
– Правильно.
– У тебя было три рубля, где же ты еще взял тридцать пять копеек?
– Я нигде не брал тридцать пять копеек. Я истратил три рубля, которые сестра принесла.
– А тридцать пять копеек?
– Я этих не тратил.
– А сколько ты купил конфет?
– Конфет? Каких конфет?
– А тех… в бумажках? Ты купил четыреста грамм?
Подвесько снова отвернулся и зашептал. Руднев подскочил к середине, наставив ухо к шепчущим устам Подвесько.
– Он говорит: двести грамм.
– Что-то у тебя денег много получается, – улыбнулся Захаров.
Подвесько энергично потянул носом, провел рукавом губам и засмотрелся на потолок. Руднев, стоя рядом, стал ласково его уговаривать:
– Ты прямо скажи, голубок, где ты набрал столько денег? А?
– Я нигде не набирал. Было три рубля.
– Так покупок у тебя больше выходит. Больше, понимаешь?
Подвесько этого не хотел понимать. У него было три рубля, все видели, как он получил их в конверте, Подвесько не хотелось покидать эту крепкую позицию.
– Может, ты меньше покупал?
Подвесько кивнул с готовностью. В самом деле, он мог сделать меньше покупок, ровно на три рубля, это его в совершенстве устраивало.
– Может, ты не покупал целого шоколада? Может, ты половинку купил? Там же половинка осталась?
– Угу.
– Половинку купил?
Подвесько снова кивнул.
Общее собрание рассмеялось, этот человек не представлял никаких загадок. И таким же ласковым голосом Руднев спросил:
– Ты прямо ночью полез в карман, взял кошелек, правда?
И теперь Подвесько с готовностью кивнул, потому что ему, собственно говоря, очень понравилась намечающая ясность положения.
Торский почесал за ухом, посмотрел, улыбаясь, на Захарова.
– Иди на место, Подвесько! Ты еще, наверное, красть будешь.
Подвесько вдруг заострил глаза. В словах Торского ему почудился какой-то обидный намек. Торский повторил:
– Красть еще будешь, правда?
Подвесько вдруг просиял улыбкой:
– Честное слово, нет. Это последний раз.
– Почему же последний?
– Не хочется.
– Угу. Ну, добре. Будем наказывать, товарищи?
Подвесько затоптался на середине – очень уж весело смотрели на него колонисты. Воленко поднялся на своем месте:
– Да бросьте возиться с этим… чудаком! Это хорошо Рыжиков сделал, что проверил у него карманы, а то на других думали бы. Подвесько обязательно еще раза два сопрет что-нибудь, за ним смотреть нужно…
Подвесько приложил кулачок к груди и вытянул шею к Воленко:
– Товарищ Воленко! Честное слово, больше никогда не буду!
– Посмотрим, а только отпусти его, Виктор, чего он середину протирает. Десять рублей – на занавес. Да и Подвесько, что такое, – лежало плохо десять рублей, не заперто, он и стащил. Он думает, если замка нет, значит, возьми и купи себе шоколадку. А занавес – другое дело! Когда мы теперь соберем на занавес? Вот Первого мая праздник, а у нас сцену закрыть нечем. Тут не Подвесько орудовал. Тут, понимаете, настоящий враг, да и не один. Такой занавес на руках в город не отнесешь, да и продать нелегко. В этом случае серьезный человек работал, большая сволочь! Вот кого найти нужно.
Прения по этому вопросу затянулись. Никто не высказывал никаких подозрений, но сходились в общем гневном утверждении: нужно найти врага и уничтожить. Все чувствовали, что враг этот и сейчас, вероятно, сидит на диване и слушает, при нем приходится решать вопрос о том, что нужно предпринимать. И поэтому всем показалось приятным предположение, высказанное Брацаном: не может быть, чтобы колонист пошел на такое дело, а у нас теперь живет в колонии двести человек строительных рабочих, и какой там народ, никто хорошо не знает. Они ходят в кино, они видели занавес, наверное, у них есть такая шпана. Залезли хоть бы и через окно и стащили. Им и продать легче, а может быть, просто поделили, костюмы сошьют.
На собрании сидел и строительный техник Дем, очень похожий на кота, усы у него торчком и все шевелятся. Дем попросил слова и сказал:
– Очень может быть, товарищи колонисты, очень может быть. Народ со всех сторон пришел. Я всех еще хорошо не знаю. Каменщики, конечно, не возьмут, за них я, можно сказать, ручаюсь. А вот чернорабочие, кто его знает, можно сказать, не могу ручаться.
Все это так было похоже на правду, что даже Захаров задумался и с надеждой посмотрел на Дема. Для Захарова было бы очень приятно, если бы занавес украл кто-нибудь из чернорабочих[248]248
Текст, выделенный курсивом, сохранен в отдельном издании книги 1939 г., но в последующих изданиях исключен.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































