Текст книги "Одиночество Григория Узлова: повесть суждений"
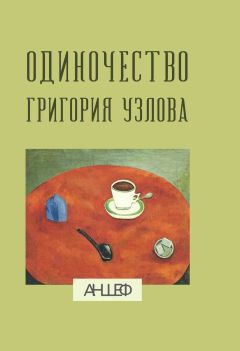
Автор книги: Антон Шевченко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
15
Я шёл и плакал, раздумывая над рассказанной выше историей, над людьми, что изначально были рождены для совершения подвигов и служения добру, но погрязли, по собственной вине или иначе, в чёрствости, жестокости и себялюбии нездоровых масштабов. Не один я размышлял над подобными проклятыми вопросами: всякий разумный предавался мыслям о выходе из тупика. Я сразу могу вспомнить, что некоторым в голову сразу приходит идея о значимости Церкви, что может изменять людей в лучшую сторону своими проповедями и запретами. Но правда это или заблуждение?
Что есть Церковь? Это организация людей, объединённых верой, сформировавших на её основе религию – идеологию веры, включающую в себя обряды и сопутствующие традиции, совершающих деяния, которые реально или мнимо основываются на догматах, положениях религии. Это чёткая иерархия с начальниками и подчинёнными, с теми, кто обладает властью, и теми, кто ей подчиняется, она константа, незыблемая в течение столетий по причине удачного распределения ролей внутри себя, близкой к человеческой психологии. Известно, что главой Церкви является Господь Бог, и есть наместник его на земле, Патриарх или Папа Римский, однако почему же следует верить, что некто избран высшими силами? Почему именно он, а не кто-нибудь другой, в чём доказательство божественного благословения на такой трудный пост? Наместника выбирают митрополиты-кардиналы за закрытыми дверями, но каким образом – молят Господа спуститься с неба и указать перстом на путного человека, или они кидают кости, дабы число, что на них выпадает, обозначило нового пастыря? Не кроется ли всё дело в обыкновенных интригах и склоках церковных иерархов, со своими кланами и группировками, не бандитскими, но похожими, что пытаются продавить своих представителей на выборы? Близко ли это к истине? Возможно, чем только чёрт не шутит, и здесь можно оказаться правым. В ответ мне скажут: они же религиозны, то есть верующие, значит, они могут быть не двуличными. Не исключаю, что среди митрополитов с кардиналами найдутся правильные люди, как Лот в Содоме и Гоморре, но будет их мало, очень мало среди грозных хищников, упивающихся могуществом, тщеславных и безбожных.
Крохотно число моралистов, живущих по совести и учащих других без ханжества и лицемерия, да и на глаза стараются не показываться, ведь скромность – одна из главных их добродетелей. Бессребреники и человеколюбцы уважаемы и чтимы знакомыми, что прилюдно любят схвастнуть о своих праведных поступках, вдохновлённых замечательным ближним, которому сейчас и пожимают руку, с улыбкой глядя в бусины глаз, где светятся мудрость и доброта. Среди богатых и знатных тоже есть почти святые, но в привычке у них, опять же, держаться в стороне, не лезть в мирское, а дарить другим свет – вот их долг основной, тем паче ежели они состоят в Церкви, что усиливает их настроения и воззрения. Они любят предаваться почтительным думам, созерцанию и анализу священных текстов, для них суетны прения за папский или патриарший престол: глядят свысока на тщеславных святош, что пекутся о своей карьере. У них тихий спокойный голос, но его редко можно услышать, потому что любят они помолчать, погрузившись в богатый внутренний мир. На широкой публике эти мудрые люди стараются не появляться – не нужны им лишние взгляды и разговоры. Так они и не являются, к большому сожалению, представительными лицами Церкви, уступая место крикунам и гордецам.
Простой человек, хоть раз увидев пастыря, который не обладает отшельническим характером, а скорее есть сластолюбивый царедворец с персидского двора, глаголющий о смирении, скромности и иных добродетелях, но внешностью побуждающий к противоположному, испытает горячее презрение, желание плюнуть в нахальное и откормленное рыло святоши, недоделанного проповедника великих истин, уже давно их предавшего. Тщеславный поп оглядит скучающим взором своих овец, прочтёт литургию, потрясая свалявшейся бородкой, благословит присутствующих и с сознанием выполненного долга скроется из виду – ему не будет интересно возмущение кого-то внимательного и разумного, нет, священник продолжит совершать обряды как ни в чём не бывало, несмотря на то, что они греховны вследствие порочности их творящего. И обратятся ко мне спорящие: как же живы ещё те, кто порочат таинства, по вашим же словам, ведь давно должна была длань Господня их покарать и отправить в геенну огненную за богохульство? Ответить попытаюсь я сердцам нетерпеливым, чем точнее, тем лучше. Я не вешаю клейма на весь род поповский, я говорю лишь о некоторых членах Церкви, что наглость имеют почти что бессовестную. И как раз вопрос рождается – где Божий гнев на голову, повинную в скотском, святотатственном поведении? Думается мне, что наплевать Господу на то, что некий червь навозный пользуется именем Его для всякой мерзости, пусть болтает – всё равно душе в котле адском вариться. Но не всё равно Богу на других детей своих: для того чтобы закалить дух их внутренний, дабы скверна в него не вторглась, необходим на глазах пример дурной, чтобы никто не стремился к нему, не превращался в безликую тень, но понимал, что необходимо для возвышения собственного в плане нравственном над иными. Понявших и сильных всегда одобрял Господь: как Христос претерпел все казни и страдания, так и всякий, что не только ходить под Богом жаждет, а надеется на нечто значительное, обязан проявлять волю, выковать из самого себя достойного, не Сына, но сына.
Так и сохраняет Отец всякую тварь, жизнь порочащую, во благо рождения новых, крепких разумом и с сердцем пламенным. Сначала гнев праведный, затем осмысление и потом изменение самого себя в защиту от дурных влияний со стороны той же Церкви. Я не враг ей, но обличитель, я не так радикален, как Толстой, но близок к нему, потому что понятна логика его и не согласиться с нею во многих аспектах достаточно трудно. Я не призываю не ходить в храмы, ведь я христианин, православный, и негоже будет отговаривать народ отторгнуть полностью праздники христианские, но требую быть осмотрительным каждого, чтобы был внимателен и задумывался каждый раз, как услышит или увидит нечто новое и необычное для себя. На то и мозг дарован был нам в ходе эволюции более развитый, нежели у иных животных, – видеть между строк, услышать между звуков, разглядеть меж пятен – у кого-то лучше, у кого-то хуже, но первоначальные условия равны, лишь надо только захотеть, и будет мощнее вещество серое. Одно лишь важно – упорство немалое, сопряжённое с трудолюбием и мудростью, которые оба постигаются с практикой житейской.
В бессилии злом даже лучшие умы прошлого заявляли, что человек, по сути, есть тварь смердящая, отличная от животного лишь хождением на двух ногах и способностью говорить. Единственное, что сдерживает нас от полного озверения, – багаж культуры, которая при условии маленькой толики может оградить еле теплящуюся человечность от посягательств агрессивной нутряной скотины. Теория эта вполне стойка, и всегда находились её поклонники, что малевали фразы из учения на своих хоругвях, убеждая в непогрешимости, однако найдутся здесь и подводные камни. К примеру, если человек так ничтожен, так убог, тогда откуда берётся у него тяга к высокому и прекрасному? Он стал сверхчеловеком, перешёл на следующую ступень? А почему человек не смог подрасти в иных отношениях? Наверное, имеется ответ у тех, с кем я полемизирую, но подспудно понятно, что он невнятен, путан и бессмыслен, раз он никак не на слуху. Опять попугаи будут повторять своих великих учителей, не особенно их переваривая и не привнося ничего нового в старую теорию.
Но всё-таки, но всё-таки она так притягательна своей простотой, своей логичностью, что не убиваема и не изживаема, учение эволюционирует и развивается, обретая новые формы и поверхностные смыслы, даже удачно вклинилось в политику, родив такую змею ядовитую, которая чуть весь мир не задушила мощным гибким телом. Но и после этого, такой дискриминации и антирекламы, жива до сих пор теория, о которой я здесь и толкую. Она стала чуть миролюбивее, но более отвратительной, убогой и нежизнеспособной, вызывающей раздражение и неприязнь. Это не называемое мной учение – удел псевдоинтеллектуалов, поигрывающих перед другими дураками «оригинальными» мыслями, самое смешное, что на Западе всё тихонько идёт на спад, а у нас цветёт буйно, яркими красками: покупаются отвратительные книжки, читаемые в метро или на отдыхе, голова загаживается ненужной информацией, высосанной из пальца.
Может, дорогой читатель догадался, о ком я снова пишу? Верно, об Айн Рэнд, которую воспринимаю как перенимательницу не лучшей части идей Ницше и Фрейда, духовной сестре Муссолини и отдалённой родственнице по воззрениям Гитлера, чей «Атлант расправил плечи» есть не только дурновкусное чтиво, но и носитель губительных мыслей, пропаганды больного эгоцентризма предельной степени нарциссизма, войны всех против всех, человек человеку волк! Задуманная как антисоциалистический памфлет, книга переросла в орудие против альтруизма, а, следуя по дорожке, затем и против гуманизма как такового. Рэнд заборным слогом поучает жестокости, подверженности низменным страстям, удовлетворению себялюбивых и ограниченных инстинктов; её герой и кумир есть не кто иной, как калька Заратустры, суррогат, лишённый мудрости, успокаивающий самого себя тем, что он идеален и лучше других, но никто это не может и не хочет заметить, насколько Джон Голт великолепен. Это неудачник похлеще Мармеладова, картонный, фанерный тип, вычерченный протекающими фломастерами рукой школьника, только изучающего умение рисовать. Нельзя поверить в Джона Голта, как нельзя поверить, что камень есть дерево и обратное, настолько безлик образ, только недалёкий разглядит в подобном пластмассовом человечке нечто живое, переливающееся через край, вдохновляющее на самосовершенствование и саморазвитие, не знаю, как у них принято говорить – в подобных мелкопошибных компаниях стараюсь не находиться в силу скуки и презрения.
Однако мне доводилось часто общаться с теми, кто был поклонником Голтианы, а я могу отметить, что, несмотря на ходульность и слабость объекта их симпатии, они были подчас людьми замечательными и интересными, просто очарованные поверхностной макулатурой, к моему удивлению способной выбивать искры эмоций даже из достойных. Я до сих пор не возьму в толк, как Рэнд своей писаниной обаяла их крепкие умы, можно сказать, недюжинные и неординарные по сравнению с идейным содержанием этой пропаганды социал-дарвинизма. Красотой слова? Отнюдь, газетная заштампованная речь, ни более ни менее, тогда чем, чем же привлекают хороших ребят страницы, дурманящие своей глупостью и пустотой только хиленький разум? Да всё происходит потому, что неглупый человек не святой, не идеал и не пример для подражания – каждый склонен к грешкам и проступкам, даже малым и незаменимым, и самый частый из них – некоторая подверженность тщеславию, нет, неверно, и так слишком часто использую это слово, надо его зачёркивать и заменять в большинстве случаев, иначе скажут, что Григорий Узлов – бездарь. Нет, я пока не мастерски владею словом, но и не настолько ужасно, чтобы надо мной насмехались и тыкали грязноватым пальцем с криком «Безграмотный!». Я не Загоскин, я не скатываюсь в банальные ошибки при написании сочинений, да и сами мои труды не пахнут той беллетристичностью и скороспелостью, характерной для «Милославского» или «Аскольдовой могилы», – я уверен, что меня не настолько быстро раскритикуют и забудут, как это произошло с этим литературным мясником и пошляком.
Хм, тут я задумался: а откуда в голову затесался Загоскин? Не просто так ведь возник, верно, товарищи? Так дух его сквозит в дне сегодняшнем, как никогда до этого! Это квасной патриотизм, национализм, построенный на превосходстве русских над остальными, жалкое клекотанье о некоем величии по крови, прямо такого не было в романах Михаила Николаевича, но близкое существовало в их пространстве, холуйство и раболепное ползание перед сильными как добродетель, а в абсолют безвкусия и мещанства всё возведено профанацией в выстраивании звуков в слова, а слов в предложения, а предложений в абзацы, а абзацев в тексты. Подобное литераторское чудовище находит отклик у непритязательной публики, побивающей себя подчас в грудь о своей образованности и тяге к искусству, так было при царизме, но сейчас для возрождения популярности у Загоскина слишком высокая конкуренция – тут тебе и современные русские графоманы, и какой-нибудь Булгаков, «Король посредственной литературы», что сумел опробовать все жанры, в каждом оставив по тёплому липкому следу, признанному критиканами золотым слитком, достойным восхищения и подражания, хотя ничего, кроме как творить на злобу дня, Михаил Афанасьевич не умел, не оставив после себя ни вопросов, ни раздумий; Оруэллы, Ремарки и Маркесы даже расписывания не заслужили – и так всё предельно ясно с их стремлением к классичности, с их наличием на руках лишь некоторого числа бестолковых опусов, которым умудряются посвящать монографии, в общем, «русскому Вальтеру Скотту» надо сильно потесниться, схуднуть в своих стремлениях стать самым читаемым автором и надеяться, что хоть кто-то заинтересуется его самозабвенным и повторяющимся заголовком «Русские в XXXX году», как будто здесь кроется загадка, интрига наличия корня серьёзности под таким названием. Прошло уж то время, когда провинциалы, желающие приблизиться к столичному лоску, шику и кричащей образованности, читали, восхищались и цитировали исторические романчики в великосветских беседах. В этом крылась наивность и простота вольтеровского дикаря, но с годами чувства деформировались и преломлялись: от ощущения ребёнка-первооткрывателя, цепляющегося хоть за что-то, называемое серьёзным и существенным, до пошловатых свиней, развалившихся в грязи и в смраде, – мещанство клыками впивалось в мозг несчастных людей, принося опустошение и безволие. Нет, не подходит для них Загоскин, больно благороден Михаил Николаевич для современности, он относится к тем, к дикарям, гарцующим под мазурку на дворянских собраниях и вставляющим в каждое предложение галлицизм для придания весомости и статусности, выдавая на выходе «смесь французского с нижегородским».
В общем, можно сказать, что Загоскина и Рэнд роднит только один пункт – неграмотность языка, а в остальном они различны, начиная прямо с мировоззрения, помещичий полудеревенский простак и озлобленная на весь свет белый женщина, наивность против цинизма и так далее. Ну и самое главное – последнюю в основном изучают свиньи, чьё звание обычно подтверждается их идолопоклонством автору. Я всё сказал, хоть пусть скорчат недовольные рожи либертарианцы – мне всё равно, я привык, что когда говорю правду, то обязательно вонзаю шпильку в мягкое место случайного субъекта, потому что я честен, а честность есть умение делать и говорить неприятное во имя истины, что и с удовольствием совершаю, растрясая рыхлые телеса обывателей и понуждая к совершенствованию.
16
Но вот и очертания родной многоэтажки – тревожно бьётся сердце при мечтании о тёплом свете лампы, мягком диване и успокаивающем Листе, раздающемся из динамика. Я обожаю слушать этого великого венгерского пианиста и композитора. Как он переложил на клавиши «Кампанеллу» Паганини, гениального скрипача, а «Венгерская рапсодия» есть вещь культовая, мировая. Как пальцы трогают клавиши, будто Лист прикасается к юной деве, поглаживая её и нежно целуя лебединую шею, а дева и млеет, рдеют щёки, так и приоткрывается ротик от возбуждения, учащается дыхание, и от чутких ласк начинается переход к ненахальной агрессии, не выходящей за рамки разумного, почти незаметной, но обладающей темпераментом, отличным от спокойствия. Но каково удовольствие сливаться с магической музыкой фортепьяно, перенесенной сквозь века и не постаревшей ни на один день. Это есть волшебство искусства, его вечная сила и проклятие в зависимости от автора и произведения.
А Ференц Лист уже начал досаждать, хоть я и был на улице. Уши заполнились романтической Liebesträume[9]9
Liebesträume – «Грёзы любви». Ноктюрн № 3. Ференц Лист.
[Закрыть], и смотрел я не на подъезд, а на мост над каналом, где навстречу друг другу едут поезда, из Питера или обратно, на сияние на фоне темнеющих деревьев, их серебряность на тускло-жёлтых огоньках фонарей и квартирок, отдающее чем-то благородным в нашей вороватой и подлой действительности. Лист в сочетании с красой оптических эффектов успокаивал и умиротворял, причём настолько, что я боялся остановиться – если не буду двигаться, то сразу закрою глаза, завалюсь в ближайший снег и растечётся улыбка блаженная по моему лицу. Однако я не привык быть настолько расслабленным, не в моих правилах падать на землю и расползаться по ней. Я собрал всю волю в кулак и рванул со всех ног домой, лишь бы оказаться быстрее на своём родном этаже, в своей родной квартире; поэтому я сменил пластинку: вместо Листа поставил у себя в голове «Пляску смерти» Камиля Сен-Санса, быструю, живую, решительную, энергичную, как раз именно её быстрая часть и прокручивалась, ускоряя и без того стремительный шаг.
И вот я перед дверью, достаю из кармана связку, находится необходимый мне магнитный ключ, дабы зайти в подъезд, в его светло-серый кафель, бежевый ряд почтовых ящиков, холодный металл лифта. Я им спокойно воспользовался, дверь открылась, и я внутри, в тепле, потому что, несмотря на свою погружённость в мысли, я достаточно замёрз и устал от ходьбы, от той же учёбы, всё-таки из университета ехал, поэтому мечтал согреться, что и не преминул сделать. Я заскочил в лифт, надавил на необходимую кнопку и взмыл вверх, казалось, что взмыл – на самом деле лишь медленно перемещался до своего этажа. Я разглядывал себя в зеркале и не мог узнать – передо мной был осунувшийся парень с огромными синяками под глазами, с потухшим взглядом, уставившимся в одну точку, с бледным лицом цвета пломбира, рассечённой красной линией губ, проступающей на коже словно кровь. Я был гладко выбрит – и щёки, и голова дышали спокойно, без всяких преград, но бритость ещё более подчёркивала болезненность внешнего вида, она пугала меня своей необычной способностью усугублять нездоровый цвет лица и общий негативный антураж, исходящий от моего облика. Да и худоба вносила свою лепту в пугающее видение странного юноши, но мрачность была несомненна, а серьёзность безгранична.
Мне вспомнилась индийская легенда про то, как Тьма, чтобы заполучить человеческую душу, придумала зеркало, дабы люди, заглянувшие в него, не смогли отвернуться от самих себя, смотрели и впадали в транс благодаря самолюбию и тщеславию. Хоть и был я не Ален Делон, но от своего отражения я не мог отвести взгляд, оно пленяло своей необычностью, угрюмостью, даже некоторой зыбкостью черт лица, нервно переливающегося на обработанном песке. Прав злой дух: можно подчинить человека при помощи такой мелочи, как зеркало, мелочь обладает большой силой, потому и не надо недооценивать нечто крошечное и несуразное – именно оно и сыграет решительную роль в трагедии или комедии, оно повлияет на судьбу личностей и поколения, изменит историю, двигающуюся в тихих берегах, ускорив её и приведя к кризису или новому рывку, в зависимости от потенциала, который в ней пребывал до поры до времени. Вероятно, и зеркала были как шутки в Судьбы руках: с их помощью старуха корёжила жизни и ломала людей, жила как хотела её садистская составляющая, или яростно посмеивалась над мелкотой по имени человек, показывая ущербность по сравнению со Вселенной. Последнее характерно именно для моего случая – меня не следовало уничтожить или казнить, а Судьбе элементарно хотелось поиздеваться над парнем, что помногу учится и работает. Это же смешно, когда бездельники и дураки сыты и здоровы, а трудоголики голодны и больны – это великое колесо фарса, что не остановить, ибо не позволит Судьба вмешиваться в ею же самой написанную пьеску подобно автору, противостоящему цензору или даже редактору, отстаивая даже незначительную запятую или двоеточие, я не говорю про слова, про абзацы, про тексты, что не просто поле боя брать, но сечь со множеством трупов отбитых аргументов каждой из сторон.
С печальной мыслью я вылез в открытые двери лифта, наконец почуяв под собой не металл, а кафель. Устало голова моя оглядела лимонно-коричневые стены, бордовую цифру этажа, мерцающую лампу на потолке, но тут заметил – на балконе кто-то курил и смеялся. По любопытству своему я отправился прямиком туда, дабы выяснить, кто в поздний час может собираться и гоготать, какой мерзавец может быть счастливым тогда, когда мне больно и плохо. Хлопнула деревянная дверь – я на воздухе, на меня ошалело зыркнули школьники, с банками энергетиков в руках, их было четверо: три мальчика и одна девочка, что обнимала наиболее важного из присутствующих особей мужского пола. Это была малолетняя шантрапа, которая развелась обильно в последнее время как в крупных городах, так и в малых, придя на смену гопникам и другим более криминальным элементам; они слабы и безобидны – раз шуганёшь, и пропадёт их жалкий след, скроются они за ближайшей подворотней и побоятся оттуда и нос казать.
Произошла некоторая деградация уличных «хулиганов»: если раньше действительно могло быть страшно ночью ходить, то сейчас новоявленные «урки» вызывают только хохот своим быдляцким прикидом и замученным взглядом овец, редкой тягой даже к стандартным сигаретам, а предпочтением противных тошнотворных вейпов, а пиво вообще сменилось энергетиками, причём очень дешёвыми и не сказать что сильно алкогольными. Это стало атрибутами новой культуры сброда, безусловно беззубого и жалкого в своих потугах быть крутыми. Хорош процесс, однако если даже такая часть общества меняется, притом в худшую сторону для себя, не означает ли это и иных движений в социуме опять же в неблагоприятном направлении? Мужчина, как и женщина, стал инфантильнее и капризнее, безответственнее и непорядочнее, прикрываясь мещанской бесхребетностью и неконфликтностью. Везде присутствует лёгкий цинизм низкого пошиба, общественного строя или даже не знаю, как правильно обозвать творящуюся ерунду, перелицующую человека в двуличного слабака и подлеца, отринувшего как добро, так и зло, став некоторой амёбой со скелетом и кожей. Я презираю их, потому что лучше быть негодяем, чем тюфяком, потому что будет за что уважать, хотя бы за искренность в собственном устремлении к чему-то, даже плохому. Тряпки же так и будут валяться на полу, никуда не шевелясь и довольствуясь готовыми ответами – для них нет искания или сомнения, раз сказали, что такое хорошо и что такое плохо, и хватит с него.
Это безвольная рохля и размазня, глупая и недообразованная, для неё есть и массовая культура, и политика, и ценности, которые они и должны потреблять. Это всё мой современник, который для меня лишь отвратительный сосед, вызывающий брезгливость и раздражение, а не брат по роду людскому. Мы разные, потому что каждый из нас думает по-иному, но не просто по-разному, но противоположно. Мы два непримиримых лагеря – я отстаиваю то достойнейшее, что видел в прошлом, и, переформатируя, переношу в будущее, а ОН – за настоящее, что дышит на ладан и должно сгореть в могиле, – его нельзя спасти, и это неприятно, потому что необходимо мыслить о грядущем, а не о чём-то другом. Нет и не будет противоядия от той отравы, что осела в нынешнее время везде, где только смогла найти щёлочку, дырочку, настолько она хитра и коварна.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































