Текст книги "Пушкин ad marginem"
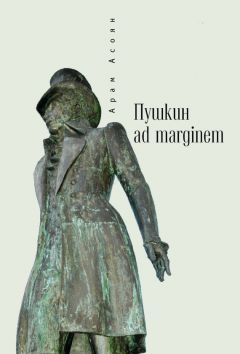
Автор книги: Арам Асоян
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Арам Асоян
Пушкин ad marginem
Памяти скульптора Аллы Полозовой
Катарсис, «лук и лира» и гибель Пушкина
О катарсисе пишут давно. Уже в XVI веке аристотелевское замечание о том, что трагедия «посредством сострадания и страха совершает очищение»[1]1
Аристотель. Поэтика/ Аристотель Соч.: В 4 т. – Т. 4. – М., 1984. – С. 651.
[Закрыть], удостоилось около пятнадцати интерпретаций. Один из ранних комментаторов «Поэтики» Аристотеля К. Маджи толковал катарсис именно как избавление с помощью страха и жалости от смущающих душу аффектов[2]2
Аристотель и античная литература. – М., 1978. – С. 10.
[Закрыть]. Позже Лессинг полагал, что страх, возбуждаемый трагедией, прежде всего тот, который «мы переживаем за себя в силу нашего сходства с личностью страдающего»[3]3
Лессинг. Избранные произведения. – М.: 1953. – С. 570.
[Закрыть]. Соотечественник Лессинга, гегельянец Фишер считал, что главная причина очищающего воздействия трагедии коренится в возвышении зрителя над односторонностью противоборствующих сил, в осознании их обоюдной вины. Такая проницательность помогает зрителю возвыситься до глубоко благоговения перед абсолютной нравственной волей. Возвышение над личным, постижение в частной судьбе неумолимого «порядка вещей» – вот в чем, с точки зрения Фишера, глубочайший эффект трагедии[4]4
Аникст А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. – М., 1983. – С. 139–140
[Закрыть].
Современник Фишера Фр. Ницше скептически отзывался о подобных трактовках загадочной, по выражению одного из исследователей, фразы Аристотеля. Для самого Ницше понимание катарсиса неотъемлемо от «мистериального учения» античной трагедии»; которое предполагает единство всего существующего и взгляд на индивидуацию как изначальную причину зла, а искусство толкует как предчувствие восстановленного единства[5]5
Ницше Фр. Рождение трагедии из духа музыки/ Сочинения: В 2 т. – Т. I. -М., 1990. – С. 94.
[Закрыть]. Вплоть до Еврипида, писал Ницше, развивая «мистериальное учение» античной трагедии, все знаменитые фигуры греческой сцены – Прометей, Эдип и др. – суть только обличия Диониса мистерий, который «является во множественности образов под маской борющегося героя, как бы запутанный в сети индивидуальной воли. И как только этот являющийся бог начинает говорить и действовать, он получает сходство с заблуждающимся стремящимся, страдающим индивидом»[6]6
Там же.
[Закрыть]. А то, что мистериальный герой является с такой эпической определенностью и отчетливостью, рассуждал Ницше, есть результат воздействия толкователя снов – Аполлона, истолковывающего хору дионисическое состояние бога. Хор и трагический герой воплощают двойственность, данную в самом происхождении греческой трагедии и обусловленную переплетением художественных инстинктов – аполлонического и дионисического[7]7
Там же. – С. 101.
[Закрыть]. «трагедия, – писал Ницше, – всасывает в себя высший музыкальный оргиазм (…), но затем она ставит рядом с этим трагический миф и трагического героя», который приемлет на себя весь дионисический патос и снимает с нас его тяготу. Вместе с тем, трагедия при посредстве того же греческого мифа, в лице трагического героя, чьи страдания мы наблюдаем, способствует нашему освобождению от алчного стремления к существованию в индивидуации, напоминая нам о другом бытии – о «прарадости в лоне всеобщего, первоединого». К которой борющийся герой приуготовляется своей гибелью. А не своими победами»[8].8
Там же. – С. 140.
[Закрыть]
И в приобщении через трагический миф к дионисийскому оргиазму, когда со зрителем «внятно говорит сокровеннейшая бездна вещей», и он как будто «приложил ухо к самому сердцу мировой воли»[9]9
Там же. – С. 141.
[Закрыть], и в спасении от этого оргиазма через эпическую аполлоническую определенность трагического героя Ницше прозревал сущность катартического эффекта. Он замечал: «Трудное для понимания отношение аполлонического и дионисического начал в трагедии могло быть действительно выражено в символе братского союза обоих божеств: Дионис говорит языком Аполлона, Аполлон же в конце концов, языком Диониса, чем достигнута высшая цель трагедии и искусства вообще[10]10
Там же. – С. 144.
[Закрыть].
Ницше настойчиво педалировал внеэтический характер катарсиса. Следуя за ним, Вяч. Иванов утверждал: «… вся система кафартики была выработана с единственной целью: примирить и привести в гармоническое плодотворное взаимоотношение две несогласованные веры, совместить в религиозном сознании и действии два несовместимых мира – мир подземный, с его животворящими силами и таинствами, и мир надземный, с его действительными началами закона и строя»[11]11
Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство // Эсхил. Трагедии. – М., 1989. -С. 377.
[Закрыть].
Акцент на внеэтическом характере катарсиса приводит к известному психологу Л. Выготскому, который был склонен рассматривать катартический эффект как чисто эстетическую реакцию. Он полагал, что во всяком художественном произведении «нужно различать эмоции, вызываемые материалом, и эмоции, вызываемые формой»[12]12
Выготский Л. С. Психология искусства. – М.:, 1987. – С. 204.
[Закрыть]. Художник всегда формой преодолевает свое содержание, и, таким образом, возникает эффект, «развивающийся в двух противоположных направлениях, который в завершительной точке, как в коротком замыкании, находит своей уничтожение»[13]13
Там же.
[Закрыть]. Поясняя свою мысль, Выготский писал: «Вот Бунин в ритме холодного спокойствия рассказал об убийстве, о выстреле, о страсти. Его ритм вызывает совершенно противоположный эффект тому, который вызывается предметом его повести. В результате эстетическая реакция сводится к катарсису мы испытываем сложный разряд чувств, их взаимное превращение, и вместо мучительных переживаний, вызываемых содержанием повести, мы имеем налицо высокое и просветленное ощущение легкого дыхания»[14]14
Там же. – С. 205.
[Закрыть].
Высказывание Выготского обнаруживает любопытное сходство не только с размышлениями Ницше о взаимодействии в греческой трагедии двух противоположных начал, но и с содержанием эллинского символа «лукап и лиры», обязанного своим происхождением Гераклиту из Эфеса, заявившему однажды: «… враждебное находится в согласии с собой (…) эта гармония противоположных напряжений подобна луку и лире»[15]15
Фрагменты ранних греческих философов. Подг. А. В. Лебедев. – Ч. I. – М., 1989. – С. 199.
[Закрыть]. Комментируя Гераклита Б. Вышеславцев писал: «только при полном раскрытии противоположных сил, при напряженности сопротивления может прозвучать гармония. Гармония есть нечто новое, никогда раньше не существовавшее, проявившееся вдруг там, где раньше был спор, уничтожение и взаимное вытеснение (…) Лук, – писал он, – есть система противоборствующих сил (…) Лира построена на том же принципе, что и лук: она есть многострунный, можно сказать, преображенный или «сублимированный» лук. Здесь мы можем наглядно, – заключал Вышеславцев, – созерцать и слышать, как из «противоборства возникает прекраснейшая гармония»[16]16
Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. – М., 1994. – С. 245–246.
[Закрыть].
В качестве символа гармонии лира стала у эллинов атрибутом Аполлона, ибо оформление бытия и всего космоса по законам этого бога мыслилось как мировая симфония[17]17
Лосев А. Ф Античная мифология в ее историческом освещении. – М., 1957. -С. 338.
[Закрыть]. Аполлон – покровитель певцов и музыкантов, Мусагет, водитель муз. В русской философской критике, начиная с Вл. Соловьева и еще раньше – с Ап. Григорьева, гибель русского наперсника аполлона – Александра Пушкина нередко толковали как победу Диониса над аполлоном: «Безумная отвага, – писал о поэте С. Булгаков, овладела им, а не он овладел ею: отсюда не только бесстрашное, но и легкомысленное, безответственное отношение к жизни, бретерство, свойственное юности Пушкина в его дуэльных вызовах, как и последнее исступление: «чем кровавее, тем лучше (сказанное им между разговором Соллогубу о предстоящей дуэли»)[18]18
Булгаков С. Н. Жребий Пушкина // Пушкин в русской философской критике. – М., 1990. – С. 275.
[Закрыть].
Булгаков и Соловьев видели в гибели Пушкина неотвратимую предрешенность, «жребий», судьбу, обусловленную, по мнению, Соловьева, превосходством в Пушкине «человека» над «пророком» и захваченностью одного из них дионисийским вихрем страстей. Это соображение особенно развито Булгаковым. «Не подлежит сомнению, – рассуждал он о Пушкине, – что поэтический дар его, вместе с его чудесной прозорливостью, возрастал, насколько он мог еще возрастать, до самого конца его дней. Какого-либо ослабления или упадка в Пушкине как писателе нельзя усмотреть. Однако остается открытым вопрос, можно ли видеть в нем то духовное возрастание, ту растущую напряженность духа, которых естественно было бы ожидать, после 20-х годов, на протяжении 30-х годов его жизни? Не преобладает ли здесь мастерство над духовной напряженностью, искусство над пророчеством?»[19]19
Там же. – С. 283.
[Закрыть]
Вопросы Булгакова не более чем риторический вопрос; ответы он знал, ибо в правоту своих предположений глубоко верил, видимо, не смущаясь, что сам Пушкин думал иначе: «Духовный труженик…», – скажет он о себе перед концом жизни («Странник»). Тем не менее на вопрошание философа откликнулся Вл. Ильин. Булгакову он посвятил статью «Аполлон и Дионис в творчестве Пушкина», где соображение о внутренних противоречиях поэта приобрело еще один смысл: вся поэзия Пушкина, с точки зрения Ильина, «преизбыток формальной красоты» (…), «уравновешена» и «благополучна» только форма[20]20
Ильин Вл. Аполлон и Дионис в творчестве Пушкина // Пушкин в русской философской критике. – С. 131.
[Закрыть], «прославленное равновесие – лишь прекрасная, необходимая для существования артистического шедевра поверхность»[21]21
Там же. – С. 310.
[Закрыть], вооружившись классической мерностью, Пушкин заклинает мир, где царствует Геката и прочие хтонические божества, и призывает солнечного бога Аполлона против «чар ночных» Диониса (…) даже против «метафизики, которую он клеймит эпитетом «ложной мудрости»[22]22
Там же. – С. 312.
[Закрыть]. Далее в качестве аргумента Ильин приводил заключительные стихи «Вакхической песни»:
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!
Обращение к «Вакхической песне» в статье, посвященной Дионису и Аполлону, весьма уместно. Но действительно ли, как утверждал Ильин, в этом стихотворении «умерший Дионис воскресает в красоте Аполлона», и вправду ли «произведение искусства для того, чтобы ожить после смерти, должно стать мертвым мрамором»[23]23
Там же. – с. 313.
[Закрыть]? Если бы, позволим себе столь неожиданное допущение, – и в песне не было первых десяти «дионисических» стихов (а иначе, почему бы поэт назвал ее «Вакхической.»), то и остальные, так сказать, «аполлонические» стихи звучали бы по-иному. То есть по меньшей мере декларативно, и были бы не в состоянии передать полноту пушкинского мирочувствия, той гармонии, без которой Пушкин бы перестал быть собой. «кто (…) – говорил Сократ, – без неистовства, посланного Музами, подходит к порогу творчества в уверенности, что он благодаря лишь одному искусству станет изрядным поэтом, тот еще далек от совершенства…»[24]24
Платон. Ион /Платон. Собр. соч.: В 4 т. – Т. I. – М., 1990. – С. 377.
[Закрыть]. Гармония мира, как она явлена в пушкинской поэзии, зиждется на том же принципе, что и гераклитовский символ «лука и лиры». Сошлемся, к примеру, на стихотворение «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу.» где «печальное сладострастье» («Любуясь девою в печальном сладострастье.») словно призвано иллюстрировать, как «враждебное находится в согласии с собой» и как в результате этого, говоря устами Вышеславцева, рождается «нечто новое», никогда раньше не существовавшее, проявившееся вдруг там, где раньше был спор, уничтожение и взаимное вытеснение».
Нет, Дионис не умирает в Аполлоне, «человек» и «поэт» живут в гении «нераздельно и неслиянно». Древние чутко ощущали это, и о глубине их мистической интуиции двуединства божества свидетельствуют мифы и аналогичные представления. Следуя им, автор «Сатурналий», латинский писатель Макробий (IV в.) сообщал: «солнце. Когда оно находится в верхней, то есть в дневной полусфере, называется Аполлоном. Когда же оно в нижней, то есть в ночной, полусфере – то считается Дионисом.»[25]25
Лосев А. Ф. Указ. соч. – С. 327.
[Закрыть]
Еще интереснее рассказ Плутарха. В трактате «Об „Е“ в Дельфах» он высказывает мнение, что таинственный знак на вратах Дельфийского храма обозначает число 5. В духе пифагорейской традиции Плутарх продолжает: «Если спросят, какое это имеет отношение к Аполлону, мы отметим, что не только к нему имеет отношение, но и к Дионису, которому Дельфы принадлежат не меньше, чем Аполлону.
Послушаем же исследователей природы божества, прославляющих в стихах и прозе бога как бессмертного и вечного, но под влиянием присущей ему какой-то воли и разума изменяющего себя: то он воспламеняет свою природу и переходит в огонь, делая все вокруг подобным одно другому, то он принимает разнообразнейшие виды, различные по форме, свойствам, силе – как теперь явлен мир, а называется самым известным из имен – космосом.
Утаивая это от толпы, мудрецы называют превращение бога в огонь Аполлоном из-за единства субстанции и Фебом из-за его незапятнанной чистоты; разнообразнейшие изменения при превращениях его в воздух, воду, землю, звезды, в рождающиеся растения и живые существа и его изменения, ведущие к упорядочению космоса, мудрецы выражают в туманных намеках, называя рассеиванием и разрыванием: и тогда они именуют бога Дионисом…»[26]26
Плутарх. Исида и Осирис. – Киев., 1996. – С. 82–83.
[Закрыть].
Комментируя Плутарха, А. Лосев находит точное определение двуединству «дельфийских братьев» (Вяч. Иванов). «Аполлон и Дионис, – пишет он. – не есть факт становления, но скорее форма этого становления, его направление, его оформление, его смысл»[27]27
Лосев А. Ф. Указ. соч. – С. 345.
[Закрыть]. Такая трактовка метафизики религиозного феномена, вырастающего из глубин человеческой психики, словно учитывает признание поэта:
В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный.
С. Булгаков и Вл. Ильин как будто забыли пушкинское признание. Один из них, как христианин, полагал, что отнюдь не в «Поэте», а в «Пророке» Пушкин рассказал в своем высшем даре, где уже не Аполлон «зовет к своей жертве „ничтожнейшего из детей мира“, но пророчественный дух его призывает, и не к своему собственному вдохновению, но к встрече с шестикрылым серафимом, в страшном образе которого ныне предстает» поэту его истинная Муза»[28]28
Булгаков С. Н. Указ. соч. – С. 282.
[Закрыть], однако, считал Булгаков, пророческое творчество, извне столь «аполлоническое», уживалось в Пушкине с мрачными безднами трагического дионисизма, и его жизнь «не могла и не должна была благополучно вмещаться в двух раздельных планах»[29]29
Там же. – С. 287.
[Закрыть]. За дуэлью, если бы рок судил Пушкину стать убийцей, должна была начаться «новая жизнь с уничтожением двух планов, с торжеством одного, того высшего (…) к которому был он призван в „пустыне“ (…) Трагическая гибель, – размышлял о Пушкине Булгаков, – явилась катарсисом его трагической жизни (…) и лишь этот спасительный катарсис исполняет ее трагическим и величественным смыслом, который дано было ему явить на смертном одре в великих предсмертных страданиях. Ими он (…О освобождался от земного плена, восходя в обитель Вечной красоты»[30]30
Там же. – С. 288.
[Закрыть]. Другой – Вл. Ильин, – писал в унисон Булгакову об обывательском «Дионисе, к которому – по его мнению – „пока не требует поэта к священной жертве Аполлон“, по слабости примыкает почти всякий артист, примыкал и Пушкин»[31]31
Ильин Вл. Указ. соч. – С. 313.
[Закрыть].
Булгакову, чья статья была опубликована к столетней годовщине гибели Пушкина, тотчас же ответил Вл. Ходасевич. «Поэта, – возражал он, – Пушкин изобразил в «поэте», а не в «пророке» (…) Не пророком, падшим и вновь просветлевшим (…) хотел жить и умер Пушкин. Довольно с нас, если мы будем его любить не за проблематическое духовное преображение, а за реальную данную нам его поэзию.»[32]32
Ходасевич Вл. «Жребий Пушкина». Статья о С. Н. Булгакове // Пушкин в русской философской критике. – С. 491–493.
[Закрыть].
Принимая почти все возражения Ходасевича, невозможно согласиться с его утверждением, что «… пророком Пушкин не был и себя таковым не мнил»[33]33
Там же. – С. 492.
[Закрыть]. Это суждение, как и соображения Ильина об «обывательском «Дионисе», опровергается самим стихотворением «Поэт», и как раз потому, что именно в нем, а не в «Пророке», Пушкин изобразил пророчественное вдохновение служителя Муз, обязанное отнюдь не «шестикрылому серафиму». А своей собственной природе, заявляющей о себе тем, что в миг вдохновения поэт весь оказывается во власти двуединого божества, которое обнаруживается в полярных состояниях – «диком» и «суровом». Притом, если «дикий» Дионис полон смятения, то «суровый» Аполлон – звуков, и это тождество противоположностей всякое мгновение готово разрешиться в гармонию, лук в любой момент готов сублимироваться в «святую лиру», и тогда ее символами становятся такие оксюмороны, как «светлая печаль», «печальная клевета» и т. п. парадоксальные выражения, где одно слово противостоит другому и где «дух» сочетается со «страстью», просветляет страсть, как, например, в стихотворении «Делибаш», «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением.» и мн. Других. В этом просветлении как раз и заключается катартическое воздействие, и его истоком оказывается не «предстояние перед Богом», которое на христианский лад приписывал Пушкину Булгаков, а жизненная полнота переживаний, извлекаемая из противоположных крайностей:
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслаждения.
Одной из важных загадок, которые возникают в связи со смертью Пушкина, с причинами его гибели, Булгаков считал вопрос – «каково в нем было отношение между поэтом и человеком в поэзии и жизни?»[34]34
Булгаков С. Н. Указ. соч. – С. 280.
[Закрыть]. В стихотворении «Поэт» Булгаков слышал «страшный ответ»:
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он… —
Как будто доказывают право поэта на личную незначительность. «Стало быть, – предполагал Булгаков, – в поэте может быть совмещено величайшее ничтожество с пифийным наитием „божественного глагола“»…[35]35
Там же. – С. 281.
[Закрыть]. Но вспомним слова Пушкина, он писал П. Вяземскому в ноябре 1825 г. по поводу предания огню Т. Муром писем Байрона: «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? Черт с ними! Слава богу, что потеряны… толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок – не так, как вы – иначе.»[36]36
Пушкин А. С. Письмо П. А. Вяземскому. Вторая пол. ноября 1825 г. Из Михайловского в Москву/Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. – Т. Х. – М., 1958. -С. 191.
[Закрыть]
Нетрудно догадаться, что тирада Пушкина не только о лорде Байроне, но и о самом себе. Ни Булгаков, ни Ильин не захотели это заметить. А Вл. Соловьев, размышляя о предгибельных днях поэта, клонился, по существу, к суду над Пушкиным, полагая, сто тот оказался невольником «гнева и мщения» и что именно «взрыв злой страсти» подтолкнул поэта к барьеру[37]37
Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика – М., 1991. -С. 293–294. Там же. – С. 295.
[Закрыть]. В отказе же смертельно раненого поэта от мести Соловьев видел редкую в поэте жертву «языческого» ради «христианского» и толковал отказ как «духовное возрождение»[38]38
Там же. – С. 295. Там же. – с. 294. Ср. «. Пушкина убила не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха» / / Блок А. А. О назначении поэта / Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. – Т. 6. – М. – Л.: 1962. – С. 167.
[Закрыть]. Но была ли дуэль Пушкина «языческим» или «дионисийским» затмением и действительно ли, как утверждал Соловьев, «Пушкин был убит не пулею Геккерна, а своим собственным выстрелом»[39]39
Там же. – с. 294. Ср. «… Пушкина убила не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха» // Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. – Т. 6. – М. – Л.: 1962. – С. 167. Монтень М. Опыты: В 3 ч. – Ч. 3. – М., 1981. – С. 311.
[Закрыть]?
Чтимый поэтом М. Монтень сказал однажды: «…проявить себя в своей природной сущности есть признак совершенства и качество почти божественное»[40]40
Монтень М. Опыты: В 3 ч. – Ч. 3. – М., 1981. – С. 311.
[Закрыть]. Природной сущностью Пушкина была поэзия, которая, как известно, способна управлять биографией и превращать ее в судьбу. Только исполнив свои человеческие обязанности и засвидетельствовав amor fati[41]41
Ср.: Древние греки рассматривали поединок как Божий суд // См.: «Илиада». Песнь 3, стихи 321–323.
[Закрыть], Пушкин мог умереть так, как умер, то есть, как писал Соловьев, «по-христиански». Нам кажется, что эта ситуация схожа с поведением Татьяны, «милого идеала» поэта. Лишь в своей верности долгу она могла сохранить способность любить «другого». Тождество противоположностей, символизируемое «луком» и «лирою», было залогом ее самостояния и катарсиса. И ее, и самого Пушкина.
Пушкинская эпоха, которую А. Блок называл «единственно культурной в России прошлого века»[42]42
Блок А. А. Указ. соч. – С. 166.
[Закрыть], эта грань двух столетий, была периодом особого отношения к античному наследию, а значит, и к идеалу жизненной цельности. «Внутренне правдивая иллюзия пребывания античности в настоящем, – отмечал один исследователь, – вот что создает эффект подлинности в культуре XVIII–XIX вв.»[43]43
Михайлов А. В. Идеал античности и изменчивость культуры // Быт и история в античности. – М., 1988. – С. 255.
[Закрыть]. Идея экстатической полноты бытия в греческом духе, которая предполагала, как писал Платон, что одержимые Дионисом вакханты черпают молоко и мед из тех источников, из которых другие добывают только воду»[44]44
Платон. Ион // Указ соч. – С. 377. См. Также. Платон. Федр. – С. 101.
[Закрыть], пронизывала всю высокую культуру того времени[45]45
Михайло А. В. античность как идеал и культурная реальность XVIII–XIX вв. // Античность как тип культуры. – М., 1988. – С. 308–324.
[Закрыть]. «Да будет каждый греком на свой собственный лад! Но пусть он им будет!»[46]46
Гете И. В. Об искусстве. – М., 1975. – С. 305.
[Закрыть], – восклицал в 1817 г. Гете. В России эти слова мог произнести прежде других Александр Пушкин.
Метатекст пушкинской статьи «Александр Радищев»
Пушкинская статья предназначалась для третьего тома «Современника», но министр народного просвещения С. С. Уваров нашел «неудобным и совершенно излишним возобновлять память о писателе и книге, совершенно забытых и достойных забвения»[47]47
Пушкин А. С. Соч. Л., 1929. Т. 9. Кн. 2. Под ред. Н. К. Козмина. – С. 718.
[Закрыть]. Трудно сказать, верил ли сам Уваров, что Радищев забыт. Еще двадцать лет назад он печатно молвил о «некоем из наших писателей (г… Р…), о котором» не без сожаления вспоминают Российские музы, и при этом цитировал «Путешествие из Петербурга в Москву»[48]48
Уваров С. С. Ответ В. В. Капнисту на письмо его об экзаметре. – Арзамас. Сборник: В 2 кн. Кн. 2. – М., 1994. – С. 91.
[Закрыть].
В тридцатые годы радищевская книга, напечатанная в домашней типографии тиражом 500 экз., большая часть которого была сожжена опальным автором, а 6 книг конфисковано и уничтожено правительством, действительно стала раритетом, но и тогда она встречалась у книжных торговцев, библиофилов и коллекционеров. Не ранее 1833 года уникальный экземпляр «Путешествия», бывший в тайной канцелярии и даже в руках Екатерины (с него часть помет императрицы была перенесена на другой экземпляр, фигурировавший на суде), за огромные деньги, 200 рублей, был приобретен Пушкиным[49]49
См.: Фомичев С. А. Библиотека Пушкина. – Памятники Отечества. – М., 1982, № 1(5). – С. 34; Сидяков Л. С. Библиотека Пушкина и ее описание. – Библиотека А. С. Пушкина. Б. Л. Модзалевский. Приложение к репринтному изданию. – М., 1988. – С. 51, 62–63.
[Закрыть].
Мало того, радищевская книга распространялась в списках. По данным В. А. Западова, из 84 обследованных им списков 21 изготовлены на бумаге 1786–1799 гг., 27 – на бумаге 1801–1810 гг., 27 – в период 1811–1825 гг. На вторую половину 1820–1840 годов приходится еще 9 списков[50]50
Западов В. А. История создания «Путешествия». -Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность. – СПб., 1992. – С. 478.
[Закрыть]. Видимо, Уваров, утверждая, что Радищев и его книга «совершенно забыты», немало заблуждался, или, что вероятнее всего, намеренно искажал ситуацию в интересах власти. Только в окружении Пушкина с «Путешествием» были знакомы С. и Ф. Глинки, Н. Тургенев, Н. Муравьев, П. Вяземский, М. Юзефович, К. Батюшков, собиравшийся писать о Радищеве статью[51]51
Батюшков К. Н. Соч.: В 2 т. Т. 2. – М., 1989. – С. 31–44.
[Закрыть] В конце двадцатых годов по просьбе Вяземского, приятель Батюшкова и Гнедича, старший сын писателя, Н. Радищев составил для него краткую биографию отца[52]52
Бабкин Д. С. Первые биографы А. Н. Радищева. – Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. – М.; Л., 1959. – С. 6–7.
[Закрыть].
Возможно, причины отклонения пушкинской статьи были у министра несколько иными. Через четыре года вновь не дозволяя ее печатать, – на этот раз в посмертном собрании сочинений поэта, – Уваров отметил, что «она, по многим заключающимся в ней местам, к напечатанию допущена быть не может»[53]53
Пушкин А. С. Соч. – Л., 1929. Т. 9. Кн. 2. – С. 718.
[Закрыть], и потому предлагал сделать распоряжение о ее запрещении.
Комментируя вердикт министра, В. Вацуро пишет: «Дело было не в Радищеве, а Пушкине…»[54]54
Вацуро В. Э., Гилельсон М. И. «Сквозь умственные плотины.». М., 1986. – С. 108.
[Закрыть]. Он считает, что причина запрещения статьи заключалась в тех ее «местах», ради которых она писалась и которые послужили поводом вельможного раздражения. Вероятно, одним из таких «мест» стали пушкинские слова о «преступлении Радищева»; в них, как тонко замечает Вацуро, “приоткрывается «парадоксальный смысл: это – преступление, не вызывающее ни ужаса, ни презрения – но удивление, даже преклонение перед самоотверженной честностью преступника»[55]55
Там же. – С. 104.
[Закрыть]. И это «преступление» – ничто иное, как «нравственный подвиг»[56]56
Там же.
[Закрыть].
Вацуро не только указал на одну из причин запрещения пушкинской статьи, но и дал определение ее основной направленности. О ней уже сто с лишним лет не утихают споры. Первый публикатор статьи, издатель первого научного собрания сочинений Пушкина, П. В. Анненков полагал, что суждения поэта о Радищеве принадлежат «к тому зрелому, здравому и проницательному такту», который был характерен для Пушкина незадолго до его кончины[57]57
Пушкин А. С. Собр. соч.: В 7 т. Изд. П. В. Анненкова. – СПб., 1855–1857. Т. 7. – С. 3–4.
[Закрыть]. Известный фольклорист А. Н. Афанасьев, напротив, считал, что «отзыв Пушкина не выдерживает критики»[58]58
Цит.: Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. – С. 25.
[Закрыть].
Так были заданы две основные тенденции в осмыслении пушкинской статьи о Радищеве. У начала третьей, как бы примиряющей две других, стоял В. Е. Якушкин. Он, а позже и С. А. Венгеров, усматривал в статье Пушкина эзопов язык, с помощью которого автор пытался привлечь внимание к судьбе одиозного для властей Радищева[59]59
См.: Якушкин В. Е. Радищев и Пушкин. – М., 1886; Русская поэзия: Собрание произведений русских поэтов. Под ред. С. А. Венгерова. – СПб., 1897. – С. 822
[Закрыть].
Эти тенденции определили восприятие пушкинской статьи и в XX столетии. П. Н. Сакулин, – словно продолжающий традицию, начатую Анненковым, – писал: “Из-за могилы автор «Путешествия» ставил перед ним (поэтом. – А. А.) проблемы чрезвычайной важности. Пушкин принял вызов и ответил на него (…) Светлый, гармоничный и мудрый Пушкин, изрекший своим творчеством великое поэтическое «да», отверг в лице Радищева мятежное «нет»[60]60
Сакулин П. Н. Пушкин и Радищев. Новое решение старого вопроса. – М., 1920. – С. 74.
[Закрыть]. Иной тональности в подобной характеристике пушкинской статьи придерживался В. П. Семенников. Он считал, что статьи Пушкина «Путешествие из Москвы в Петербург» и «Александр Радищев» поражают «своим тоном по отношению к Радищеву: это тон явной неприязни (…) заметно преобладающий над теми немногими отзывами этих статей, в которых еще проглядывают отголоски сочувствия Радищеву»[61]61
Семенников В. П. Радищев: Очерки и исследования. – М.; Пг. – С. 249.
[Закрыть].
В. В. Пугачев также видел в статье Пушкина выражение его неприятия антидворянских настроений Радищева и расценивал ее как заявление политической программы поэта, оформившейся у него в тридцатые годы[62]62
Пугачев В. В. Пушкин и Радищев: (К истолкованию статьи «Александр 18. Радищев»). – Ученые записки Горьковского университета. 1966. Вып. 78. – С. 647–651.
[Закрыть]. Нашлись сторонники и точки зрения Якушкина. Один из них, Н. Самвелян, утверждал: «Пушкин, безусловно, применил сверхэзоповский язык (…) Нужно было любой ценой вновь напомнить о Радищеве»[63]63
Самвелян Н. Пока сердца для чести живы. – М., 1986. – С. 117.
[Закрыть].
Таков спектр основных воззрений на пушкинскую статью, изначально сформировавшийся еще при ее первой публикации. Но в последние годы в оценках статьи появились новые, не встречавшиеся ранее, нюансы. Н. Я. Эйдельман, обращая внимание на достаточно сложную, по его словам, проблематику пушкинских обращений к Радищеву, в частности, писал, что “в любом случае поэт сопоставляет свою судьбу с радищевской («вослед Радищеву»)”[64]64
Эйдельман Н. Комментарии. – «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева. Факсимильное издание. – М, 1983. – С. 55.
[Закрыть].
Л. Н. Лузянина отмечала «многоинтонационную и многоаспектную структуру статьи», которая выводит ее за пределы традиционного публицистического жанра. Кроме того, полагает исследовательница, статья «Александр Радищев» поразительна «еще и по своей затаенной трагической интонации»[65]65
Лузянина Л. Н. К проблеме жанрового своеобразия статьи А. С. Пушкина «Александр Радищев». – Жанры в историко-литературном процессе. – Вологда. 1985. – С. 44, 41.
[Закрыть].
В. Э. Вацуро, осмысляя позицию автора статьи, считал, что «Судьба Радищева напоминала кое в чем его собственную»[66]66
Вацуро В. Э., Гилельсон М. И. Указ. соч. – С. 107.
[Закрыть]. А. В. Аникин в книге о социально-экономических мотивах Пушкина, заявлял: “Едва ли мы ошибемся, если скажем, что описывая бунт Радищева против екатерининского самодержавия, Пушкин думал о своих собственных трудных отношениях с внуками царицы – Александром 1 и Николаем 1. Вспомним, как он «примерял» к себе судьбу Н. И. Тургенева, Мордвинова, Якова Долгорукова…”[67]67
Аникин А. В. Муза и мамона. Социально-экономические мотивы у Пушкина. – М., 1989. – С. 209.
[Закрыть].
Наконец, Ю. В. Стенник, рассматривая пушкинскую статью на фоне диалога «Путешествия из Москвы…» с книгой Радищева и корректируя представление о ее направленности, – «не антидворянская, а антимонархическая, точнее антиекатерининская», – отмечает, что Пушкин, с его «обостренным чувством сословной принадлежности, уловил в сочинении Радищева такие стороны, которые полностью согласовывались с его собственными размышлениями…»[68]68
Стенник Ю. В. Пушкин и русская литература XVIII века. – СПб., 1995. – С. 335.
[Закрыть].
Такого рода замечания привлекают внимание к весьма примечательной особенности некоторых пушкинских статей последних лет. Впервые на нее указал, кажется, Д. Мережковский. Обратившись к статье поэта о Баратынском, предназначавшейся, видимо, для «Литературной газеты» и при жизни Пушкина оставшейся в рукописи, Мережковский приводит текст одного характерного пассажа статьи. «Поэт, – цитирует он пушкинские слова о Баратынском, – отделяется от них (от читателей) и мало-помалу уединяется совершенно. Он творит для себя, и если изредка еще обнародывает свои произведения, то встречает холодность, невнимание, и находит отголосок своим звукам только в сердцах некоторых поклонников поэзии, как он, уединенных в свете». Эти «строки, прямо идущие от сердца, – комментирует Пушкина Мережковский, – пишет он о своем друге Баратынском, хотя невольно чувствуется, что Пушкин говорит здесь и о себе самом»[69]69
Мережковский Д. С. Пушкин. – Пушкин в русской философской критике. – М., 1990. – С. 99.
[Закрыть].
Подобные наблюдения свойственны и другим читателям, исследователям Пушкина. Так, например, Я. Л. Левкович цитирует признание, которым Пушкин завершает свою статью о Байроне: «Говорят, что Байрон своею родословною дорожил более, чем своими творениями. Чувство весьма понятное! Блеск его предков и почести, которые наследовал он от них, возвышали поэта: напротив того, слава, им самим приобретенная, нанесла ему и мелочные оскорбления, часто унижавшие благородного барона, предавая имя его на произвол молве». За цитатой следует резюме. «Пушкин – замечает Левкович, – пишет как будто о самом себе (…) В сочувствии Байрону, – добавляет она, – творчество которого для Пушкина в это время (вероятно, 1835 год. – А. А.) было уже пройденным этапом, угадывается авторское волнение»[70]70
Левкович Я. Л. Автобиографическая проза и письма Пушкина. – Л., 1988. – С. 41.
[Закрыть].
Подобные примеры нетрудно умножить. Остановимся еще на одном. “Давно отмечено, – пишет Еремин о пушкинской статье «Вольтер», – что в описании взаимоотношений Вольтера с Фридрихом II Пушкин намекал на некоторые обстоятельства собственных взаимоотношений с царем”[71]71
Еремин М. О достоинстве и ответственности литературы. – А. С. Пушкин. Мысли о литературе. – М., 1988. – С. 31.
[Закрыть]. Эти эпизоды подтверждают «общеизвестную», как выразился один из пушкинистов, склонность поэта к литературным мистификациям, усилившуюся в последние годы жизни. Здесь не время разбираться в разнообразных причинах этого явления, но трудно обойти вниманием уместные в данной ситуации слова А. Блока: «… Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура»[72]72
Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. М. – Л., 1962. – С. 107.
[Закрыть]. Предчувствие такой смерти было внутренним поводом для статьи «Александр Радищев». В трагической биографии Радищева просматривалась собственно пушкинская, и для автора она была не менее важна, чем радищевская. Вероятно, именно потому автор, вопреки обыкновению, оказался не точен в биографических подробностях своего героя, что вызвало резко негативную реакцию младшего сына писателя, П. Радищева. Его возмущенные замечания чаще всего обращены к тем реалиям статьи, где авторская самохарактеристика довлеет себе. В результате «замечания» сына Радищева служат индикатором латентного письма в пушкинской статье, ее автобиографического метатекста.
Так, например, критик Пушкина опровергает его мнение об увлечении молодым Радищевым философией Гельвеция. Но строки о философе обретают в статье двойной адрес. «Теперь было бы для нас непонятно, – писал Пушкин, – каким образом холодный и сухой Гельвеций мог сделаться любимцем молодых людей, пылких и чувствительных, если бы мы, по несчастью, не знали, как соблазнительны для развивающихся умов мысли и правила, отвергаемые законом и преданиями» (выделено мною. – А. А.)[73]73
Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. – М.; Л. (1937–1949). Т. XII. – С. 31. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.
[Закрыть]. Это признание отсылает нас к черновой рукописи VII главы пушкинского романа, где перечень книг, которые «добрый приятель» Пушкина Евгений брал по обыкновению в дорогу, включает имена Гельвеция, его учителей и корреспондентов: Вольтера, Юма, Дидро, Фонтенеля, Локка…(VI, 438). Есть в этом перечне и Мабли, чьи «Размышления о греческой истории» переведены Радищевым на русский язык.
«Радищев, – вольно цитировал Пушкина его оппонент, – попал в общество франмасонов. Таинственность их бесед воспламенила его воображение». П. Радищев в стремлении защитить отца, пишет противу Пушкина: «В франмасоны записывались тогда все порядочные люди…»[74]74
Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. – М.; Л., 1959. – С. 103.
[Закрыть]. Но пушкинский текст о масонах свидетельствует не столько о Радищеве, сколько о духовной атмосфере, формировавшей молодого поэта. Пушкин сообщал: «В то время существовали в России люди, известные под именем мартинистов. Мы еще застали несколько стариков, принадлежавших этому полуполитическому, полурелигиозному обществу. Странная смесь мистической набожности и философического вольнодумства, бескорыстная любовь к просвещению, практическая филантропия ярко отличали их от поколения, которому они принадлежали. Люди, находившие свою выгоду в коварном злословии, старались представить мартинистов заговорщиками и приписывали им преступные политические виды» (XII, 32).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































