Текст книги "Пушкин ad marginem"
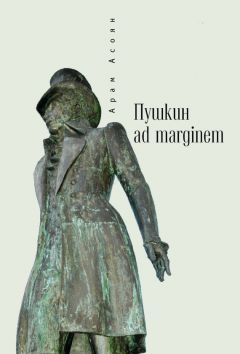
Автор книги: Арам Асоян
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
За взятки и грабеж подъячий здесь повис.
Вверх тело поднялось, душа спустилась вниз.
(Р. э., 101)
Поветрие, война опустошает свет,
А более всего рецепты да ланцет.
(Р. э., 100)
Тончайшая ирония от употребления слова в переносном значении выделяет эти стихи от подобных им у других эпиграмматистов, предшественников и современников Хераскова.
Развитие русской эпиграммы сказывалось и в обогащении композиционных форм, и в эволюции ее отдельных видов. Литературная эпиграмма бытовала, например, в русской поэзии и до И. Хемницера, но под его пером она стала живым откликом на произведения отечественной словесности. Хемницер постоянно вводит в текст эпиграммы персонального адресата; А. С. Хвостов и Дмитревский, Рубан и В. И. Майков стали персонажами его стихов, но компрометация личности героя уступила в них место критике его творений. В этом плане показательны названия некоторых эпиграмм поэта: «На трагедию Хераскова «Венецианская монахиня», «На Сумарокова «Семиру»… Хемницер известен и как автор однострочных афоризмов, которые раньше не встречались в русской эпиграмматике, а в мировой – впервые появились у Марциала.
Важным этапом в эволюции эпиграммы стало творчество Г. Державина. Он почти свободен от заимствований, его стихотворения чаще, чем у иных поэтов, пишутся по конкретному поводу и на конкретные лица, вбирают в себя неповторимые ситуации и явления и сохраняют эту неповторимость благодаря непреднамеренности композиционных форм. Они зачастую подсказаны автору самим материалом: именем адресата («На Багратиона»), «типологической» схожестью разных случаев и событий («На смерть собачки Милушки»), выпадом литературного недруга («Ответ Тромпетина к Булавкину») или подхватом чужого мотива («На сороку в защищение кукушек»)… Это придает большинству эпиграмм Державина блеск экспромта. Они производят впечатление незаданности темы и ее воплощения, ненатужной и едкой игры ума. Недаром каламбур – один из любимейших приемов поэта:
Эпитафия Н. Е. Струйскому.
Средь мшистого сего и влажного толь грота,
Пожалуй, мне скажи, могила эта чья?
«Поэт тут погребен по имени – струя,
А по стихам – болото».
(Р. э., 112)
Смех Державина то прямодушен, то резок, как приговор судьи («Вывеска»), то лукав и забавен:
Эзоп, Хемницера зря, Дмитрева, Крылова,
Последнему сказал: «Ты колок и умен»;
Второму: «Ты хорошо для модных, нежных жен»;
С усмешкой первому сжал руку – и ни слова.
(Р. э., 114)
Державин не только широк по диапазону, но и богат оттенками, способен улавливать затейливое развитие коллизии. Так, в эпитафии Струйскому вопрос задается в театрально-трагедийной интонации, а ответ звучит в сниженно-простодушном ключе, что делает эти стихи еще смешнее.
«Гибкие, подвижные ритмы Державина, – отмечает исследователь, – передают живое звучание речи, внутренний драматизм сюжета». Но лучшие эпиграммы поэта – это сумма тесно взаимодействующих приемов. Например, в сатирической миниатюре «Правило жить» движение авторского чувства создается не только интонационным каскадом речи, но и с помощью градации, которая подчеркнута двукратной анафорой, согласованной с парной рифмовкой первых стихов:
Утешь поклоном горделивца,
Уйми пощечиной сварливца,
Засаль подмазкой скрып ворот,
Заткни собаке хлебом рот, —
Я бьюся об заклад,
Что все четыре замолчат.
(Р. э., 110)
Личностное начало выражается у Державина гораздо определеннее, нежели в стихах других эпиграмматистов XVIII века, этическая позиция которых диктовалась достаточно общей нормой для всего просвещенного дворянства. В эпиграммах поэта быстрее угадывается его личный опыт, стиль жизненного поведения, сильный и независимый характер человека, почитавшего для себя правилом:
Змеей пред троном не сгибаться,
Стоять – и правду говорить («Вельможа»).
Среди эпиграмм Державина есть в полном смысле автобиографическая, предвосхитившая автоэпиграммы В. Капниста, но ее тональность совершенно иная: смех поэта с привкусом горечи и мрачноват:
Поймали птичку голосисту
И ну сжимать ее рукой.
Пищит бедняжка вместо свисту;
А ей твердят: «Пой, птичка, пой».
(Р. э., III)
Державин писал: «У всякого Гения есть своя собственность или печать», но индивидуальный почерк эпиграмматиста, в котором чувствовалось живое ощущение национальной жизни, был принадлежностью не только его таланта, но и будущего отечественной эпиграммы. Ее искрящееся искусство в пушкинскую эпоху было бы немыслимо без опытов XVIII века.
К атрибуции пушкинской эпиграммы «Двум Александрам Павловичам»
Почти сто лет назад выдающийся пушкинист Н. В. Измайлов опубликовал эпиграмму «Двум Александрам Павловичам» и сопроводил публикацию приписываемого Пушкину стихотворения спорным, на наш взгляд, замечанием; будто она отлита в некий «эпиграмматический шаблон». Малое пространство текста, считал Измайлов, сужает возможности для реализации творческой индивидуальности классика[98]98
Измайлов Н. В. Политическая эпиграмма лицейской эпохи // Пушкинский сб. Пушкинист. – IV. – Пг., 1922. – С. 13.
[Закрыть] (!-13).
Действительно, со времен Марциала жанровая схема скоптической эпиграммы остается довольно жесткой. Текст ее отчетливо делится на предпосылку и неожиданное разрешение ситуации. Разрядка обретает форму авторского комментария к предварительному рассказу или являет собой как ответ на риторический вопрос. Хорошей эпиграмме свойствен эффект экспромта, автор как будто сам не знает, чем завершит начатое, и пуант, шпиц, то есть остроумная концовка, подобен счастливой догадке. Она рождается на внезапном повороте мысли. Словом, как писал Франсиско Кеведо, «Эпиграмме настоящей надо быть для славы вящей складной маленькой и злой».
Но вернемся к «Двум Александрам Павловичам». Посмотрим, правда ли она отлита в «шаблон», правда ли, что ее форма лишена индивидуальности. Перечтем текст:
Романов и Зернов лихой,
Вы сходны меж собою.
Зернов, хромаешь ты ногой
Романов – головою.
Но что, найду ль довольно сил
Сравненье кончить шпицом?
Тот в кухне нос переломил,
А тот – под Австерлицом[99]99
Пушкин А. С. Двум Александрам Павловичам / Пушкин А. С. Собр. соч: В 10 т. – Т. I. – М., 1957. – С. 423.
[Закрыть]
Композиционные приемы этого стихотворения указаны самим автором: эпиграмма построена на сравнении, и сравнение кончается шпицем, остротой. Сравнение здесь, что называется, «обратное», прочно вошедшее в кодекс острословов. Оно нацелено на комическое снижение первого адресата, ибо соль эпиграммы в сопоставлении Александра I, над головой которого в 1813 г. (предположительная дата стихотворения) уже светился венец триумфатора, с помощником лицейского гувернера Александром Павловичем (!) Зерновым, человеком, по воспоминаниям, с такой физиономией, и такими презанятными манерами, такой подлости и такой гнусности, что, как заметил пушкинский однокашник М. Корф, ни один трактирщик не взял бы его в половые. Отмеченное, но еще не выделенное в первых стихах сходство героев в дальнейшем пояснено сравнением по так называемому «случайному» признаку где внутреннее противоречие между буквальным и метафорическим обозначением «общего» свойства Александров Павловичей вызывает комический эффект: «Зернов, хромаешь ты ногой, Романов – головою».
Другая оригинальная особенность эпиграммы состоит в том, что в ней налицо не один, а два пуанта. Экспозиция, заданная в начальном дистихе, разрешается дважды: в 3–4 и 7–8 стихах. Мало того, действие заключительного пуанта усилено паузой, которая создается риторическим вопросом: «Ну что, найду ль довольно сил Сравненье кончить шпицом?». Так образуется ретардация, а после нее пуант звучит столь же неожиданно, как первый, благодаря чему происходит как бы удвоение комического эффекта.
Такой эмоциональный результат достигается не только двумя пуантами, но и другими, далекими от расхожих, приемами. В эпиграмме два параллельных катрена. При этом параллелизм обусловлен не только пуантами и числом стихов. Катрены аналогичны по ритмическому строю: схема того и другого: четырехстопный ямб, мужская плюс женская клаузулы. Они однородны синтаксически, – эллипсис в 4-м и 8-м стихах, – и стилистически: в этих стихах одна и та же стилистическая фигура – метафора.
Соразмерность катренов придает эпиграмме выразительную стройность и особый, неповторимый лад. Вместе с тем, катрены не сливаются и не отпадают друг от друга. Их дуплетность – один из скрепов, которым части соединены в целое, другой скреп – пояснительная функция 8-го стиха по отношению к 4-му, и еще один – семантика указательных местоимений во втором пуанте и связующий в данном случае противительный союз «но». Цельность стихотворения обусловлена и другими формальными элементами. Среди них анафоры 1-го и 4-го, 7-го и 8-го стихов. В начальном катрене анафора выделяет главный объект эпиграммы, в заключительном – концентрирует внимание на комическом признаке общности величественного императора и незадачливого служителя Лицея. И если звуковые сцепления первого четверостишия заданы фонетическими образами слов «Романов» и «Зернов» (внутренняя рифма), то во второй части звуковой облик целого создается почти той же группой сонорных: н-л-р-м.
Эта композиционная виртуозность сама по себе есть не что иное, как опровержение поспешного мнения Измайлова о стилевой безликости эпиграммы, кроме того она еще один довод в пользу атрибуции стихотворения пушкинскому перу. Впрочем, как и двойной пуант – или его подобие – ставший чуть ли ни отличительным признаком эпиграмм молодого Пушкина. Он встречается в пушкинских «октавах» на А. А. Аракчеева, Ф. И. Толстого-Американца, князя А. Н. Голицына, стихах «Лизе страшно полюбить…», в «Портрете» в стихах «Тошней идиллии и холодней, чем ода…», наконец, известной своими художественными достоинствами эпиграмме на Александра I, которому поэт «подсвистывал» до самого гроба:
Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном.
Н. В. Измайлов, размышляя над стихами «Двум Александрам Павловичам», писал: «Сама по себе, взятая вне обстановки Лицея, наша эпиграмма, конечно, не представляет ничего выдающегося»[100]100
Измайлов Н. В. Указ соч. – С. 17.
[Закрыть]. Между тем совершенство формы не только служит дополнительным аргументом в споре с атрибуцией текста, но и опровергает суждение маститого пушкиниста. Кроме того, сакраментальным является сам адресат эпиграммы. Им, конечно, же оказывается не столько курьезный Зернов, действительно популярный лишь среди лицеистов, сколько коронованная особа. Это обстоятельство становится решающим для определения читательского, – и слушательского, если иметь в виду изустный характер жанра, – круга рецепиентов этого «спорного» стихотворения. Здесь уместно вспомнить слова покойного В. И. Кодухова, заметившего в связи с анализом художественного текста: «…мы должны учитывать три компонента: автора, читателя (слушателя) и сам текст, который должен быть одновременно произведением автора и произведением читателя»[101]101
Кодухов В. И. Психологическое направлении в языкознании и преподавании русского языка. Научно-учебное пособие. – Ишим, 1993. – 139.
[Закрыть].
К истории отношений Пушкина и Ф. Толстого-Американца
В 1820 году случилась ссора Пушкина с бретером Ф. И. Толстым-Американцем, который стал источником молвы, будто молодой Пушкин был высечен в Тайной канцелярии Министерства внутренних дел[102]102
Об этом: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. – М., 1985. – Т. 1. -С. 235.
[Закрыть]. Направляясь на Юг, поэт о сплетне еще не знал и простился с Толстым, как с добрым приятелем. В ссылке клевета достигла Пушкина, и он разразился в адрес оскорбителя желчной эпиграммой:
В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружен,
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он.
Но, исправясь понемногу,
Он загладил свой позор,
И теперь он, – слава богу, —
Только что картежный вор.
Эпиграмма, наверняка, дошла до Толстого, а через несколько месяцев, уже в послании Чаадаеву, Пушкин почти в тех же выражениях вновь ополчился на Американца:
Что нужды было мне в торжественном суде
Холопа знатного, невежды при звезде,
Или философа, который в прежни лета
Развратом изумил четыре страны света,
Но, просветив себя, загладил свой позор:
Отвыкнул от вина и стал картежный вор?
Эти стихи появились в 35 номере «Сына Отечества» в искаженном цензурой виде:
Что нужды мне в торжественному суде
Глупца-философа, который в прежни лета
Развратом изумил четыре страны света…
В письме издателю журнала Н. И. Гречу от 21 сентября 1821 года Пушкин досадовал на неуклюжую правку и намеренно растолковывал своему петербургскому корреспонденту: «… стихи относятся к американцу Толстому, который вовсе не глупец.»[103]103
Пушкин. Письма. Под ред. и примеч. Б. Л. Модзалевского. – М., Л., 1926. -Т. 1. – С. 24.
[Закрыть], а ровно через год сообщал П. А. Вяземскому о Толстом: «… сказывают, что он написал на меня что-то ужасное»[104]104
Там же. – С. 34.
[Закрыть].
Эпиграммы Пушкина вызвали, надо полагать, у Толстого ярость, и он, не имея возможности утихомирить ее пролитием крови, взялся за чернила. Так родилась в адрес недосягаемого Пушкина довольно увесистая эпиграмма:
Сатиры нравственной язвительное жало
С пасквильной клеветой не сходствует нимало.
В восторге подлых чувств ты, Чушкин, то забыл.
Презренным чту тебя, ничтожным сколько чтил.
Примером ты рази, а не стихом пороки,
И вспомни, милый друг, что у тебя есть щеки[105]105
Литературная мысль. – Пг., 1923. – С. 228.
[Закрыть].
После такого поэтического турнира Пушкин желал «совершенно очиститься». В день приезда в Москву из Михайловского, 8 сентября 1826 года, он через С. А. Соболевского послал Толстому вызов[106]106
Русский архив. – 1865. – N 2. – С. 39.
[Закрыть], но дуэль, к счастью, не состоялась.
* * *
В 1937 году в восьмом номере «Литературной газеты» М. А. Цявловский рассказал о своей новой находке. Ею была эпиграмма:
Твои догадки сущий вздор,
Моих стихов ты не проникнул.
Я знаю – ты картежный вор,
Но от вина ужель отвыкнул?
Стихотворение было записано на клочке бумаги вместе с «Пророком», выправленным рукой М. П. Погодина, и стихами на М. Т. Каченовского «Как сатирой безымянной Лик зоила я пятнал…» Подписи под четверостишием не оказалось, но Цявловский соотнес его с текстом эпиграммы на Толстого-Американца и, естественно, пришел к заключению, что оно тоже принадлежит Пушкину. Тут же он высказал соображение о датировке новонайденной эпиграммы. По его мнению, она сочинена после выхода в свет «Сына Отечества» с упомянутым посланием Чаадаеву, т. е. после 1821 году, когда до Пушкина, как решил Цявловский, дошло известие, что кто-то увидел в стихах, адресованных Толстому, себя и крепко обиделся.
Предположение Цявловского о ком-то, якобы принявшем на свой счет стихи, метившие в Американца, и спровоцировавшем таким образом эпиграмму «Твои догадки сущий вздор…» не кажется обоснованным, ибо Пушкин сделал все, чтобы Толстой угадывался в послании Чаадаеву безошибочно. Вмешательство цензуры пушкинских усилий не умалило. На узнавание работала ситуативная семантика стихов, их жесткая ориентация на конкретное лицо, характерологическая образность, а еще их связь с более ранними стихами, тоже адресованными Толстому-Американцу и принадлежащими друзьям поэта. Среди таких стихов было и послание Д. Давыдова «Другу-повесе» (1816):
Болтун красноречивый,
Повеса дорогой!
Прошу тебя забыть
Нахальную уловку,
И крепс, и понтировку,
И страсть людей губить.
Еще ближе пушкинским стихи Вяземского Американцу, которые он в 1818 году прислал из Варшавы А. И. Тургеневу; их читал адресату, Ф. Толстому, В. Л. Пушкин:
Американец и цыган,
На свете нравственном загадка,
Которого, как лихорадка,
Мятежных склонностей дурман
Или страстей кипящих схватка
Всегда из края мечет в край,
Из рая в ад, из ада в рай!
Которого душа есть пламень,
А ум – холодный эгоист;
Под бурей рока – твердый камень!
В волненьи страсти – легкий лист![107]107
Вяземский П. А. Стихотворения. – Л., 1986. – С. 114, 462
[Закрыть]
Наконец, сходный портрет Толстого дан Репетиловым в «Горе от ума»:
Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
И крепко на руку нечист…
Прочитав эти строки в списке, принадлежавшем Ф. П. Шаховскому, Толстой «для верности портрета» отредактировал текст: «В картишках на руку нечист…»[108]108
Об этом: Толстой С. Л. Федор Толстой Американец. – М., 1990. – С. 54.
[Закрыть]. Стоит заметить, что стихи А. Грибоедова уже в 1823 году были известны, по крайней мере, его приятелям. Недаром в ноябре этого года Пушкин спрашивал Вяземского: «Что такое Грибоедов? Мне сказывали, что он написал комедию на Чаадаева…»[109]109
Пушкин. Письма. – Т. 1. – С. 61.
[Закрыть].
Сомнительно, что при такой популярности Ф. Толстого, человека шумной славы, ветерана двух войн, совершенно своего в литературных и светских кругах обеих столиц, кому-либо из знакомцев Пушкина пришлось ошибиться и принять стихи об Американце на свой счет. Следовательно, приходится предположить, что сочинение «Твои догадки сущий вздор…» лишь фразеологически связано с эпиграммой на Толстого и соответствующими ей хлесткими стихами в послании Чаадаеву. Строчка «Моих стихов ты не проникнул.» имеет в виду не эти стихотворения, а какой-то иной текст.
Поиски ответа ведут к Михаилу Алексеевичу Бестужеву-Рюмину, скандально известному в Петербурге журналисту, горе-пьянице и азартному картежнику, чья небогатая домашняя мебель состояла преимущественно из ломберных столов. В 1830–1831 годах он издавал газету «Северный Меркурий», и недруги издателя печатно аттестовали его Пьянюшкиным, а газету именовали «Вором» по ассоциации с мифологическим Меркурием, богом промышленности, торговли и воровства[110]110
Об этом: Петербургский старожил В. Б. Мое знакомство с Воейковым в 1830 г. и его пятничные литературные вечера // Русский вестник. – 1871. – № 10. – С. 622.
[Закрыть]. Пробовал ли Бестужев «исправлять ошибки фортуны» за карточным столом, как это нередко проделывал Толстой, трудно сказать, но, будучи издателем и редактором альманахов, он беззастенчиво обирал литераторов, печатая произведения без ведома, согласия авторов и без каких– либо обязательств перед ними. Именно поэтому в среде потерпевших могло вспыхнуть еще одно прозвище игрока-журналиста – «картежный вор» как результат контаминации издательского пиратства и картежной страсти Бестужева, снискавшего своим откровенным цинизмом нешуточную ненависть со стороны обиженных[111]111
А. Ф. Воейков окольными путями добивался высылки Бестужева-Рюмина из С.-Петербурга // Там же. – С. 254, 622.
[Закрыть] В числе потерпевших был и Пушкин. В «Северной звезде», издаваемой Рюминым, без разрешения поэта были помещены стихотворения «Любви, надежды, тихой славы…», «Любимец ветреных Лаис…», «Она мила – скажу меж нами…» и три других. При этом издатель развязно благодарил Пушкина, якобы приславшего в альманах эти стихи. Пушкин был возмущен и обещал прибегнуть к покровительству законов[112]112
Краткая сводка эпизодов, определивших взаимную неприязнь Пушкина и Бестужева-Рюмина, дана в кн.: Пушкин. Письма. – М., 1935. – Т. 3. – С. 380–382. Б. М. Федоров, издатель «Санкт-Петербургского зрителя».
[Закрыть]. Обещания он не исполнил, но Рюмин был подвергнут экзекуции в «Собрании насекомых». Адресатов эпиграммы Пушкин обозначил звездочками по количеству слогов в их фамилиях и напечатал стихи в «Подснежнике» за 1830 год. П. А. Плетнев свидетельствовал, что эпиграмму надо читать так:
Мое собранье насекомых
Открыто для моих знакомых:
Ну, что за пестрая семья!
За ними где ни рылся я!
Зато какая сортировка!
Вот Глинка – божия коровка,
Вот Каченовский – злой паук,
Вот и Свиньин – российский жук,
Вот Рюмин – черная мурашка,
Вот Борька – мелкая букашка.
Куда их много набралось!
Опрятно за стеклом и в рамах
Они, пронзенные насквозь,
Рядком торчат на эпиграммах[113]113
Переписка Грота Я. К. с П. А. Плетневым. Под ред. К. Я. Грота. – СПб., 1886. – Т. 2. – С. 158.
[Закрыть].
В другой раз Плетнев показал, что под «мелкой букашкой» подразумевался издатель «Карманной книжки для любителей русской старины» (1829–1830), переводчик и писатель В. Н. Олин[114]114
Там же. – Т. 3. – С. 40.
[Закрыть]. Тот же, не предполагая, что, возможно, стал экспонатом «Собрания насекомых», на страницах «Карманной книжки» с хитрецой назвал пушкинское стихотворение «нескромным» и посоветовал особо интересующимся этой эпиграммой прочесть рецензию на «Подснежник», опубликованную, «с позволения сказать», лукаво замечал Олин, в сороковом номере «Северного Меркурия»[115]115
Карманная книжка для любителей русской старины. – 1830. – N 4. – С. 541.
[Закрыть]. Тем самым он прозрачно намекал на Рюмина как одного из адресатов «Собрания насекомых», ибо именно тому принадлежала рецензия, в которой пушкинская эпиграмма расценивалась как демонстрация заносчивости и поразительного самомнения[116]116
Северный Меркурий. – 1830. – N 40. – С. 159.
[Закрыть].
Выпад Олина не остался без ответа. Парируя его укол, издатель «Северного Меркурия» заявил, что не имел какой-либо «особенной» причины не одобрить «Собрание насекомых», ибо пушкинское стихотворение показалось ему «совершенно ничтожным». Намеки Олина он постарался обратить в бумеранг. «Некоторые замечают, – писал Рюмин, – что если в этом четырнадцатистишии и есть что-нибудь порядочное, справедливое, то разве, С ПОЗВОЛЕНИЯ СКАЗАТЬ, (нарочитое повторение слов Олина, выделено мною. – А. А.), одна только мелкая козявка (в «Подснежнике» 9 стих эпиграммы напечатан в иной, чем позже, редакции: «Вот [++] – мелкая козявка». – А. А.), ибо ей всего приличнее быть в «Собрании насекомых»[117]117
Северный Меркурий. – 1830. – N 55. – С. 217–218.
[Закрыть].
Этой пикировкой Рюмин и Олин обратили на себя злополучное читательское внимание и уже как бы независимо от авторского намерения оказались персонажами пушкинской эпиграммы[118]118
О журнальном поединке В. Н. Олина с М. А. Бестужевым-Рюминым: Лернер Н. Заметки о Пушкине // Пушкин и его современники. Мат. и иссл. – Вып. XVI. – СПб., 1913. – С. 19–76.
[Закрыть]. Ситуация стала еще пикантнее, когда «Собрание насекомых» в исправленной редакции, – и какой! «мелкая козявка» была заменена «мелкой букашкой»! – появилось в сорок третьем номере «Литературной газеты», и Рюмин со страниц «Меркурия» накинулся на Пушкина, паясничая и разыгрывая волнение из-за того, что скажет г. Олин, когда увидит, что «мелкая козявка» вдруг превратилась в «мелкую букашку»[119].119
Северный Меркурий. – 1830. – N 97. – С. 75.
[Закрыть]
Вероятно, это коварное заступничество, имеющее своей целью еще раз привлечь взоры к Олину, не могло не обеспокоить Пушкина. Эпиграмма доставила ему немало хлопот. Как писал Пушкин, она обратила «на себя общее внимание» и уже после первой публикации удостоилась двух пародий. Впрочем, и помимо «Собрания насекомых» Пушкин оказался в это время мишенью почти всех важных журналов и газет: его ругали и поругивали в «Сыне Отечества», «Северной Пчеле», «Вестнике Европы», «Московском Телеграфе»[120]120
Пушкин. Письма. – Т. 2. – С. 422.
[Закрыть]. Вряд ли среди недоброжелателей Пушкин хотел увидеть еще и Олина, впервые напечатавшего в «Карманной книжке» на 1830 год (цензурное разрешение 1829 года) пушкинское стихотворение «Княгине Голицыной, урожденной княжне Суворовой», или «Давно об ней воспоминанье…»
Быть может, эта ситуация и подтолкнула Пушкина попытаться дезавуировать неприятные Олину намеки Бестужева-Рюмина стихами «Твои догадки сущий вздор…»[121]121
Аналогичная логика просматривается в поведении Пушкина относительно Ф. Глинки. В ноябре 1831 года Пушкин, словно надеясь сгладить обиду, нанесенную эпиграммой, отправил Глинке письмо, где жаловался ему, что есть люди, желающие ссорить старых приятелей вздорными сплетнями. – Об этом: Пушкин. Письма. – Т. 3. – С. 440. Возможно, вторичная публикация эпиграммы в «Литературной газете» и была предпринята для того, чтобы придать тексту характер литературного упражнения. С этой целью прилагался квазинаучный комментарий, рассеивающий интерес к адресатам.
[Закрыть]. Впрочем, начальные строки эпиграммы можно прочесть и как ответ на инсинуации Рюмина, касающиеся Пушкина и его окружения. В статье «Мысли и наблюдения литературного наблюдателя» журналист, куражась, писал: «Есть злые люди, которые, не уважая отечественных дарований, распускают слухи, будто бы литературная слава Поэта, нашего Барона Дельвига, непосредственно зависит от приязни с А. Пушкиным и Баратынским, и будто бы пиитические произведения его не дурны более потому, что одна половина их (исключая, впрочем, гекзаметры, в коих многие стихи по особенному роду своему основаны на новых правилах, вводимых собственно Бароном Дельвигом) принадлежат Пушкину, а другая Баратынскому»[122]122
Северная звезда. – 1829. – С. 288–289.
[Закрыть].
Отповедь на эти измышления прозвучала со страниц «Северных цветов». Здесь О. М. Сомов, вступившись за поэтов, в частности, писал: «Прибавим еще, что ни издатель „Северной Звезды“, ни жалкий альманах его <…> не приобрели никакого права высказываться в свет с решительными приговорами кому бы то ни было; не говоря уже о дерзких намеках и ВЗДОРНЫХ ДОГАДКАХ» (выделено мною. – А. А.)[123]123
Северные цветы на 1830 год. – СПб., 1830. – С. 42–43.
[Закрыть].
Изложенные факты предлагают ключ к начальным стихам эпиграммы, а тем самым и основания для ее датировки. Но как объяснить два следующих стиха? Мы уже говорили о возможности в поэтическом сознании Пушкина контаминации страсти Рюмина к картам и маргинального значения мифологического божества по ассоциации с одноименной газетой, издаваемой злополучным журналистом. С учетом природы таких контаминаций, хорошо изученной психоаналитиками[124]124
См., например: Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному // Фрейд З. Избранное. – М., 1990. – С. 243–369.
[Закрыть], «картежный вор» – это удачная острота, естественная в игровом жанре, где обязательным элементом композиции является остроумная концовка. Что же касается заключительного стиха, то своим рождением он обязан, как нам кажется, механизму обмолвки[125]125
О механизме обмолвки: Фрейд З. Указ соч. – С. 150–168.
[Закрыть].
Поясним. Не исключено, что «картежный вор» повлек за собой ассоциацию об Американце, чье присутствие в пушкинской жизни почти не прерывалось. До 1826 года оно определялось неизменным намерением поэта «отплатить за тайные обиды». В более поздний период – работой над шестой главой «Евгения Онегина», где бретер Толстой предстал «во всем блеске» в образе Зарецкого, а после примирения бывших приятелей – их тесными дружескими связями.
В 1829 году образ Американца мог заново актуализироваться в пушкинском подсознании: Ф. Толстой стал посредником поэта в сватовстве к Н. Н. Гончаровой. Вообще, к 1829–1830 годам относится самый оживленный этап приятельства Пушкина с Толстым; тем больше оснований полагать, что в образе «картежного вора» суггестировалась тень Американца и что именно она оказала влияние на фразеологию и структуру заключительного стиха эпиграммы. Дело в том, что после женитьбы в 1821 году Толстой несколько остепенился: карточной игры не оставлял, но неоднократно бросал пить, накладывая на себя суровые епитимьи. Как писал Пушкин, «Отвыкнул от вина и стал картежный вор». С этим обстоятельством и связана обмолвка в интересующем нас четверостишии: «Но от вина ужель отвыкнул?» Вопрос вроде бы обращен к Рюмину, но он бы и не возник, если подсознательно не был адресован Толстому-Американцу[126]126
Фрейд считал, что подобные «двойственность» и «лицемерие» более, чем другим психическим образованиям, свойственны так называемому «тенденциозному остроумию». – Фрейд З. Указ. соч. – С. 316, 319. – Именно оно и организует материал пушкинской эпиграммы, ее заключительных строк.
[Закрыть].
Аргументация нашего соображения может быть усилена ссылкой на теорию высказывания как единицы речевого общения; тем более, что изустная природа эпиграммического жанра как бы обнажает необходимость апелляции к учению о «речевом взаимодействии» М. М. Бахтина. Ведущее начало в его теории – мысль о «диалогических обертонах», которыми наполнено высказывание. «Во всяком высказывании, – отмечал Бахтин, – при более глубоком его изучении в конкретных условиях речевого общения мы обнаружим целый ряд полускрытых и скрытых чужих слов разной степени чуждости»[127]127
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986. – С. 288.
[Закрыть]. Чужие слова, введенные в высказывание, «вносят в него нечто, что является, так сказать, иррациональным с точки зрения языка как системы»[128]128
Там же. – С. 287.
[Закрыть]. В работе «Проблема речевых жанров» Бахтин писал: «… очень часто экспрессия нашего высказывания определяется не только – а иной раз и не столько – предметно-смысловым содержанием этого высказывания, но и чужими высказываниями на ту же тему, на которые мы отвечаем, с которыми мы полемизируем…»[129]129
Там же. – С. 286–287.
[Закрыть]. Выразительной иллюстрацией к размышлениям Бахтина служит интонированная на чужое высказывание пушкинская строка «Но от вина ужель отвыкнул?» Как замечал Бахтин, «интонация особенно чутка и всегда указывает на контекст»[130]130
Там же. – С. 287.
[Закрыть].
В отличие от Ф. Толстого, Рюмин никогда от вина «не отвыкал», и Пушкин знал об этом. В августе 1831 года он спрашивал Плетнева: «Кстати, не умер ли Бестужев-Рюмин? Говорят, холера уносит пьяниц»[131]131
Там же. – С. 287.
[Закрыть]. Бестужев умер 6 марта 1832 года в возрасте тридцати трех лет, но не от холеры, а сильной простуды.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































