Текст книги "День шестой"
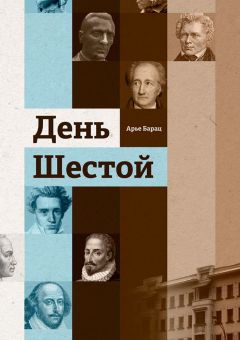
Автор книги: Арье Барац
Жанр: Общая психология, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
На пол со звоном упал нож. Пушкин вздрогнул, легкая надежда блеснула в глазах, но тут же померкла. Примета не сработает. Белые ночи сбивают с толку, но часы уже пробили десять раз. Гоголь не придет. Ну и день рождения выдался в этом году – родился Пушкин, а чествуют Дантеса! Эх, Нащокин, Нащокин, как тебя здесь не достает! Ты бы всех сейчас поставил на свое место. Всем бы дал понять, кто в этом доме хозяин!
* * *
В тот день с утра профессор филологии Московского университета Владимир Сергеевич Печерин покинул Москву.
Еще зимой он обратился в Совет университета с прошением: «Непредвиденные обстоятельства, требующие моего присутствия в Берлине для свидания с одним весьма близким мне семейством, равно как и намерение напечатать у книгопродавца Дюмлера мою диссертацию: De Anthologia Graeca – заставляют меня просить покорнейше совет Императорского университета об исходатайствовании мне от начальства позволения ехать в Берлин, в отпуск, на время летних вакаций».
А за несколько дней до католической пасхи ему был дан положительный ответ. Университетский попечитель граф Строганов истолковал слова Печерина как его намерение жениться, и решил, что это благотворно скажется на его образе мыслей.
Но образ мыслей Владимира Сергеевича сложился вполне определенный и пересмотру уже не подлежал:
– У России нет будущего, в ней не дано зародиться ничему живому: все разумное будет разрушено, все живое будет уничтожено.
Это не было предчувствием, это было глубинным ощущением Владимира Сергеевича: будущего в России у него нет. В России он осужден либо превратиться в злобного и черствого чиновника, либо закончить свою жизнь в рудниках.
– Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтожения! – повторял про себя Печерин, с привычной тоской вглядываясь в прогнившие серые заборы и просевшие черные избы, то там, то тут разбросанные вдоль Смоленской дороги.
Какое счастье, через две-три недели он будет в Базеле и уже никогда больше не увидит этих ужасных нагоняющих чувство безысходности сооружений!
6 (18) июня
Копенгаген
Серен Кьеркегор проснулся с раскалывающейся головой, на душе было пугающе пусто. Накануне он определенно хватил лишнего.
После университета они с Йоханнесом выпили на площади Нюторв несколько кружек пива.
– Пьянка подобна войне, – говорил, попыхивая сигарой, Серен. – Всегда знаешь, как ее начать, но не знаешь, как закончить.
Так и произошло. После кафе они зашли в студию полузнакомого художника, где продолжили возлияния с самим живописцем и двумя его натурщицами.
Оттуда друзья направились в оперу, слушать моцартовского «Дона Джованни», но почти все время просидели в фойе, потягивая вино и громко споря о Шеллинге, лекции которого Кьеркегор выражал желание послушать. Визит в оперу вспоминался отрывочно, и главное, Сёрен совершенно не помнил, как добрался домой и свалился в постель.
– Если бы я не выпил накануне пять кружек пива и две бутылки вина и испытал вдруг эту дикую тяжесть в голове, этот разлад всех членов, эту тошноту, я бы счел себя опасно больным, я бы подумал, что умираю и немедленно бы вызвал врача. Как же теперь я считаю это состояние чем-то естественным? Оно должно быть названо своим именем, – это болезнь, тяжелая страшная болезнь, которая не может остаться без последствий, и от которой необходимо вылечиться раз и навсегда!
Мне 23 года, я взрослый человек веду дурную жизнь, учусь спустя рукава; я дуюсь на отца, и в то же время проматываю его деньги.. Я не понимаю, зачем живу, не понимаю, что происходит вокруг, но по меньшей мере понятно одно – так продолжаться больше не может.
С раннего детства Сёрен страдал от строгости отца – Микеля, шесть лет назад отправившего его в Университет на богословский факультет. Отношения между деспотичным отцом и независимым сыном никогда не были простыми, но в какой-то момент между ними наступил серьезный разлад.
В семье все знали от отца о его великом грехе, о том, как будучи 11-летним пастушком, он, изнемогая от холода, проклял Творца. Бог воздал бунтарю благополучием и достатком. Разбогатевший на производстве чулков Микель не находил более повода сердиться на Создателя, но с тем большим основанием он убивался из-за своей детской вспышки и опасался какой-то страшной кары.
После того как в 1819 умер один из его сыновей, Микель заподозрил, что проклятие состоит в том, что никто из его детей не достигнет возраста Христа. И действительно, в последующие 14 лет у него умерли еще один сын и три дочери. Таким образом, у Микеля из семи детей осталось в живых только двое – Педер-Христиан, избравший к вящей радости отца религиозное поприще, и Серён.
Однако, как выяснилось, над Сёреном витало еще одно тайное проклятие, которое как раз и привело его к бунту против родителя.
Сёрен занимал в семье особое положение, он был не просто последним ребенком, он был единственным сыном второй жены Микеля – Анны.
Однако эта его особенность, как оказалось, не была единственной. Однажды вернувшись в неурочный час домой, Сёрен застал отца за молитвой. Не заметив появления сына, Микель продолжал громко стенать, и из вырывавшихся у него слов Сёрен понял, что является… внебрачным ребенком, что Микель овладел служанкой, ухаживавшей за его умирающей женой! Его – Сёрена – зачатие, по-видимому, явилось для любовников полной неожиданностью – ведь Микелю в ту пору было 57 лет, а Анне – 45.
По-человечески они никогда не были близки, и очевидно, что только рождение сына вынудило Микеля и Анну вступить в брак. Может быть, поэтому у Сёрена не сложилось с матерью близких отношений.
С той минуты набожность отца померкла в глазах сына, он стал выказывать ему открытое пренебрежение и коротать время в компании бездельников.
Но когда-то нужно было взрослеть, когда надо было самому встать лицом к лицу к тайне своего появления на свет; когда-то надо было принять себя, а тем самым и второй брак отца, оправдать этот брак.
Время это пришло, решил для себя в то утро Кьеркегор.
* * *
В этот же день Печерин пересек западную границу Российской империи, а Гоголь и Данилевский вступили на борт парохода «Николай I», отплывавший в Гамбург.
13 (25) июня
Веймар
Перед своей поездкой в Россию Тургенев по просьбе Пушкина заехал в Веймар, чтобы собрать материалы о Гете. Он остановился в гостинице Слона, и большую часть времени увлеченно работал, не забывая при этом вкусно поесть и сладко поспать.
В этот день, вялый и еще до конца не оправившийся после двухчасового послеобеденного сна, он спускался из своего номера в прихожую и столкнулся на лестнице с Мельгуновым, только что вселившимся в гостиницу.
– Здравствуйте, дорогой Александр Иванович! – воскликнул Мельгунов. – Я слышал, что вы направляетесь в Россию, и не чаял уже вас здесь повстречать.
– Вот по дороге решил заехать в Веймар, пишу тут для «Современника» о Гете, как он продолжает жить в своем городе даже после своей смерти. Вы знакомы с канцлером Мюллером?
– Не имею чести.
– Я вас непременно представлю. А пока заглянем в местный трактир. Тут прекрасные перепела, что-то невообразимое. Вам заказать?
– Как вам будет угодно.
Через четверть часа разговор продолжился за богато накрытым трактирным столом.
– Откуда вы? Какие планы? – поинтересовался Тургенев.
– Последнее время в Берлине жил. С Гумбольдтом, с Варнгагеном фон Энзе общался. Теперь вот в Ганау к доктору Коппу должен заехать, ну а потом в Мюнхен. В любом случае я твердо намерен познакомиться с Шеллингом… Великий мыслитель. Одоевский верно сказал, что в философии нашего века он занимает такое же положение, которое в XVI веке Колумб занимал в мореплавании… Вы сами-то в Мюнхен не собираетесь? Может быть вместе навестим Шеллинга?
Тургенев отрицательно покачал головой. По Шеллингу он скучал, но в Мюнхен не собирался. Два года назад там ему очень уж «зашибла сердце» местная вдовушка Эрнестина Дёрнберг. Александр Иванович ухаживал за ней, было объяснение, но дело далее того не пошло. Умная и блестящая на вид, внутри эта дама оказалась безжалостной сердцеедкой. Атташе Тютчев тоже оказался к ней в ту пору неравнодушен, и они вместе с Тургеневым обсуждали тогда свою неудачу. Но вот теперь доходит слух, что у Тютчева и Эрнестины роман, что жена Тютчева покушалась на свою жизнь!
Нет, себя надо щадить. Пока эта роковая особа остается в Мюнхене, от этого города следует держаться подальше!
– В Мюнхен я уже не поеду, я тороплюсь. Но там ваш давний друг Тютчев, он вас, конечно же, познакомит с Шеллингом.
– Я списывался с ним. Тютчев как раз сейчас собирается в Россию, я не уверен, что застану его.
– Так он из-за этого скандала что ли?
– Вы, я вижу, тоже слыхали? Я так понял, что ему в Мюнхене оставаться уже невозможно. Роковая ситуация. А вы знали, что он замечательный поэт? Пушкин опубликовал в своем «Современнике» десятки его стихов.
Знал ли Тургенев? Конечно!
Тургенев видел однажды Эрнестину молящейся в храме. Молитва в устах этой холодной кокетки показалась Тургеневу неуместной. Он прозвал ее Мадонной Мефистофеля, и сумел передать свое ощущение Тютчеву, который тогда же посвятил Эрнестине стих:
«И чувства нет в твоих очах,
И правды нет в твоих речах,
И нет души в тебе.
Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении Творца!
И смысла нет в мольбе!»
Тургенев зачитал этот стих по памяти и спросил:
– Это стихотворение в «Современнике» публиковалось?
– Этого вроде бы не было.
– Когда-нибудь обязательно где-нибудь появится. Это о ней… об Эрнестине. Как говорится в книге Эклизиаст «И понял я, что горше смерти женщина» и как там дальше: «Чего еще искала душа моя, и я не нашел? – Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел».
– Мюнхен на данный момент – моя главная цель, – продолжал Мельгунов. – Но начать, как видите, я решил все же с Веймара, со свидания с Гете. А как вы здесь проводите время?
– Мюллер устроил мне потрясающий прием. Столько интересного рассказал. Он сопровождал меня в поездке в сельский дом Гете в Тифурте. Вам, Николай Александрович, обязательно надо там побывать. Дом этот превращен в музей Мирового духа. Каждый из великих людей, навестивших Гете в его уединении, оставил ему на память какой-то сувенир, какой-то след. Теперь Тифурт – это святыня германского гения, ковчег народного просвещения. Мюллер рассказал мне, что последние слова Гете перед смертью были: «Свету, больше свету!»…. Ах, я столько всего увидел и услышал в этот раз в Веймаре… Надеюсь Пушкин останется доволен моим отчетом. Вы вообще здесь раньше бывали? Встречались с Гете?
– Не напоминайте мне, – криво усмехнулся Мельгунов. – Как-то по дороге из Парижа я заехал в Веймар, и действительно познакомился с Гете, но воспоминание двойственное сохранилось.
– Вы посетили Гете вместе с кем-то?
– Если бы! Один. Сам бы я, конечно, не дерзнул потревожить автора «Фауста», но когда Мериме – я был вхож в его круг – услышал, что я заеду в Веймар, то попросил передать Гете книгу «La Guzla». Я, конечно, такой возможности обрадовался. Всю дорогу воображал, что скажу Гению, но при встрече так законфузился, что до сих пор неловко. Впрочем, сколько мне тогда было? – Двадцать два. Ваши встречи с Гете, наверняка, были счастливее моей.
– Не все. Одна была, думаю, не лучше вашей, но однажды за три года до смерти Гения я действительно провел с ним незабываемый час за бутылкой вина. Беседовал с ним, как мы сейчас с вами.
– Я наверно умру от досады за упущенную возможность, но все равно расскажите.
– Помнится, я сказал ему, что всегда с удивлением слышу о его наградах. Что думают владыки, увешивая орденами грудь писателя, в которой бьется сердце Вертера? – спросил я его.
«Согласно нашему дорогому Шеллингу, цари прислуживают поэтам», – ответил мне Гете. – «Они делают это, как умеют. Меня, во всяком случае, иногда трогает их забота. А почему вы сказали, что здесь бьется сердце Вертера, а не Фауста?».
Я не решился ему сказать, что, по моему мнению, его «Фауст» принес в мир соблазн, но просто ответил, что ставлю Вертера выше Фауста.
– А что вы, собственно, против «Фауста» имеете? – поинтересовался Мельгунов.
– Если подвести общий итог, то книга эта опасна… ей лучше было бы не быть написанной. Ни познание, ни красота не являются высшей ценностью, а по «Фаусту», именно так и получается.
– Вы хотите сказать, что нравственность выше красоты? Что, как говаривал Пушкин, гений и злодейство несовместимы?
– Именно это.
– Но, ведь и Пушкин очень высоко чтит «Фауста». Да и по Шеллингу искусство выше морали, – возразил Мельгунов. – В этом, мне думается, его отличие от Гегеля. По Гегелю высшей инстанцией является разум, а по Шеллингу – искусство, сверхразумное единство.
– Верно. Странно, что я никогда не обращал на это внимания… Вы знаете, Николай Александрович, мне это напоминает один спор, в котором я стал невольным участником. В 1829 году я провел некоторое время в Бонне, слушал в тамошнем университете лекции Нибура и Шлегеля. В то время там учились два молодых еврея – Авраам и Шимшон. Авраам – умница, прекрасный образец просвещенного еврейства, которого теперь немало в Германии, а Шимшон, при всей своей тяге к знаниям, сохранял иудейское упрямство и косность. Они постоянно спорили.. и вот один их спор был как раз на эту тему… Авраам говорил, что только критический разум, только положительная наука могут приниматься во внимание при оценке традиционной веры, что все, что разумным критериям не соответствует, должно быть отброшено. А Шимшон как раз утверждал, что Бог Израиля и выше разума, и выше морали… И пример он привел самый вызывающий. «Почему вера иудеев всеми осмеяна, почему евреи повсюду слывут каким—то историческим шлаком, от которого все стремятся скорее освободиться? Потому что разум внушает, что универсальный Бог не может быть Богом какого-то одного племени, а если может, то только временно. Так говорит разум. Но Бог так не говорит. Бог говорит, что Он возлюбил Израиль вечной любовью, и что Его завет с ним вечен».
– В тот момент мне все это показалось какой-то досадной слепотой, но теперь я вижу, что и Шеллинг мыслит близким образом. Он ведь действительно ставит Искусство, а значит Мировой Дух, и выше разума и выше морали.
Франкфурт
Александр Иванович довольно точно описал своего собеседника – фанатичного иудея, студента Боннского университета.
То был Шимшон Гирш, который в 1829 году после двух лет учебы в Мангеймской йешиве решил заняться философией и всеобщей историей. Cын раввина Рафаила Гирша, с детства живший в атмосфере глубокой веры в Творца, Шимшон впервые по-настоящему столкнулся с еврейской молодежью, глубоко презиравшей религию своих отцов.
Он пытался понять своих собеседников, но понял прежде всего одно: чтобы вернуть этих еврейских юношей Богу, нужно освоить язык просвещения, нужно быть на их уровне. Как хорошо, что он поступил в университет!
Между тем среди боннских недругов еврейской традиции несколько особняком стоял один студент – Авраам Гейгер, столь понравившийся Александру Ивановичу. В отличие от многих других еврейских сверстников Шимшона, этот юноша был хорошо знаком с традицией, свободно читал Талмуд и был способен разъяснить даже весьма сложные места. И в то же время Авраам видел свою основу не в еврейском откровении, а в европейском рационализме.
В 1831 году Шимшон оставил университет и стал главным раввином небольшого герцогства Ольденбург, у границы с Голландией. Авраам вскоре получил место раввина в Висбадене.
Год назад, когда Шимшон Гирш был уже близок к завершению работы над своим «Хоревом», он получил в руки первый номер журнала, изданного Авраамом Гейгером.
Оказалось, что Авраам тоже не стоял на месте. Пойдя путем реформизма, он пытался полностью подчинить веру Израиля идеалам просвещения. В своем журнале Гейгер призывал удалить из молитвенников всякое упоминание о Храме, и полностью отказаться от идеи избрания Израиля. Как явствовало из ряда статей, предметом веры по Гейгеру должно было служить лишь то, что открылось в критическом научном анализе. «Я хочу доказать, что все основания нынешнего иудаизма – плод исторического развития, а потому не могут иметь никакой обязательной силы».
И вот теперь они снова столкнулись. Столкнулись во Франкфурте на Юденштрассе 152, в узком четырехэтажном доме с эмблемой Красного Щита, где проживала вдова Майера Ротшильда – 83-летняя Гутле, и где часто появлялся ее сын – глава франкфуртского ответвления семейного банка – барон Амшель Майер. Здесь решались финансовые вопросы, но здесь также свершались и дела благотворительности.
Авраам Гейгер, уроженец Франкфурта, бывал в этом доме многократно по самым разным поводам, и сейчас пришел просить денег на издание своего «Научного журнала еврейской теологии». Шимшон Гирш приехал попросить денег на поддержание школы.
Впервые Шимшон был тепло принят в этом доме в 1827 году, по дороге из Гамбурга в Мангейм, где он намеревался начать учебу в йешиве Йакова Этингера.
Живой и искренний девятнадцатилетний юноша из знатного раввинского рода полюбился и Гутле, и Амшелю Майеру. В значительной мере именно благодаря поддержке барона Гирш был назначен на должность раввина княжества Ольденбург.
– Пожалуй, только в этом доме мы еще можем иногда повстречаться, – усмехнулся Шимшон, протягивая руку бывшему однокурснику.
– Но не слышать друг о друге мы не в состоянии… Я читал «Письма» Бен Узиэля, талантливо и местами очень сильно… но это как раз те места, в которых ты полемически заостряешь нападки твоих оппонентов, мои нападки. Я сразу догадался, кто автор. Помнишь наши споры на скамейке в саду боннского университета? Назвав иудаизм мумией, набальзамированным трупом, не мои ли ты слова употребил?
– Не только твои… Виленский Гаон также называл иудаизм трупом. Он говорил, что еврейский народ умер, когда был изгнан из Земли Израиля, но что момент его воскрешения из мертвых приближается! В наши дни его последователи возвращаются в Сион, упоминание о котором ты призываешь выкинуть из молитвенников. Один из них недавно приезжал в Германию, собирал вспоможение. Он выступал в моей общине и рассказал, что они восстанавливают сейчас в Иерусалиме синагогу Хурва, разрушенную несколько веков назад.
– О чем ты говоришь, какое избавление? Какое возвращение в Сион? Для этого нет ни возможностей, ни средств, а главное, нет смысла… Просветители открыли новый смысл, общий всему человечеству. Как это замечательно сказано у Канта: «Все, что человек сверх доброго образа жизни предполагает возможным сделать, чтобы стать угодным Богу, есть лишь иллюзия религии и лжеслужение Богу».
– Это справедливо в отношении народов, но недостаточно для еврея, которому как раз поручено все же нечто «сверх». Пойми, у евреев свое предназначение, и никакие достижения прогресса не отменяют его.
– Просвещение, идеалы равенства несовместимы с избранием.
– Позволю себе с тобой не согласиться. Избрание не отменяет равенства. Избирая себе супругу, человек не умаляет человеческие права прочих женщин. Он просто выделяет одну из них для себя. Точно так же, выделяя Израиль для Себя, выделяя его требованиями Своего Закона, Бог не умаляет прочих людей. Я не спорю, что язык просвещения должен быть освоен еврейским миром. Но в первую очередь следует показать этому просвещенному миру, что Израиль остается народом священников, что никакие идеалы свободы, равенства и братства не способны лишить его избранности, как они не способны лишить человека возраста и пола.
15 (27) июля
Мюнхен
В университете начались летние каникулы, и у Шеллинга появилась, наконец, возможность целиком предаться редактированию своих старых сочинений. Однако работа едва продвигалась.
Он было принялся править «Философию мифологии», но вскоре решил, что к ней следует сделать введение. Начал уже его писать, но обнаружив, что вязнет, перекинулся на «Философию откровения». Провозившись с этой рукописью целый день, бросил и ее, и принялся редактировать философский отдел «Мюнхенских ученых записок».
Чувство досады нарастало, а тут еще где-то сбоку все время скребла в голове совершенно посторонняя мысль, связанная с его весенним наблюдением – видением двух параллельных, никогда не пересекающихся, никогда не накладывающихся друг на друга ночей – Пасхальной и Вальпургиевой.
Что-то, как казалось Шеллингу, сулило здесь последний прорыв, выглядело каким-то кодом истории, какой-то давно искомой им точкой соприкосновения природы и культуры. Ведь две эти ночи – не только природный, но благодаря Гете, еще и литературный феномен!
Эх, если бы Гете был жив и молод, чтобы он сотворил из этой идеи! Как бы он обыграл сей парад календарей, да еще при его любви к астрологии! Как бы он свел воедино две эти параллельные линии – Хребет Брокенских гор с грядой Иудейских холмов!
Возможно, этот сам собой напрашивающийся роман как раз и должен явиться последней точкой великой поэмы, которая творится Мировым духом!
Как жаль, что сам он – Шеллинг – уже не в силах взяться за такое дело! Как жаль, что его навык литератора давно утрачен!
9 (21) августа
Петербург – Каменный остров
Два месяца на Каменном острове было покойно. Гостей у Пушкиных было немного, Александр Сергеевич мог работать без помех, и к 23-му июлю завершил «Капитанскую дочку».
Идея повести возникла еще в 1832, но приходилось отвлекаться то на «Дубровского», то на «Историю Пугачева», так что работа затянулась. Но не жаль. Зато теперь удалось привнести в нее мысль, промелькнувшую у него на Басманной, во время чтения Шеллинга.
Роман о великих поэтах, в едином Духе творящих единую Поэму, он еще напишет! Но пока в «Капитанской дочке» характер самого этого Духа он все же обозначил. Дух этот мятежный, мятущийся Дух: ведь он вдохновляет и на совращение Гретхен, и на нелепое лжеслужение Дульсинее, но так же и на бесстрашную любовь к Джульетте! Случается, что самозванец Пугачев творит правый суд, и тогда истинная царская власть подтверждает его!
Еще неделю поэт безмятежно упивался радостями творчества, однако в начале августа в Новой Деревне разместился вернувшийся с маневров Кавалергардский полк, и все решительно изменилось: пришло время балов.
Появился на берегах Большой Невки также и обворожительный Жорж Дантес, теперь уже в своем новом качестве высокородного аристократа и завидного жениха.
Четыре месяца – с самого траура по Ольге Осиповне – Дантес не встречался ни с кем из четы Пушкиных, но теперь отплатил себе сторицей и постоянно терся подле сестер Наталии и Екатерины, встречаясь с ними на балах, на прогулках в парке, а порой даже и у них на даче.
Поручик усмотрел в ухаживании за обеими сестрами двойную пользу: с одной стороны, ничем не предосудительное ухаживание за девицей позволяло ему находиться в постоянной близости к дому Пушкина, а с другой – возбуждало ревность у Наталии Николаевны.
В раскрепощенной дачной атмосфере Дантес перестал скрывать свою страсть даже на людях, и как-то раз, улучив момент, стал умолять Наталию Николаевну принадлежать ему.
– Жорж, мы ведь уже обсудили этот вопрос. Вы видите, что мое сердце принадлежит вам, но большего не требуйте и не ждите.
– То, что ты говоришь, жестоко и глупо, Натали. Нет никакой причины душить наши чувства… Это те редкие и драгоценные мгновения бытия, ради которых мы и пришли в этот мир. Мы будем преступниками, если во имя каких-то условностей их упустим.
Настойчивость Дантеса и пылкость его признаний не оставляли Наталью Николаевну равнодушной. Она, конечно, следила за тем, чтобы не переступить грани приличия, но не имела мужества решительно оттолкнуть Дантеса, постоянная близость которого сладостно волновала ее.
Совместные танцы и прогулки, проникновенные взоры и острые речи были немедленно замечены светом и сделались предметом всеобщего обсуждения.
Александр Сергеевич был раздражен и подавлен. Он не раз разъяснял своей жене, как ей следует держать себя с государем, явно неравнодушным к ее прелестям. Это было по-настоящему опасное противостояние, и Пушкин категорически запрещал Наталье кокетничать с Николаем. Но унижаться какими-то замечаниями относительно Дантеса он был не в состоянии. Как-нибудь сама с этим франтом управится. Приревновать свою жену к этой наполнявшей кавалергардский мундир пустоте поэт был определенно не способен. Не говоря уже о том, что у него имелся волшебный талисман – золотой перстень с еврейскими каббалистическими письменами и восьмигранным сердоликом, который ему подарила при их расставании княгиня Воронцова. Ее напутствие поэт переложил в словах:
Милый друг! От преступленья,
От сердечных новых ран,
От измены, от забвенья
Сохранит мой талисман!
Безгранично веривший в любовь своей жены и в силу своего амулета, Пушкин не опасался супружеской измены. Но его неожиданно смутило другое. Наглость и дерзость поручика в любой момент могли привести к взрыву, могли обернуться дуэлью, а ведь заморский щеголь был блондин!
Подавленность и тревога скорой смерти нашли выход в поэзии. В этот вечер Пушкин написал первую строку будущего стихотворения: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».
12 (24) августа
Москва
В этот вечер Петр Яковлевич Чаадаев явился в Английский клуб. Москвичи в эту пору все еще оставались на дачах, и зал был заполнен лишь на треть сравнительно с разгаром сезона.
Тем не менее тот, кого разыскивал Чаадаев, находился в клубе.
Зайдя в библиотеку, Петр Яковлевич увидел зарывшегося в газету редактора «Телескопа» Николая Ивановича Надеждина, и чинно с ним поздоровался.
Николай Иванович приосанился. В свое время они с Чаадаевым несколько раз хлестко схватывались, и в последний год даже здесь, в непринужденной остановке Английского клуба, редко друг с другом заговаривали.
На сей раз по чопорному виду Чаадаева Надеждин сразу понял, что предстоит какое-то объяснение.
– Прочитал последний выпуск вашего «Телескопа», дорогой Николай Иванович, и нашел его весьма поучительным. Самому захотелось бы у вас что-нибудь напечатать.
– Будем рады. А что имеете предложить?
– «Философические письма». В свое время вы ведь читали их, насколько я помню. Сейчас я подготовил русский перевод и ищу издателя. Что скажете?
Надеждин оживился. Издание его журнала в действительности шло к упадку, и взбодрить его чем-нибудь скандальным представлялось весьма заманчивым. На ловца и зверь бежит.
– Я прекрасно помню эти ваши «Письма». С работой вашей в рукописях многие знакомы. Предложение лестное, не скрою. Дело за малым, надо как-то суметь обойти цензуру.
– Вот и я о том же. Вы ведь с Болдыревом соседствуете… Может как-то по-приятельски удастся это дело продвинуть?
– Давайте мне рукопись. Я просмотрю ее, и подумаю, что можно сделать.
– Вот, извольте, – Чаадаев протянул Надеждину аккуратную синюю папку.
– В ближайший номер это уже в любом случае не попадет. Надо думать уже по осени. Но оно так и лучше – через месяц как раз публика с дач потянется. Как только с цензурой прояснится, я дам вам знать.
16 (28) августа
Мюнхен
В середине дня Мельгунов прибыл, наконец, в Мюнхен и, остановившись в гостинице, первым делом направился в русское посольство. Вопреки его опасениям, второй секретарь русской миссии в Баварии и старинный товарищ по кружку любомудров Федор Тютчев находился на месте.
– Уже не чаял тебя здесь встретить, – обрадовался Мельгунов.
– Ничего не поделать, князь Гагарин слег. Я почти месяц его заменял, исполнял обязанности поверенного в делах. Не знаю, сколько все это еще протянется… Но долго я здесь не останусь. Вообще дипломатическую службу хочу бросить. Ты, разумеется, слышал мою историю?
– Кое-что еще в Москве слышал, а в Веймаре встретился с Тургеневым. Он рассказал мне, будто бы ты влюблен в роковую женщину, к которой и он был неравнодушен. Прочитал твой стих, ей посвященный.
– Какой еще стих?
– Что-то про отсутствие чувства в ее очах…
– Я был не прав. Эрнестина Дёрнберг необыкновенная женщина. С той поры я посвятил ей немало совершенно других стихов… Но между нами все кончено. Я пообещал жене прекратить с Эрнестиной все отношения, а месяц назад она сама покинула Мюнхен. Временами очень тяжело, сердце разрывается в разлуке с созвучной близкой душой, но я преодолею… Обязан преодолеть. Но хватит об этом, ты ведь наверняка с Шеллингом приехал знакомиться? А его, представь, сейчас нет в Мюнхене.
– Вот как? Где же он?
– Я не знаю. Неделю назад сам его искал… Мне сказали, что раньше чем через месяц он не появится. Но можно зайти к нему домой и выяснить подробности у его домашних.
– Было бы замечательно…
17 (29) августа
Мюнхен
На другой же день супруга Шеллинга Паулина приняла Тютчева и Мельгунова.
На вид ей было чуть более сорока. Тонкие черты лица были все еще очень привлекательны. Это явилось неожиданностью для Мельгунова: он никогда не слышал, и тем более не предполагал, что жена первооткрывателя Мирового Духа столь привлекательна.
– Скажу вам честно, что мой муж просил не называть его настоящего местоположения. Его все отвлекает, а ему нужно сосредоточиться для работы.
– Это правило не знает исключений? – поинтересовался Тютчев.
– Исключения, во-первых, вызовут лишние обиды, а во-вторых, сведут на нет все старания, так как такого роды секреты люди обычно не хранят.
– Но легко ли вам, фрау Паулина, вот так всем отказывать?
– Уж если я сама согласилась не тревожить мужа, то, поверьте, с легкостью выстою перед напором менее близких ему людей. Я знаю, как напряженно работает мой муж, и очень рада тому, что в настоящий момент он делает это без помех.
Между тем Мельгунов не торопился прощаться. Услышав накануне от Тютчева, что Паулина была коротко знакома с Гете, Николай Александрович попросил ее подробнее рассказать об обстоятельствах их знакомства.
– Мы близко общались с Гете в 1810 году. Я жила в ту пору в Веймаре у семьи Цигезаров, с которыми Гете близко дружил и к которым частенько заходил. Он был буквально влюблен в мою подругу Сильвию Цигезар, но и мне от его внимания немало перепадало. Он дарил мне свои книги, приглашал в театр, просто захаживал к нам в гости. Однажды он заглянул к нам со своим приятелем лет семидесяти, самому Гете в ту пору было шестьдесят. Он сказал тогда: «наши ноги уже не танцуют, но этого никак нельзя сказать про наши сердца».
При встрече он часто говорил мне «Милое дитя, в твоем присутствии я молодею на двадцать лет!».
Это вызывало у меня странное чувство, которое и теперь не проходит. Как это? Из-за того только, что ты молода и миловидна, пожилой уважаемый человек, более того – величайший гений, расцветает перед тобой, старается блистать, как бы он никогда не старался ни перед равными ему гениями, ни перед сильными мира сего! Удивительно!









































