Текст книги "Православное пастырское служение"
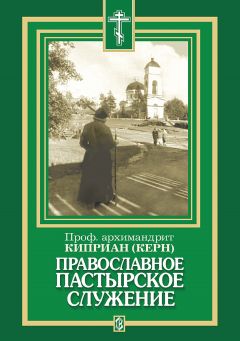
Автор книги: архимандрит Киприан (Керн)
Жанр: Религия: прочее, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
4. Пол как эрос. Пол в его метафизическом смысле, как одаренность сильными личными качествами, как у мужчины, так и у женщины, может проявляться в жизни человека по разному. Если, как это было указано выше, пол обычно понимается обывательски, как сексуальная жизнь, как, говоря языком аскетики, похоть, то это только одна, и при том низшая форма этих проявлений. Отождествлять пол с libido sexualis, это значит сузить и огрубить проблему. Пол может при усилии ума и воли быть устремленным к иным функциям, ничего с физиологией и не имеющим. Тут-то вот тема пола и эроса и выступает на первый план.
Понятие эроса чрезвычайно важно для христианской аскетики и в частности для нашей темы. Необходимо для лиц, не искушенных тонкостями греческой филологии сделать предварительное замечание. Греческий язык, чрезвычайно богатый вообще, выработал целый ряд утонченных понятий для выражения того или иного оттенка любви. Об этом писалось неоднократно и много, но для правильного понимания нашей темы необходимо хотя бы вкратце перечислить некоторые понятия. Греческий гений знает следующие выражения для любви: άγάχη – как любовь в общем смысле слова, часто безотносительно к содержанию, вкладываемому в это слово в данном случае; στοργή – как любовь, так сказать, коллективная, социальная, т. е. предпочтение, которое отдается семье, отечеству, народу и под.; φιλή – как любовь дружеская, так как φίλος означает по-гречески «друга»; этот термин для любви подчеркивает поэтому некую высшую, спокойную, более прозрачную или может быть даже духовную ступень любви; φίλτρον вкладывает в понятие любви что-то очаровывающее, почти колдовское, так как в буквальном своем значении это слово означает «любовный напиток»; наконец, ερως, что может значить и страстную любовь, может быть даже вожделение, но вовсе не должно быть этим ограничиваемо. «Эрос» может означать вовсе не «языческого божка страстности», а горячую, пылающую, стремительную любовь. Об оттенках этих писалось много и в филологических трактатах, и в богословских трудах. Упомянем лишь «Этику преображенного эроса», покойного проф. Вышеславцева, книгу, которую каждый пастырь должен знать и ею он сможет много помочь в трудных вопросах, возникающих с темою пола; интересны сопоставления о. П. Флоренского в его «Столпе и утверждении Истины». Содержательна и достойна внимания книга A. Nygren, «Eros et agepd», равно как и Н. Scholz, «Eros und Caritas».
Христианские писатели греческой культуры прекрасно осведомленные в тонкостях своего родного языка и свободные в выборе того или иного выражения для нашего «любовь», умело пользовались то тем, то иным из этих выражений. Нередко найти у византийских богословов отрывки, в которых использованы два, три или четыре из приведенных выше терминов. Это делалось не ради чего иного, как ради оттенения того или иного смысла, который в данном случае писателем высказывается.
Давно уже Wilamowitz-Moellendorff в своем капитальном труде о Платоне заметил, что Платон не пользуется понятием ауаур равно как и ап. Павел избегает термина «эрос». Но такое платоновское выражение, как именно «эрос» очень рано приобретает права гражданства в христианской богословской литературе и даже в частности в аскетических трактатах. Но по неведению, и во всяком уж случае не по бедности языка, отцы церкви часто прибегают к термину «эрос», как и св. Григорий Нисский охотно называет нашу любовь к Богу словом φίλτρον, т. е. придавая этой любви смысл чего-то чарующего, опьяняющего, увлекающего. Западные писатели, как это указал Шольц, в процитированной выше книге, следуют скорее за ап. Павлом, но они в большом числе пользуются своим латинским «caritas». Таков был блаж. Августин, Данте и Паскаль.
Как бы то ни было, слово «эрос» часто и охотно употребляется нашими святыми подвижниками, нашими аскетами, нашими мистиками. Слово это могло, конечно, иметь и тот свой смысл, какой оно приобрело в обывательском сознании, т е. любви специально чувственной, приближающейся таким образом к «libido» фрэйдовского психоанализа. Это и побудило псевдо-Ареопагита написать несколько строк в защиту употребления этого слова, вульгаризированного «чернью». Но образованные богословы, например: св. Исповедник Максим, возвышенный аскет и тонко образованный эллин, неоднократно пользуется этим именем для обозначения нашей любви к Богу. Его мы найдем особенно часто у св. Фотия Константинопольского, у св. Григория Паламы и у многих мистиков православного Востока.
Мы сочли уместным несколько дольше остановиться на этих терминологических подробностях, так как слово «эрос» в трудах современных писателей очень часто употребляется как условное понятие, как технический термин. Оно противопоставляется понятию «sexus» у такого выдающегося и вдумчивого католического психолога, как Johann Klug, в его книге «Глубины души» (есть теперь перевод и на французском языке). В этом контексте слово «эрос» приближается скорее к метафизическому понятию пола, тогда как «sexus» означает его физиологическую, т. е. низшую функцию.
Слово «эрос» в данном контексте имеет свои большие преимущества и хорошо объясняет некоторые возможности в духовной жизни. Как это правильно заметил в своей работе А. Нигрэн, «эрос» существенно отличается от ауаур. Это последнее понимание любви ни в каком случае не должно быть воспринимаемо, как некая высшая ступень «эроса». Ауаур совершенно не зависимо от «эроса», так как это два понятия вполне самостоятельные. Ауауп никогда не было в понимании писателей греческой культуры каким-то этапом на пути преображения «эроса». «Эрос» уже у Платона знает свои ступени обычного, вульгарного «эроса» и «эроса» небесного. «Эрос», таким образом, сублимирован, но в этой сублимации он не утрачивает своих характерных особенностей «эроса». Вот эта-то сублимация или преображение «эроса» и представляет собою существенно важную задачу для пастыря в вопросах, нами разбираемых.
Проф. Вышеславцев построил свою яркую и столь полезную книгу на этой мысли о возможности развития «эроса» от форм низших, вульгарных, т. е. от чисто чувственной любви до форм самых возвышенных, духовных, исходя из учения того памятника, который в историко-богословской науке известен под именем «Ареопагитик» или творений некоего автора конца V или начала VI века, который долго отождествлялся с апостольским мужем св. Дионисием Ареопагитом, но не имеет с ним ничего общего. В трактате «О божественных именах», входящих в состав «Ареопагитик» автор говорит о том, «что толпа не понимает смысла божественного имени «эрос», отождествляя его с чувственным и телесным «эросом», что не является истинным «эросом», но его отображением» (гл. IV, пар. 12). Несколько выше автор зовет не смущаться именем «эрос», так как это понятие может быть возведено, т. е. возвышено, преображено и просветлено. Ниже (пар. 15) говорится о разных ступенях этого «эроса» как «силы единения и смешения»; «эрос божественный, эрос ангельский, эрос разумный (духовный), эрос душевный и эрос физический». Важно то, что автор этого замечательного трактата, прекрасно знакомый с духом греческого языка и его богатством, не колеблясь, применяет то же самое слово, как к ступеням любви, так и к высшим, – ангельскому и божественному. Никому в голову не придет, и конечно, этого и в мыслях не было у автора, приписывать ангелами или Божеству что-либо чувственное, страстное. Вместе с тем, и не недостаток выражений заставлял его пользоваться этим именно термином «эрос», а не каким-либо иным. Из того богатого разнообразия выражений для любви автор мог бы, если бы счел это нужным, использовать какое-либо иное слово, иной оттенок, но он не делает этого именно потому, что видит в слове «эрос» возможность возведения от низших ступеней до высших, от физической до самой возвышенной, духовной, т. е. просветленной любви.
Если над происхождением «Ареопагитик» и витают до сих пор еще не рассеянные облака сомнений касательно его происхождения и возможных влияний; если автор его быть, может, был под немалым влиянием неоплатонической мистики; если, скажем даже больше, эти произведения возникли в какой-либо среде, не совсем правоверной, то ряд других писателей христианского мира, писателей, ортодоксия которых не может быть уже никак заподозрена, охотно пользовались этим именно понятием «эрос», как наиболее, по духу греческого языка, соответствующим тому содержанию, которое в него вкладывает эллинский гений.
Толкователь ареопагитских творений, столп монашества и Православия, св. Максим Исповедник бесчисленное множество раз пользуется словом «эрос», выражая им в большинстве случаев именно ту горячую любовь, то влечение, которое христианский дух имеет к Высшему эросу, т. е. к Богу. Найдем мы это слово и у такого Эллина, как св. Фотий Константинопольский, найдем его и у возвышенного аскета Григория Паламы, бывшего под сильным влиянием ареопагитской мистики, чтобы не говорить о других.
Книга проф. Вышеславцева тем именно и ценна, что дает пастырю руководящую идею помочь тем, кто себя чувствуют пленниками низших форм чувственности, помочь именно призывом к возведению своих влечений от этой грубой чувственности к высшим ступеням духовного бытия, к исканию Божественного эроса. В этой книге ценна именно та мысль, что низшее может быть сублимировано, что человек вовсе не в безвыходном плену у своей чувственности, а может стать на путь возвышения, на путь очищения и преображения. Грубые силы эмпирического пола, т. е. похоти, могут найти свой выход вверх. Заложенное в человеке чувственное начало может быть преображено и облагорожено. Пол как сила метафизическая вовсе не обязательно должна быть снижена до уровня грубых физиологических проявлений похоти, а может подняться до вершин духовных. Человек должен быть призван творчески сублимировать свой «эрос». Аскетическая борьба со страстями является только одной из форм этой борьбы. Аскезой м.б. побеждена похоть в данную минуту, но это не освободит человека от того заряда сил, который ему дан творческой волею Создателя. Пост, молитва, покаяние, бегство от соблазнов не искореняют того, что свойственно природным силам человека. А эти силы вовсе не должны быть обязательно силами низшими, чувственными, половыми. Творчески сильная личность может и должна эти свои стремления направить в область положительную: эстетическую, научную, социальную или какую-либо иную. Надо поэтому пастырю, наряду с советами аскетико-нравственными, давать и иные советы, занять дух человека чем-то положительным, звать к раскрытию своих творческих дарований не в области создания чего-то низшего, и в сфере высшей и облагораживающей.
Наряду с этим весьма важно то, что Вышеславцев говорит о силе воображения. С этим связано все психоаналитическое учение о подсознании. Многое рождается у нас в образах. «Эротическия чары, – говорит этот ученый, – привлекающаго образа основаны на том, что он сразу формирует хаос подсознательных влечений; а образ, способный преобразить хаос в космос и красоту, он и есть прекрасный образ» (стр. 77–78). Игра фантазии в жизни пола огромна; образы, чего-то влекущего и зовущего ко греху могут быть заменены иными образами, иной работой воображения, работою творческой. Здоровая литература, музыка, художественные картины, научная работа, интерес к знанию могут отвести плененное воображение в иную область. Поэтому советы пастыря кающимся в этих грехах должны быть в известной мере и наряду с чисто аскетическими советами направлены к проявлению себя в изучении того или иного предмета, той или иной области искусства или в проявлении своих сильных дарований в сфере служебной, социальной, военной или иной. «Развратная мечта», о которой говорит в своей «Исповеди» митр. Антоний (стр. 59), должна быть заменена идеями чистыми, власть которых в уме и сердце человека не допустит сосуществование чего-либо грязного. В сущности то же, что и Вышеславцев, говорит и митр.
Антоний: «должно наполнять душу свою иным, лучшим содержанием, должно любить Христа, родину, науку, школу, тем более Церковь, родителей, сотоварищей по делу, которому ты посвятил свою жизнь.» (стр. 61). Грешащий плотскою похотью увлечен каким-то образом женщины или образами чувственных наслаждений. Так пусть этот человек отдаст себя другому, увлекается чем-то возвышенным, что и поможет ему отойти от пленяющих его воображение предметов.
«Трудно побеждать плотскую похоть, но можно», – говорит еп. Порфирий (Успенский). – «Надобно разсердить разсудок, когда возникает похотение, и потом приняться за работу, которая отвлекает внимание от женской прелести и усмиряет вожделение. В подобном случае великую силу имеет также и простая молитва: «Господи помилуй!» («Книга бытия моего», СПБ, 1894, том I, стр. 454).
5. Пол и брак. Эта тема также должна быть пастырем продумана, так как упрощение и здесь может привести к неверным выводам. Прежде всего, не должно себе представлять брак, как некую панацею от навязчивых приражений похоти. По учению церковному брак не есть открытая дверь к излишествам тела. Церковь молится о даровании брачующимся целомудрия, о соблюдении ложа ненаветным, о единомыслии душ и телес, о браке честном и ложе нескверном. Брак не есть дозволение на нечто безудержное, на некую необузданность и распущенность. В браке должно быть и воздержание. Возможные болезни одного из брачующихся, периоды ожидания младенцев и обрекают другую половину на воздержание и на известную аскезу.
Нельзя, с другой стороны, брак сводить и к одному только деторождению, как это свойственно римо-католическому взгляду на брак. В браке, по учению отцов церкви, большое значение придается духовной стороне его.
Тема пола не покрывается сполна сферой брака. Этот последний является законной и Церковью благословленной формою удовлетворения низших функций пола, т е. половой жизни. Проистекающее отсюда деторождение получает естественное свое развитие, чем однако не исчерпывается область брачной жизни. Брак может и не быть плодотворным в этом смысле в силу тех или иных обстоятельств. Но даже и при счастливом в этом отношении браке, пол будет себя проявлять совершенно самостоятельно, поскольку, как это было указано выше, пол глубже и шире физиологических своих проявлений. Пол, в смысле сильно одаренной личности, ищет и других, кроме физиологических, своих проявлений. Одаренность той или другой стороны брачного союза требует иных сфер для своего воплощения, творчески сильная природа может оставаться сильной и яркой, совершенно независимо от того, как протекает половая жизнь. С годами низшие функции пола могут уже и замолкнуть и не требовать своего удовлетворения, тогда как высшие стремления пола яркой личности будут все еще и может быть очень долго, искать своего воплощения. Пол в его высшем смысле пойдет по своему пути, независимо от темперамента и стремлений другой половины союза. И в таком именно разрезе брак, устремленный только на низшие проявления пола, будет обречен на многие несогласия, чтобы не сказать трагедии.
Ярким примером в истории может прекрасно послужить брак Толстого. Бесспорно одаренный во всех отношениях творец «Войны и мира», одаренный и в смысле физиологическом и в области художественной и интеллектуальной, в известную пору своей жизни искал выявления своей яркой личности в сфере, ничего не имеющей общего с супружеской жизнью в ее узком смысле. Увлеченный своими нравственно-религиозными исканиями, Толстой, в ущерб своему художественному гению, пошел по пути совершенно отличному от того, каким себе представляла совместную жизнь его жена. Молодая девушка, полюбившая севастопольского офицера, беззаветно ему преданная, прекрасная жена и мать, свидетельница и верная почитательница его творений, она не могла никак разделить увлечений Толстого второй половины его жизни, начавшего косить, пахать, тачать сапоги и класть яснополянским крестьянам печи, которые, кстати сказать, были почти всегда никуда не годными и дымили. Счастливый в узком смысле слова брак, сделался маловыносимым в смысле несогласности высших интересов одной и другой половины этого брачного союза. Толстой пережил, и это, вероятно, вполне понятно и оправдываемо, свои ранние увлечения семейными интересами; дети их болезни, их нужды и заботы об их будущем не могли привлекать к себе внимания Толстого, искавшего какой-то вечной правды и каких-то новых путей; но, с другой стороны, и жена его не обязана же была увлекаться, забыв свои непосредственные обязанности жены и матери, яснополянской школой, сапогами и печами. Трагедия Толстых, а вовсе не одного только Толстого, достаточно всем известна, чтобы на ней останавливаться здесь. Следует, однако, справедливости ради, не оправдывать обязательно одну сторону (самого Льва Николаевича), осуждая его жену, не ставшую «толстовкой». В данном примере, счастливый когда-то в узком смысле слова брак, оказался мучением и неудачей в смысле духовном.
Подобными примерами полна обыденная жизнь. Несогласованность духовных устремлении супругов не может никак быть покрыта и сглажена их даже, может быть, безупречной верностью одного другому. Кроме физической близости брак непременно требует и духовной. Это вовсе не означает того, что муж должен раствориться в интересах своей жены, а жена должна быть «верной помощницей», «идейной подругой» и т. п. своего мужа. Вряд ли нужно требовать, чтобы жена профессора подыскивала подстрочные примечания к статьям своего мужа, «переживала» его художнические искания или интересовалась его хирургическими или астрономическими изысканиями. Но, с другой стороны, совершенное равнодушие мужа к делу воспитания детей и к внутреннему миру своей жены, равно как и равнодушие жены к внутренней жизни своего мужа, свидетельствуют о том, что, несмотря на внешнее благополучие супружеских отношений, внутренне брак терпит от глубокого несогласия.
Сила взаимной любви уступает в данном случае место остро проявляющемуся чувству эгоизма. Один пол, или одна личность совершенно затемняет другую, пренебрегает ею. Этот эгоизм является родоначальником всех несогласий во взаимной жизни двух личностей, двух полов. Эгоизм, который, по св. Максиму Исповеднику проистекает из неведения Бога (Письмо 2-ое, – М. Р Gr. 91, 397) порождает и все остальные страсти («О любви» III, 8,– М. Р Gr. 90, 1020 АВ).
Себялюбие может быть преодолено только силою противоположною, т е. любовью к другим, которая приводит к Богу, так как «любовь к Богу мы знаем и именуем не как отличную от любви к близким, но как целиком одну и ту же любовь» (Письмо 2-ое, – 401 D.). Эта божественная любовь основывается все на той же силе вожделения, – как учит тот же отец Церкви («К Фалассию», – М. Р. Gr. 90, 449 В.).
Вообще же, надо это отметить с особою силою, тот же Максим Исповедник, так много учивший о любви, и при этом об «эросе», как и об «агапи» может быть весьма интересным в данном контексте. Ему представилась в мистических прозрениях о мире в высшей степени интересная панорама трагического разделения мироздании. Весь космос созерцается им расщепленным первородным грехом на некие «разделения»; на умопостигаемое и видимое, на небесное и земное, на рай и вселенную, на мужской и женский пол. Максим Исповедник с исключительною силою прозрения, как, может быть, никто иной, переживает это греховное состояние мироздания. Но он же убежденно исповедует свою веру и свое упование в то, что это трагическое состояние мира, это расщепление человечества на мужское и женское начала может быть преодолено и побеждено именно в силу любви («Ambig. lib.» – М. Р Gr. 91, 1304–1308). Максим вслед за Ареопагитиками так много и глубоко учивший об эросе и о возможности его сублимации, учит, наряду с этим, и о исцеляющей силе любви ауа/п которая, как мы видели, не должна быть воспринимаема, как высшая ступень эроса, но как сила от него независимая.
Глава VIII
Пастырская психиатрия
То, что принято теперь называть «Пастырской психиатрией» приобрело уже с известного времени права гражданства в западной науке, тогда как на православном Востоке это является еще почти неведомой областью пастырской деятельности. Оно не должно быть понимаемо, как некая дополнительная часть Требника или Номоканона, так как оно не входит в область пастырской аскетики, а является некоей параллельной областью пастырского душепопечения, которая тем не менее не должна быть оставлена священиком без внимания. Несколько предварительных замечаний представляются нам в данном вопросе необходимыми.
Душепопечение, и в частности исповедь, суть сферы совершенно недоступные постороннему наблюдению. Решение вопросов духовной жизни, связанное с исповедью, проходит «in foro interno». Духовник является на исповеди, как «точио свидетель». Исповедная тайна есть тайна абсолютная.
Но есть и другое. Есть область более интимная и более тщательно скрываемая кающимися, чем грех. Есть нечто такое в душе человеческой, что не является грехом, и что сам кающийся не подозревает, что скрыто от взоров совести и, даже больше того, самой совести не подведомственное. Существуют некие тайники души, в которых сам грешник не разбирается и может быть и не догадывается. Существуют такие состояния души, которые требуют совсем иной оценки, чем аскетическая или нравственно-богословская. Существуют такие душевные состояния, которые не могут быть определяемы категориями нравственного богословия и которые не входят в понятие добра и зла, добродетели и греха. Это все – те «глубины души», которые принадлежат к области психо-патологической, а не аскетической.
По-разному будут смотреть на душевно неуравновешенного человека воспитатель, судья, пастырь и врач. Можно ли всегда считать, что известные акты таких субъектов являются только грехом, подлежащим только эпитимии? Является ли всякая аномалия душевной жизни преступлением нравственного закона, норм кодекса аскетики? Не есть ли такая аномалия больше болезнь, чем злое дело? Ставится поэтому вопрос о том, где проходит граница между этикой и психопатологией?
На Западе давно уже заинтересовались этими вопросами и существует обширная литература типа разных «pastoral psychology», «psychiatric pastorale», «psychopatologie et direction», «Psychiatrie und Seelensorge». Надо давно понять, что в человеке кроются такие «глубины души», которым посвятил свою прекрасную книгу, уже упомянутую, J. Klug и хорошо заметивший, что области нравственной психиатрии и нравственного богословия не совпадают, так как для одной часто встают загадки души, там, где другая решает все простым определением «тяжкий грех» (стр. 6). Эти-то именно «загадки» гораздо более распространены в духовной жизни, чем это принято думать, т. е. сам человек есть «противоречие» (Эмиль Бруннер) и, по мудрому замечанию Плотина, «человек ведь не есть же гармония».
Можно, с известным риском схематизации, определить «пастырскую психиатрию», как попытку координации работы психолога или психиатра с работою пастыря в самых интимных областях его деятельности. Памятуя только что сказанное об абсолютной тайне греха, не следует впадать при данном определении в смешение планов, а именно не следует думать, что пастырь может привлекать психиатра к тому, что ему, пастырю, открыто у исповедального аналоя. Следует скорее допустить другое, т. е., что сам пастырь должен быть хотя бы несколько знаком с психоаналитическими наблюдениями, должен прочитать хотя бы одну-две книги по пастырской психиатрии, вникнуть поглубже в то, что является нравственной психологией, чтобы огулом не осудить в человеке, как грех, то, что само по себе есть только трагические искривление душевной жизни, загадка, а не грех, таинственная глубина души, а не нравственная испорченность.
В связи с только что сказанным встают некоторые вопросы характера принципиального, от разрешения которых будет зависеть то или иное отношение к предмету.
1. Допустимо ли вообще с точки зрения Православия говорить о Пастырской психиатрии? Иными словами, можно ли совместить этот предмет с основными принципами нашей, унаследованной от святоотеческого и церковного предания, этики и аскетики? Подобный подход к вопросу не может не вызвать улыбки или удивления. А между прочим, такие вопросы неоднократно приходилось слышать. Удивление вызывает в данном случае именно указанная связь между Пастырской психиатрией или этикой и аскетикой. Суть дела именно в том и состоит, что психиатрия ни в коем случае не претендует на те области, которые подведомственны аскетике. Эта последняя занята борьбой со страстями и грехом, тогда как пастырская психиатрия стремится проникнуть в те сферы душевной жизни, которые никак не могут быть квалифицированы, как грех и зло. Аскетика дает мудрые, от отцов и учителей Церкви унаследованные, советы излечения грехов и пороков: гордости, уныния, сребролюбия, тщеславия, чревоугодия, блуда и т п. Психиатрия ищет более специфических причин тех духовных состояний человека, которые коренятся в сокровенных тайниках души, в подсознании, в унаследованных или благоприобретенных противоречиях человеческого существа. Психиатрия обращает свое внимание на то, что аскетику в сущности и не интересует: навязчивые идеи, фобии, неврастения, истерия и т. п.
С точки зрения Православия и церковного предания нет основания видеть какие-либо препятствия для применения психиатрических или психоаналитических данных в деятельности пастыря. Психиатрия нисколько принципиально не противоречит пастырству, не должна ему мешать или каким бы то ни было образом умалять значение пастырского душе попечения. В пастырствовании могут и должны быть применяемы все средства, чтобы помочь душам в их затруднениях на пути спасения. Пастырской психиатрии, как уже сказано, не должно быть усвояемо значение, равное аскетике, так как их области, хотя и являются смежными, но одна другую не исключающими, потому что психиатрия не вмешивается в область, подведомственную чистому богословию. Она ищет в тех сферах, где аскетика не имеет прямого применения. Психиатрия в руках пастыря является вспомогательным средством для обнаружения не греха, а патологических явлений, связанных с заболеваниями психиатрическими, т. е. душевными, а не духовными.
2. Разбираемый вопрос можно поставить несколько иначе. Если допустимо и вполне разумно говорить о психиатрических вспомогательных средствах для действий пастыря, или иными словами ставить ударение на пастырской психиатрии, то позволительно поставить вопрос о принципиальной допустимости психиатрии, как таковой, или что то же, поставить ударение на пастырской психиатрии. Это значит: можно ли вообще с богословской, пастырской, духовной, традиционно-церковной точки зрения допускать психиатрию туда, где казалось бы, следует говорить только о духовном, а не медицинском. Иными словами, с каким правом медицинская дисциплина будет допускаема не только в образ действия пастыря, но и вообще в область духовной жизни.
Если мы согласились с тем, что пастырская психиатрия не должна вмешиваться в область аскетики, то не следует ли вообще исключить всякое право вмешивательства медицинской науки при наличии тех или иных сложных душевных явлений? Другими словами, не должен ли пастырь считать, что этих сложных явлений с точки зрения Церкви вообще и не существует? Не является ли какое бы то ни было сложное душевное явление, те «загадки души» или «глубины души» просто-напросто состоянием греховным? Не следует ли все вообще, что творится в душе человеческой отнести к области аскетики? Не являются ли все упомянутые неврастении, фобии, маниакальные состояния и пр. только грехом?
Ум, стремящийся все упростить и исключить все проблемы, конечно, так и поступает. Ответ в таком случае напрашивается сам собою: все это только грех, святые отцы-аскеты никаких психоанализов не знали, лечили не какие-то там «глубины души», а самый грех; боролись со злом, а не с «загадками души». При такой постановке вопроса самое слово психиатрия, а. тем более «пастырская психиатрия» является посягательством на завещанное отцами-аскетами православное понимание греха и борьбы с ним. Вопрос сводится в таком случае к одной только упрощенной этической оценке всего того, что человек таит в себе.
В самом деле, не проще ли все это рассматривать, как одно только последствие первородного греха, как признак нашей общей греховности и склонности ко греху? В самой своей сущности все, что происходит в человеке, является последствием его ограниченности и смертности. Смертность, т. е. и болезненность в том числе, есть последствие Адамова падения, так как в первородном грехе человек утратил свое прежнее райское состояние. Душевные аномалии (фобии, мании, неврастении, истерии и под.) восходят к одной общей причине – к первородному греху. Но спросим себя, ограничивается ли дело одними только душевными аномалиями и болезнями? Не суть ли и прочие болезни и общая склонность к болезням, сама болезненность человека – последствие того же Адамова греха? В совершенном, райском состоянии вряд ли человек был бы жертвою эпидемий, туберкулеза и суставного ревматизма. Но все эти патологические случаи суть факты, а не одна только игра болезненного воображения и так называемой мнительности. Можно ли в таком случае, с точки зрения православной аскетики и верности церковному преданию, лечить эти болезни? Допускает ли тогда православная аскетика медицину? Не есть ли вся лекарская премудрость от лукавого?
Ответ напрашивается сам собою. Вряд ли кому из людей здравомыслящих придет в голову запретить с точки зрения православности пользоваться советами врачей. Пусть первородный грех повлек за собою смертность, т. е. болезненность. Следует ли из этого, что мать должна равнодушно давать своему ребенку страдать и может быть умереть от коклюша или дифтерита? Обязана ли жена или сестра милосердия оставлять сыпнотифозного или раненого человека стать жертвою эпидемии или заражения крови? Можно идти дальше и создавать себе «проблемы совести» из необходимости вырвать зуб или удалить воспаленный отросток слепой кишки.
Если «болезни вообще» могут и должны быть лечимы, и в этом нет греха, то болезни особые, недуги душевные не должны были бы быть исключением из этого правила. В противном случае Православие должно противиться всякой психиатрии, а не только пастырской, а церковная власть должна стремиться к закрытию больниц для душевнобольных.
Вопрос ставится еще и так: есть ли болезнь зло? В том, что она есть последствие первородного зла, в этом сомнений нет, но есть ли сама по себе болезнь зло, подлежащее только эпитимии. Нужно ли неврастению лечить только одними аскетическими средствами? Стоит ли эта неврастения или маниакальное состояние на той же линии, что и сребролюбие или гордость?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































