Текст книги "Екатеринбург Восемнадцатый (сборник)"
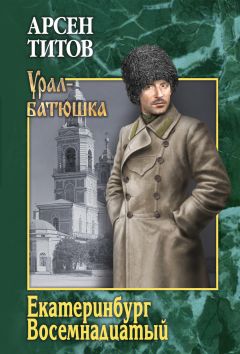
Автор книги: Арсен Титов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
11
Мы сходили за вещами Буркова и принесли их к нам. Разговора не получалось. О чем думал он, я не скажу. Я же ни о чем думать не мог. Он оглядел наш дом, церемонно поздоровался с встревоженными Иваном Филипповичем и Анной Ивановной. Я ему показал батюшкин кабинет, спросил, годится ли. Он кивнул, бросил сидор на диван, вздохнул.
– Ладно. Думаю, не дознается! – сказал он о Паше Хохрякове.
Мы пошли каждый в свою сторону. Я увидел, Анна Ивановна, посмотрела мне вслед. Возможно, свет играл в окне – увидеть мельком было едва ли, но мне показалось, глаза ее трепетали. «А я не умею любить!» – подумал я. Бурков меня окликнул.
– Вечером расскажешь, как есть! – сказал он.
Я кивнул.
Некогда, еще в академии, нам был зачитан короткий курс об агентурной деятельности армейских офицеров, то есть нас. Этот курс мы не приняли, нашли его для офицера русской армии неприемлемым. Мы пришли к мнению, что офицер русской армии имеет свои, вполне определенные функции защиты Отечества. Потому у него должны быть свой определенный строй характера, духовных воззрений и этики. Рекомендуемые курсом методы агентурной деятельности мы сочли возможными только для чинов жандармерии, полиции и пограничной стражи. Мы не ставили себя выше их. Мы признавали за ними специфику их службы и признавали за ними их определенные функции в защите Отечества, которые с их строем характера, духовных воззрений и этики были сочетаемы. Повторяю, мы не ставили себя выше их. Мы не считали себя белоручками. Мы знали, что служить Отечеству и не замарать перчаток невозможно. Но нельзя было замарать – да что там замарать! – нельзя было допустить даже намека на тень, которая бы упала на честь русского офицера в служении Отечеству. Как я послужил ему – судить не мне. Но когда я согласно кивнул Буркову, я вдруг ощутил непередаваемое облегчение. Оказалось, тень какого-то прапорщика военного времени с моей фамилией висела на мне непомерным грузом. Я, по сути, являлся агентом. Я, по сути, скрывал себя, я манкировал своим подлинным чином и именем, я манкировал служением Отечеству. Я кивнул – и будто скинул с себя чье-то тяжелое и грязное тряпье. Я не думаю, что это было моей беспросветной дуростью, порой отличающей мой характер, или усталостью, той солдатской усталостью, о которой я уже, кажется, говорил, усталостью, предчувствием, а скорее, способом накликать на себя смерть и тем закончить мучения, мучения более душевные, непременно превращающиеся в душевную болезнь.
Своим кивком, пусть поздно, но я вернулся в службу, в служение если не государю-императору, то Отечеству, вернулся в то, что я единственно мог делать – служить.
Я не оговорился, когда употребил в отношении государя-императора словосочетание «если не». Все время, начиная с телеграммы об его отречении, подписанной неким князем Львовым, я непрестанно думал о государе, об его отречении. Я думал и вместе с ним, уже сделавшим шаг. Я думал за него, как бы шага еще не сделавшего. Я искал иное решение, которого, собственно, искать-то было нечего. Он не имел права отречься от престола, то есть от всех нас. Он обязан был понять, что оставлял нас, что он бросал нас. Он сам делал своим отречением революцию. Искать иного решения было нечего. Но, как влюбленный человек ежеминутно переживает свою любовь, будь она счастлива или несчастна, так я непрестанно искал государю его иное решение. За все время от его отречения и до сего дня я наслушался о нем всякого. Это всякое было мерзостным. И мерзостными были те, кто эти мерзости говорил. А говорили едва не все. Говорили с непонятной злой радостью и злым восторгом, будто бросая его в пучину гибели, не понимали, что в ту же пучину падают сами. Говорили едва ли не все. Все считали своим долгом говорить, вероятно, считая это единственным долгом перед Отечеством. За все время я не сказал о государе ни слова – ни в защиту его, ни в осуждение, хотя я умом постиг, что нынешняя действительность была порождена его отречением, этим его трусливым шагом, а возможно, вообще всем его трусливым или еще каким-то, но ненадлежащим правлением. Но что было с того, что я это постигал умом. Сердце-то этого постижения не вмещало! Более того, я понимал, что каждый, кто говорил о нем мерзостное, говорил ненавистную, но правду. Но я понимал и то, что, так говоря, он начинал сходить с ума. Он душевно заболевал. Произнесенная эта ненавистная правда обращалась против него самого, превращала его подлинную или мнимую ненависть в душевную болезнь. Все в России стали душевнобольными. Покарал ли Бог, вмешался ли сатана – различия в том не было. Но истребить своих сограждан, назвать их чуждым классом – это было душевной болезнью. И эта душевная болезнь была одинаковой с той солдатской усталостью, которая вызывала душевную болезнь и которая следствием имела смерть. Мое служение смерть остановить не могло. Мне оставалось умереть вместе со всеми.
И впервые сказанное словосочетание «если не» по отношению к государю императору имело смыслом только то, что я, что мы, русские офицеры, не в полной мере отслужили Отечеству – не заставили государя сказать душевнобольному народу в момент его требования отречься от него же, от народа, резкое и решительное «нет».
Кивнув Буркову, я стал самим собой. Бурков мог обо мне сказать Паше и Яше. «И черт с ним!» – сказал я. Это было подло – так думать о человеке, которого я не знал, но которому доверился. Однако же не всегда мы кристаллизуем свои мысли и чувства, даже если того хотим. Я так сказал, но следом отчего-то сказал, что он никому ничего обо мне не скажет.
В парке я застал смятение. Оказалось, командира парка Широкова и ревкома Чернавских вызвали туда же, куда они меня с ухмылкой выпроводили несколько времени назад.
– Что? Как? Говорите! – выразил общий немой вопрос подполковник Раздорский.
– Ich melde gehorsam, Herren, der Militar Norin erklart sich zum weiteren Dienst bereit! (Я имею честь доложить, господа, военнослужащий Норин к дальнейшей службе готов!) – съёрничал я.
– Что? Да бросьте нас дурачить, Норин! Что? Говорите же скорей! – вскричал подполковник Раздорский.
– А что, собственно, вы желаете услышать? – продолжил я дурачиться, чувствуя, что, кроме того, что меня вместе с моим классом служивых собрались уничтожить, мне сказать нечего.
– Ну, как же? Все обошлось? Почему вызывали? – в нетерпении дернул щекой подполковник Раздорский.
– Вопрос о наших парковых лошадях! Взяли объяснение и отпустили! – сказал я.
– Так ведь же их в конный запас взяли! Я два дня с передачей возился! – вскричал заведующий хозяйством Лебедев.
Я пожал плечами.
– Разъедрит ее, ерёму! Ведь и меня потащат! – запереживал заведующий хозяйством Лебедев и, как бы спрашивая у меня поддержки, ожидая от меня слов, что его не потащат, едва не с мольбой стал говорить мне. – Вы же помните! Мы же вместе были! Вы еще меня обругали, сказали: «Нет на вас казаков!» – а я вспомнил, как в японскую войну казаки эскадроном полк вырубили!
Я помнил все. И сейчас я вспомнил, как со станции, от лошадей, я пошел к Мише Злоказову в военный отдел, и как у него от моих слов об этих лошадях в глазах замелькала искра потомственного заводчика. «Неужели и он замешан?» – пронеслось по мне, но тотчас исчезло. Миша был дураком. Миша, возможно, был кокаинистом. Но вором я его представить не мог.
– Вот же четырка! Вот четырка! Неужели что натворил? – продолжал свое переживание и говорил о Широкове заведующий хозяйством Лебедев.
– Вам спасибо за ваше участие… утром! – поблагодарил я подполковника Раздорского и, чтобы смягчить мое прошлое неприязненное к нему отношение, спросил, нет ли у него в родственниках полковника Раздорского, начальника тыла нашего корпуса в Персии, человека много сделавшего для тыла.
Оказалось, нет, они были только однофамильцами.
– А как там? Что? Вы не могли бы рассказать подробнее? – снова спросил он.
– Кажется, только – чудом! – сказал я о своем освобождении.
– А вам Широков не предлагал револьвер? – в волнении спросил он.
Я вспомнил, что обещал заведующему ружейной комнатой военного отдела почистить пистолет «штайер». «А вот я… – подумал я о том, что пистолет возьму и не верну. – Вы нас, как класс… И мы вас, как класс!» – сказал я Паше Хохрякову и Яше Юровскому и вообще всем, кто с ними. А Раздорскому я сказал, что Широков мне не предлагал ничего, разве что только чай с анисовыми пряниками. Я не знал Раздорского и, уже наученный, то есть, если вспомнить покойного моего Раджаб-бека, «обученный», довериться ему не мог. Но, кажется, я покраснел, солгав. Он со вниманием посмотрел на меня и сказал, что Широков револьвер предлагал и ему.
– Надеюсь, вы не взяли? – спросил я.
– И не взял, и сказал об этом только вам, да и то только в связи с этими обстоятельствами! – сказал он.
– И все же, как вы лошадей привели к такому состоянию? Ведь вы же офицер! – сказал я.
– Вы будто не видите ничего вокруг! Да меня бы с поезда на ходу сбросили да вдогон из винтовок пальнули! – усмехнулся он, оглянулся на заведующего хозяйством Лебедева, секретаря ревкома Брюшкова, приклонился ко мне. – А в целом, это теперь их имущество. И вредить им надо везде! – прошептал он.
– Да лошади-то при чем! – едва не вскричал я.
А будто хорошо «обученный» солдатик, мне всплыла на миг картинка боев на Бехистунге. Я выдвинулся корректировать огонь на саму скалу. Я ведь говорил, что мы в начале лета позапрошлого шестнадцатого года, сдерживая турецкий натиск, зацепились за Бехистунгскую позицию, как очень выгодную. И мы на ней задержали турка, дав возможность тылам уйти, а остальным нашим частям закрепиться на Ассад-Абаде. В один из боев я выдвинулся на саму скалу. Я долго избегал ее, сберегая ее барельеф с царем Ахеменидом от турецкой артиллерии. Но мне нужно было беречь наш левый фланг, никак не просматривающийся. Телефонного провода, чтобы послать туда корректировщика с аппаратом, у нас не хватало. И я взобрался на Бехистунг. Обзор был превосходен. Но я увидел совсем близко, в полуверсте расстояния закрытую от моих орудий лощину и втягивающуюся нам во фланг партию курдов. Бинокль приблизил их так, что можно было тронуть их рукой. Кони были прекрасны, сухоноги. Их несколько свислые крупы казались мне сверху маленькими столешницами, на которые, казалось, можно было поставить прибор с супницей. Я много раз, будучи в седле, устав от дороги, чтобы размять спину и грудь, откидывался назад и опирался рукой на круп Локая, моей лошади в Персии, чувствовал его теплое движение мышц, чувствовал его спокойствие, будто даже говорящее о необходимости служить через остаток сил. «Ах ты, матушка мой!» – говорил я Локаю, лошади азиатской породы, доставшейся мне от убитого казака-закаспийца по прибытии моем после госпиталя в Первую кавказскую казачью дивизию генерала Николая Николаевича Баратова. Я так говорил, и я чувствовал себя защищенным. Вот что такое, в отличие от Раздорского, были для меня лошади. А курды втянулись в лощину. Я сказал в телефон их место. Через несколько минут партия была рассеяна. Я не взял греха на душу определять, сколько их осталось лежать в лощине.
– Да лошади-то причем? – спросил я, а он, кажется, меня не понял.
Ближе к вечеру я пошел в оружейную комнату военного отдела. Заведующий меня узнал, подал мне «штайер», масленку, ветошь и ведро с патронами, сказав, что там, вероятно, отыщутся патроны и к «штайеру». Я перебрал все ведро. Нужных патронов не нашлось. Я сказал заведующему сходить на гарнизонный арсенал в Оровайские казармы.
– Да что ж такое-то! Нету – и нету! – отмахнулся он.
– Жалко! Интересно было бы пристрелять его! – совершенно искренне пожалел я.
– Наплевать на все! Домой бы скорее! – сказал он.
– Когда же домой? – спросил я.
– А вот шиш домой, дядя! Кому на двадцать пятое января исполнилось тридцать один год, этих приказом увольняют! А мне тридцать один – двадцать шестого января! И теперь мне – шиш. Мне теперь – до морковкиного заговенья! А то еще в эту сицилист… черт ее, в Красную армию к Хохрякову заберут! – заругался заведующий, потом с надеждой посмотрел на меня. – А ты, дядя, ведь из начальников! А помоги мне, а! Может, можно меня, а? А я тебе его отдам! Я же вижу. Он тебе нравится, ты же толк понимаешь! – он подвинул мне «штайер». Я и в Оровайку сбегаю за патронами. Я и из описи его изыму. Тут в описях сам Керенский заскучает! Страну под кобылью трещину подвел, а тут самоваром запыхтит – а шиш ему! Тут в описях он не справится. Бери, дядя! Чего там! На день позже родился, а теперь, как та мандрагора, сладкая-то сладкая, да с ее задуришь!
– Из поповичей? – определил я его сословие по его знанию мандрагоры, растения библейского.
– Здешние мы, с-под Быньгов! – признался он. – Я под деревенского фуфыря строю, чтобы не прознали, что из поповичей! Я и какой харч могу – вам. Родитель привезет! – смотрел он на меня с надеждой.
Я же мог ему помочь, если мог, то только через Мишу Злоказова. А Мишу Злоказова, друга моего, видеть мне совсем не хотелось.
– Не знаю, братец! – сказал я, а он принял это как надежду.
– Я вам патроны принесу, тогда и возьмете! Да может, когда и укрыться вам припадет, так у нас на заимке куда как укроетесь! – обрадовано обещал он.
– Не знаю! – еще раз сказал я и спросил его фамилию.
– А Камдацкие мы, Григорий Семенович! – назвался заведующий.
– Ну вот, опять Григорий! – вспомнил я сотника Томлина и Буркова.
Домой Бурков задерживался. Мы ужинали без него и опять вчетвером. Мне было стыдно перед Анной Ивановной за свой ночной полувизит. Я на нее не смотрел. Кажется, не во гневе или обиде, а только в ответ она тоже не смотрела на меня, но не смотрела так, что умудрялась не смотреть и одновременно смотреть. Я это почувствовал и попытался сделать по ее. У меня получилось. Глядя этаким образом, я увидел, что она смущена моим смущением, а не моей ночной выходкой. По крайней мере, я так определил. Это мне придало храбрости. «Какова!» – сказал я как бы в осуждение. Но ах, женская природа! Анна Ивановна меня тут же раскусила и тотчас – полагаю, что артистически, – замкнулась. Собственно, она, как барышня, и должна была это сделать. Но я рассердился. «Вертушка!» – назвал я ее.
– Что с сапогами? – спросил я Кацнельсона.
– Скажу, что мне таки остается сделать заявление в Красную гвардию! – сказал Кацнельсон.
– И против кого же будет твоя гвардия? – ехидно спросил Иван Филиппович.
– Там, дедушка, как прикажут, так против того и будет! Бесплатные сапоги и харч не начертал на своих скрижалях даже сам Моисей! – сказал Кацнельсон.
– Так хотя бы наши старые валенки возьми! – предложил я.
– Это мне зачтут за выговор. Начальник горпродкома и в ячейке объявят про Кацнельсона как про пархатого жида, имеющего вполне товарные валенки, а таки претендующего на общественные революционные сапоги! – опять отказался Кацнельсон.
Бурков пришел очень поздно с кирпичом черного хлеба под мышкой, скинул шинель и из кармана брюк, как ручную гранату, вынул бутылку подсолнечного масла. Иван Филиппович было хотел возликовать, но вспомнил, что все от «совето».
– Ну, Иван Филиппович, кто же у нас будет Борис Алексеевич? – подмигнув мне, спросил Бурков за супом вчерашних селедочных голов.
– А то и будет, что первый защитник Отечеству! А как уж у вас ныне, так я того не знаю! Поди, сморкаетесь да об него пальцы вытираете! А таких-то, как наш Борис Алексеевич, надо для будущих народов в фотографической карточке в пантеон представлять! – сказал Иван Филиппович, конечно, обоих нас с Бурковым поразив знанием слова «пантеон».
– Это хорошо. Защитники всем очень нужны! – сказал Бурков.
– Не очень-то вы соблюдаете их! Раненый, контуженный, перемороженный на защите Отечества, да такого надо на аэроплане с почестями привезти, а он пришел в солдатской шинелишке с пустым сидорком! Очень он вам нужен! – огрызнулся Иван Филиппович.
– Ничего. Все перемелется. Все примет стройный порядок! – сказал Бурков.
И потом, устроившись в кабинете моего батюшки, Бурков выслушал меня, так сказать, подлинного. Я не скрыл ничего. Он ни разу не перебил, только спросил еще попотчеваться кипятком. Самовар еще не остыл. Я принес. Иван Филиппович выдал откуда-то, едва не из-под своей постели два осколка сахара.
– Хоть совето, а с сахаром-то, поди, добрее будет! – пробурчал он.
После долгого молчания Бурков сказал, что мне надо и дальше играть роль прапорщика военного времени.
– Не то сегодня время, чтобы открываться, – сказал он. – Можно вполне заурядно угодить под метлу. Раскрыт офицерский заговор. Я всего не знаю. Но они хотели выступить в момент митинга на Кафедральной площади. Кто-то их выдал. У них сорвалось. Утром Хохряков докладывал Голощекину, откуда мы и шли вам навстречу. Сказал он только, что был взят представитель атамана Дутова здесь в городе, какой-то подъесаул, имени Хохряков не назвал, ну и еще кое-кто. Обыски идут по всему городу. Так что понимаешь сам. А это твое открытие насчет всеобщей сдурелости, всеобщей душевной болезни – это, брат, визг трясущейся от страха буржуазии. Брось это. Не умствуй. Не все, конечно, так идет, как надо. Но, видно, по-другому пойти не может. Слишком отсталая мы страна.
– Пятое место в мировой экономике на тринадцатый год! – возразил я.
– Отсталая по общему народному богатству! В курных избах да в подвалах народ живет! – сказал Бурков. – А пятое место потому, что шестого нету. Пятое, потому что дальше – огромный разрыв. И от четвертого места тоже огромный разрыв. Вот вроде бы и в передовых, а отсталые. А Маркс… Знаешь такого? Ну вот, Маркс говорил, ну, то есть, писал, что революция на упразднение частной собственности и установление собственности общественной, когда фабрики – рабочим, нивы – крестьянам, и вообще старый мир – по шапке, такая революция может случиться в отсталой стране, но она тащит за собой опасность, что она выродится в простой передел чужого добра, в это «Грабь награбленное!» Вот потому и нужна диктатура пролетариата, нужны Хохряков, Юровский и другие. Ты же видишь, что творится вокруг. Как это остановить при том, что революцию начинали не мы, не большевики и даже не эсеры с монархистами, не товарищи Троцкий и Ленин. Ее начал сам эксплуататорский класс. Сначала войну развязал, думал на ней озолотиться, будто и без нее не в золоте жил. А потом, когда увидел, что страна к войне не готова, что все полетело кверху задницей, затеял игрища с властью. Но и на это, как и на войну, толку не хватило. Изжил он себя, эксплуататорский класс. В агонии он. И нечего эту агонию ему продлевать. Прикончить его – наша задача. А он приконченным быть не хочет. Опять, получается, нужны товарищи Хохряковы и Юровские. И тут они нужны, и там они нужны. И против темной массы, которые «грабь награбленное» только понимают, нужны. И против эксплуататорского класса, который грабил и теперь с награбленным расставаться не хочет, хотя в могилу его не возьмет, они нужны. Вот как шуба заворачивается.
Я спорить не умел. Говорить на отвлеченные темы и отвлеченными понятиями, выстраивая их в необходимый логический порядок, я не умел. Вернее, я выразить словесно это не умел. Бурков говорил складно, со своей логикой. Не разбирая ее на составные части, не вдумываясь в нее глубоко, этой логикой можно было увлечься. Бурков хотел иной миропорядок. Это было понятно. Он его собирался строить посредством своей революции против той революции, которую затеял сам, как он выражался, эксплуататорский класс. Его революция должна была воевать, как Германия, на два фронта. Она должна была воевать и против революции эксплуататорского класса, свершенной неизвестно для чего, если не брать во внимание обычные низменные человеческие страсти. И она должна была воевать против «темных масс», то есть против своего народа, представляющего опасность, как он сказал, выродиться в передел собственности, в «грабь награбленное». Для такой войны стала необходима диктатура пролетариата, в лице Хохрякова, Юровского и других. В отвлеченных рассуждениях это было понятно, как бывает понятен всякому нижнему чину армии приказ взять такой-то город. Что же тут не понять – взять его и всё! – Непонятным становится совсем простенькое – как и какими силами, чем, с кем и в какие сроки взять. Столько же много непонятного выходило и из логики Буркова, надо полагать, не его личной логики, а логики ему внушенной. Если диктатура пролетариата, то почему этой диктатурой руководит матрос Хохряков, владелец фотографии Юровский, владелец будки для чистки обуви Брадис, уголовники Цвиллинг и Прокопьев – это, если вспомнить Туркестан. Почему ею руководят все, кроме самих пролетариев, к которым, вероятно надо причислить и меня, если и не производящего продукт, то оберегающего производителя!
– Гриша, а ты чьих происхождением будешь? – спросил я вопросом некоего матроса Фомы.
– Я-то? – сразу понял меня Бурков. – Я из земских учителей: история, география, русский язык – одним словом общественные гуманитарные науки. А, вот, сказал слово «гуманитарные» и почти дословно вспомнил то, как говорил Маркс. Вот: «Подлинное упразднение частной собственности имеет смысл только тогда, когда оно свершается духовно развитыми, совестливыми людьми, которые уже переболели жаждой богатства. Нет ничего омерзительнее, чем желание люмпена обладать тем, чем обладают другие, расправиться с тем, чем не могут обладать все. Он теряет дар гуманитарного подхода к человеку и истории, когда оказывается во власти своей теории революции и диктатуры пролетариата». Вот так сказал Маркс!
– То есть упразднение частной собственности должно свершаться мной! Я с рождения не болел никакой жаждой богатства! – весело воскликнул я.
– Хы, тобой! – фыркнул Бурков, почувствовав некий изъян в своих, то есть своего кумира, словах.
– А ты его читал в подлиннике? – спросил я.
– Какое. Я и в глаза-то ни его, ни его трудов не видывал! – сказал Бурков.
– А как же берешься цитировать, более того, исповедовать? – спросил я. – Этак в старину наши священники, не видавшие ни разу ни Ветхого, ни Нового Завета, толковали их, как могли! Всех можно было зачислять в еретики да тащить на костер!
– Еретики твои еретиками. Может, они и брехали за здорово живешь. Черт с ними. А только я все взял от людей, прошедших не университеты и академии, а тюрьмы. Вот тебя я еще в поезде отметил, никакой ты не прапор военного времени, ты кадровый и именно штаб-офицер, как оно и оказалось. Но я отметил и другое. Я видел, как с тобой обходился казачий сотник Гриша, фамилия выскочила. Он тебя лелеял и холил не за страх, не за службу, а за что-то такое высокое, что… сказать не могу. Вот это-то во мне отложилось. Потому-то сегодня я за тебя вступился. И в тех, кто меня учил марксизму, тоже было такое высокое, что… сказать не могу. От них я эти слова Маркса знаю. Они мне говорили: «В тюрьму наш брат попадает не страдать и не отдыхать. В тюрьму наш брат попадает учиться. Почти в каждой тюрьме старанием местной политической организации, ты бы знал, была своя библиотека и не только с Ветхим Заветом, а такими книгами, которых на воле днем с огнем не сыщешь. Там тебе были и Карл Маркс с Карлом Каутским, там тебе были и Кропоткин с Бакуниным. На любой вкус».
– «Записки революционера» князя Кропоткина где-то и у нас в библиотеке есть, еще батюшка мой покупал! – неумно вставился я.
– Что там князь Кропоткин, вождь анархистов, понаписал, я не знаю. А вот его анархисты просто дурят, просто издеваются над революцией. Вот вчера вышел я из редакции «Известий», иду домой к себе в караулку. На углу Покровского и Тихвинской подсовывает мне некий тип бумаженцию. Я взял – все на закрутку сгодится. Дома в караулке читаю – анархисты! Вот послушай, сохранил, сгодится против них же! – Бурков достал из кармана гимнастерки мятый листок. – Вот, «Анархический манифест» называется. Его как раз бы Ивану Филипповичу зачитать. «Угнетенная национальность, освободись! Уничтожь отечество! Уничтожь – и не будет больше ни твоей России, ни его Германии! Отечество есть грабеж и разбой. Твори анархию!.. Женщина! Сбрось с себя цепи воспитания детей. Уничтожь домашнее хозяйство и домашнее воспитание. Будь человеком!.. Заключенные, кандальники, преступники, воры, убийцы, поножовщики, кинжалорезы, отщепенцы общества, парии свободы, пасынки морали, отвергнутые всеми! На пиру жизни займите первое место!.. Деревня! Пусть деревня станет городом, а город деревней!.. Учащаяся молодежь! Исключите из школы религию и науку, культуру отцов! Создайте вашу культуру, культуру анархии!..» – и в этом духе дальше. Вот это что, революция?
– Ты меня спрашиваешь, товарищ Бурков? – усмехнулся я.
– Темная ты масса, штаб-офицер Норин! Я тебе всю сложность момента показываю, а ты кочевряжишься! – как бы выговорил мне Бурков и, завершая разговор, еще раз посоветовал оставаться в личине прапорщика военного времени и учителя. – Говори, что учительствовал в этом своем Батуме, что ли. Туда теперь никаким стуком не достучаться. Не прознают! И мой совет – не лезть в революцию, раз ты ничего в ней не понимаешь! Можешь в такое вляпаться, что уже никто не поможет. Тонкое это дело, революция, очень с кровью связано!
– Но, Гриша, если твой Маркс говорит, что нет ничего более мерзкого, чем жажда черной массы прихватить чужое, что же вы взялись за это? – спросил я.
– А то, дорогой мой Боря, что ждать, когда эта черная масса посветлеет, только дурак согласится. Это же века надо. И черт знает, что за эти века произойдет. Может, эта масса не только не посветлеет, а и еще в большую тьму ухнет. Ей что, массе-то! – хмыкнул Бурков и снова посоветовал мне не лезть в революцию. – Я знаю, что говорю! Маркс пусть там, в Европах, марксует. А мы тут, в России, ждать ленинмся! Мы мир переустроить тотроцкимся! – сказал он, специально и со смаком выговаривая каждую букву своих неологизмов, произведенных от имен своих вождей.
– Власти хочется? – спросил я.
– Мне-то нет, – сказал он. – Мне и революции не хочется. Учительствовал бы себе. А вихрь захватил.
– А если потороцкпитесь да Россию вообще с карты мира стереть не поленинмтесь? – спросил я.
– Не будет такого! – сказал он.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































