Текст книги "Лизавета Синичкина"
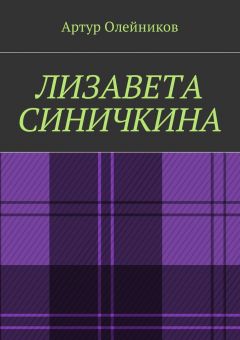
Автор книги: Артур Олейников
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
IV
Муста не заметил, как пролетело несколько часов. Порою не замечаешь, как куда-то провалилась целая жизнь, лишь только стоит задаться проклятым «почему». Сознание Мусты пребывало в параллельном мире неосязаемой субстанции из вопросов и мыслей, что незримо окутывает человечество и землю. Как будто этого мира и нет, нет ни на одной карте, но он существует, бурлит, и только по дуновению своих ветров, что зовутся мыслями, может возводить и разрушать целые империи. Муста пытался найти ответ, как отыскать спасение, и каждый раз в памяти Мусты вплывали слова его учителя: «Учись Муста, заклинаю, только учись, и тогда весь мир со всей своей красотой откроется твоим глазам и сердцу». И Мусте было горько, и он снова и снова спрашивал: «Почему же мой благословенный наставник не сказал, что со всей красотой мира его глазам откроются и язвы». Нет, Муста не желал, чтобы было иначе, не желал неведенья. Он знал, что нельзя познать прекрасное, пройдя стороной горе и беды. Но где же брать столько сил, где искать ночлег и пищу во время титанического пути? Муста верил, что силы – в деле великих художников, что главная вселенская мысль одна, и эта мысль – свет. Что, когда-то захлопнув перед человеком двери рая, Бог дал человеку все шансы, чтобы когда-нибудь снова вернуться домой. И художник и есть тот самый проводник, что указывает дорогу человечеству. Факел, что своим гением-пламенем повелевает расступиться темноте и дать дорогу. И поэтому художнику, изображая жизнь, надо ставить перед собой куда более великую и ценную задачу, чем просто отразить эпоху и время, в котором ему по жребию выпало жить. Настоящий художник не может себя ограничивать просто описанием уклада жизни, реформ и катастроф. У настоящего художника просто нет на это право, потому что он – надежда на возращение.
Лучик света, подхваченный самым первым художником с незапамятных времен, передается как эстафета в форме слова и изображения. И когда вдруг то или иное поколение забывает о своем пути и только начинает занимать свои сердца сомнительными благами того времени, в котором живет, или мнить себя божеством, все начинает рушиться. И миссия художника – не дать человечеству, сбившемуся с пути, окончательно провалиться в пропасть. И пусть придется погибнуть в неравной борьбе, но продолжить великое начинание благословенных предшественников. Но настоящий художник, на то он и подледный проводник, что не может и не умеет поступать иначе. Если вы только ради того мучаете холст и бумагу, чтобы запечатлеть картинку эпохи и того времени, в котором вы живете, не обманывайтесь, вы не художник. Купите себе фотоаппарат.
Начинало темнеть, люди потянулись в дома. Муста не был художником, но был из тех немногих, кто чувствовал и понимал ярче и острее других. И скорее надо было ему быть учителем, и он им бы стал, если бы только не гибкость его мыслей. Муста не мог быть непреклонным, так, что до потери рассудка. Он рассуждал и всегда пытался понять. Даже пусть самый скверный шаг он пытался разложить на составляющие, чтобы отыскать причину. Настоящий же учитель должен быть непреклонен, так, что до потери рассудка. Неся разумное вечное, учитель обязан, видя перед собой черное, называть черное черным, белое белым. Никаких компромиссов, только черное и белое, только добро и зло. Увидеть оттенки и оправдать то или иное явление невозможно, чтобы не поколебать аксиомы, чтобы не усомниться в постулатах, на которые сам Бог наложил табу. И как, спрашивается, учитель будет нести разумное светлое, если сам будет искать ответ на те вопросы, ответы на которые ему уже дали и велели нести. Если сказано в заповеди: не укради, учитель обязан учить не красть, он не может рассуждать, когда не укради, а вообще вдруг может стать, что будет нужно украсть, украсть во имя спасения жизни? И что тогда делать, украсть или нарушить табу? Если подобными рассуждениями будет заниматься учитель, у него даже не будет времени, чтобы озвучить главный свод законов и правил, а если их не озвучить, то и размышлять в конечном итоге получится не о чем. Муста не мог быть учителем в самом главном его смысле, потому-то не мог себе представить, чтобы не рассуждать. Муста был из тех важных составляющих, без которых немыслим свет, так же, как он немыслим без художников. Много сделаешь с одним лезвием, пусть и острым, как бритва, но без крепкой надежной рукоятки? Конечно, что-то и сделаешь, отрежешь, заточишь, но все-таки сомнительно, что построишь дворец. Например, если зажженную свечу нести во время грозы и ветра, какое ни было бы сильное пламя, пламя погаснет. Так и с мыслью, какой бы она не была совершенной, мысль нужно еще донести сквозь мрак и невежество жизни, указать на нее другим, научить разглядеть и как можно правильней и лучше воспользоваться силой, заключенной в мысли, а если надо, то и пожертвовать ради мысли прежней аксиомой. Нет, не разрушить прежнюю так, чтобы до основания, а потом на пепелище строить новую, потому что прежняя была стара и не подходит под новый уклад жизни. Например, понять, что все-таки можно, а порою и нужно украсть, если от этого зависит жизнь. Но это не значит, что тогда можно красть. На то он свет, что он не может обратиться во что-то иное, например, в дым или воду. Свет только может сделаться ярче или тускнея в зависимости, насколько общество в то или иное время гуманно и человечно. Великая Божья заповедь все одно, что фундамент дома для человечества – мораль, без которой мир разрушился бы до основания. Случается в жизни, что заповедь приходится нарушить, но нельзя заповеди отойти целиком и полностью, так, что вообще, потому что на ней держится вся жизнь, все мирозданья. Такие, как Муста, ищут, не как нарушить заповедь, чтобы потом оправдаться. Например, знаменитое: мне ничего не оставалось, как убить шесть человек, потому что нечего было есть. Такие, как Муста, мучают себя вопросом, почему нечего было есть, когда вокруг миллион сытых людей. Почему человек порою наделен такой гордыней, что не мог самому себе разрешить попросить помощи, вместо того, чтобы спросить, убил шесть человек. Покрыл себя кровью, но «не унизился».
Муста был мыслителем, тем, кто горячо переживает и несет в своем сердце свет, зажженный художником. Муста не мог изобразить на бумаге или на холсте высоконравственные художественные картины, он мог увидеть, почувствовать главное и, подхваченный чувством от соприкосновения с истинным неподдельным источником светлого, сделать, может быть, самое главное – это снова и снова пробовать воплотить труд художника в жизни. Поэтому, невзирая на сомнения в своей силе, Муста завел двигатель и поехал к дому Ломовых, чтобы встретиться с отцом Ирины и пробовать, пусть даже опрометчиво и безрезультатно, но пробовать указать на свет и спасти.
«Неужели они не поймут? – спрашивал Муста и вдруг тут же осекался и впадал в отчаянье. Как же, например, отец Ирины мог понять наивысшие предназначения женщины на земле, если проклятая огласка была для него существенней и больней плача сердца собственной дочери. Дожить спокойно, скоротать последний десяток лет в сравнительной тишине, какое убогое страшное счастье! Что же нужно было, чтобы Ломов содрогнулся и снова стал, как тогда, когда был маленьким Леонтием, когда мать прижимала его к груди, и самым главным в жизни малыша было то, как волнуется сердце матери, а не то, что подумает или скажет о нем пьяный сосед сапожник или темная баба? О, ребенок – олицетворение божьей чистоты на земле, как не испорчено твое сердце, благословенный дар. Кем же надо быть, чтобы тебя очернить, превратив в страшный рассадник невежества? Муста всю жизнь мучился, почему вот Аслан-беку или тому же Ломову не повстречался на пути такой учитель, как повстречался ему? И почему их, настоящих учителей так мало, просто ничтожно мало, приходит в нашу жизнь? «Ох, если бы была целая армия таких Рощиных, тогда совсем иная была бы жизнь», – думал Муста. Но в глубине разума осознавал, что не только наличие учителя способствует развитию личности, что окружающая социальная среда имеет немаловажный весомый фактор. И еще, пожалуй, самое главное, случай – божественный промысел, который так расставит все по местам, что в конечном итоге выйдет узор. Как много нужно, чтобы талант развился в гений. Все одно, что зерно, чтобы проросло, нужны усилия не одного десятка людей, благоприятная внешняя среда, имя которой, если хотите, пусть будет удача.
На примере Ирины на удачу Муста не рассчитывал, какая могла быть удача, если вдруг окажется, что сердце Ломова в оковах. Муста не знал Ломова лично и первый раз увидел того за свадебным столом. И припоминая Ломова, печалился с каждой минутой все больше. «О, как этот Ломов неловко держался, – вспоминал Муста. – И опасался задеть локтем соседа, но нет, не потому что был деликатен, а потому что, наверное, боялся, что о нем подумают гости за столом, если неустанно косился по сторонам. А как он говорил, путаясь и заикаясь, притом, что не волновался, опять, скорее всего, потому что боялся, что о нем скажут родные и гости. Нет, Ломов не Проскурина, та плюнет и разотрет, набросится с неистовством раненого зверя, попробуй только на нее вякнуть или пойти вразрез с ее мнением. Если и станет терпеть, то только чтобы получить сполна, и что такое для Проскуриных общественное мнение, если по сути своей, такие, как она, его делают. У, лучше бы Ломов был такой, как Проскурина, такая за своего костьми ляжет и ей будет начхать, что скажут другие, – горько подумал Муста и остановился у дома Ломовых».
Наступила уже почти ночь, но вокруг было светло, несколько ярких фонарей хорошо освещали улицу. В запачканном пылью костюме, с красными опухшими глазами, весь какой-то взъерошенный, словно поднятый спасатель, но не выспавшийся, Муста пришел в дом Ломовых. Все вокруг дома Ломовых блестело от чистоты и ухоженности, но не потому что любили порядок, а потому что, только чтобы не сказали чего дурного о его хозяине. Сверкающие от краски металлические ворота, ослепляющая оранжевая газовая труба, новые ставни на окнах, – все было идеальным, чтобы только не было разговоров. И казалось, что от такого надуманного порядка терялась правда, как прибранная улица в городе, разбитым бомбежками. Город лежит в руинах, а одна улица отполирована до блеска, чтобы не говорили, что все уж совсем плохо и ничего не осталось. А может то пепелище от сожженной школы, что бесследно убрали, было самое чистое, самое правдивое доказательство безумства одних и боли других – страшное напоминание, которое надо было пронести через поколения в память погибших и ради живых, а эта бутафорная улица – опасный мираж.
Ворота открыл сам Ломов. Он настороженно посмотрел на непохожего на самого себя Мусту, прежде всегда безупречно опрятного, с манерами профессора.
«Доктор, называется, что люди скажу! – подумал Ломов. Прямо из ямы какой!
И только потом уже Ломова ударила в голову мысль, что, наверное, что-то случилось. Все в жизни Ломова происходило после рассмотрения ситуации, касающейся огласки, и только потом приходили другие мысли и выводы, и было бы славно и не так тяжело, если доводы здравого смысла побеждали бы предубеждения, а не снова и снова разбивались бы о страх быть подхваченным молвой. Страх, который как будто, так и струился из каждой поры на лице несчастного.
Ломов посерел, как только понял, что если доктор у его ворот в таком состоянии, на это должна быть веская причина. И не какая-нибудь там сказочка про белого бычка, удар, гром среди ясного неба, такой треск, что завтра вся деревня только и станет об этом судачить.
– Зайдите, – нервно сказал Ломов. Запустил Мусту на двор и потом, когда закрывал ворота, еще долго смотрел в обе стороны улицы, не видел ли кто ненароком доктора.
«Машина! – ударило в голову бедному Ломову, когда он встретился с „Жигулями“ Мусты. Прямо посреди улицы у всех на виду».
На Ломова в одночасье стало больно смотреть. Сильный мужчина весь съежился, втянул крепкую шею и предстал глазам Мусты, как побитая собака.
Все пропало! Мусте захотелось закричать. Только одно крутилась в мозгу у Мусты, что теперь будет с Ириной.
Муста бросился к Ломову и, уже не отдавая себе отчета, кричал.
– Ирина беременна! Ради всего святого, поддержите дочь, – умолял Муста и вдруг в каком-то беспамятстве встал перед Ломовым на колени.
Ломов, остолбенев, смотрел на растерзанного отчаяньем человека, и что-то шевельнулось у него в сердце. Но это был всего лишь призрак детства. Природа ценностей Ломова сыграла со своим хозяином злую шутку. Ломов, видя состояние Мусты, придумал себе, что дочка беременна от доктора. А значит все не так уж и плохо.
«И любит вроде бы, – стал «логически» рассуждать Ломов. Вон, в каком виде явился, на коленях стоит, просит поддержать. Все видно, что дело к свадьбе идет. Ну, нерусский, так что?! Зато жениться хочет и доктор, никто слова не скажет. Главное жениться! – облегченно заключил Ломов и стал по-отечески поднимать «зятя» с колен.
– Да ладно, будет. Что я зверь, какой?! Вставай, боже мой, вставай, – и Ломов обтряхивал пыль со штанины доктора.
Муста смотрел на Ломова и плакал. Как голодный падает от стакана водки, Муста, изможденный, без долгого соприкосновения с радостью, только лишь от одной улыбки Ломова был не в себе.
– Вы не представляете, не представляете, – бормотал Муста, как в бреду, – какое вас ждет счастье.
Ломов умилялся, и скоро даже у него засверкали слезы.
– Ира, Зина, – стал «счастливый отец» звать семью.
Первой пришла Ирина и, только увидев счастливого Мусту и сияющего отца, бросилась в объятья обоих. Ирина смеялась: «отец Рафика дал свое согласие, они с Рафиком поженятся».
Несчастная Ирина целовала Мусту. В первый и последний раз в жизни они все были так счастливы, плакали и смеялись. О, если бы можно было остановить время, каждый из них отдал бы собственную жизнь, хотя бы еще за одну дополнительную минуту счастья. Распрощался бы с небом и солнцем, чтобы только отдалить самый страшный миг жизни, такой миг, когда рушатся надежды.
Пришла Зина.
– Проспишь все на свете, – весело говорил Ломов. Дочка замуж собралась, а ты телишься! Да что стала, ошалела, – засмеялся Ломов. – Иди зятя целуй.
«Зятя! – словно током прошибло Мусту, слезы счастья высохли от жары. Во рту у Мусты пересохло, он не мог произнести ни слова.
Ирина, застыв, широко распахнутыми глазами молила Мусту ей ответить, объяснить, что она ослышалась.
Ломов почернел:
«Никакой свадьбы не будет!»
Ирина закрылась руками.
Муста закатился страшным хохотом, который стал переходить в рыдание, и вот уже по щекам доктора текли горькие слезы. Королева судьба сыграла со своими куклами страшную шутку.
Зина толком не понимала, что все-таки произошло, но чувствовала по настроению и лицам, что что-то очень серьезное, и была растеряна и не знала, что делать, как маленький ребенок, потерявшийся в лесу, когда настает момент, и он начинает понимать, что это не игра – случилось страшное.
V
И только об одном просил Ломов, держать язык за зубами.
– Опомнитесь, – молил Муста и думал:
«Да пусть все знают, пусть Аслан-беку будет стыдно, хотя скорей небо упадет на землю, чем его черствое сердце станет мягче. В чем виновата Ирина и Рафик, этот несчастный молодой человек?»
Муста хотел пойти в сельсовет, чтобы на Аслан – бека повлияли «сильные мира сего», то единственное, с чем страшный человек считался.
Но несчастный глупый Ломов позеленел, когда заговорили о сельсовете, и положил бы доктора на дно колодца, чтобы только никто не знал, если тот не пообещал бы ничего не предпринимать и не уехал бы. И чтобы только никто не увидел и не узнал перед рассветом, когда Ломов вышел из дома.
Ночь была уже белой, и с минуту на минуту должно было начаться самое большое и главное чудо природы – шаль, из ночного тяжелого воздуха укутавшая на ночь землю, как занавес станет открывать горизонт, и покажется огненный край солнечного диска. Постепенно, как все живое на земле, солнце и свет станут расти, и, достигнув полного совершенства, божья благодать упадет на землю. И каждый совершенный житель земли и тот полевой цветок, что навстречу свету откроет лепестки, и птица, что воспарит в небеса, каждая травинка и все до одного листочка на деревьях узнают, что такое настоящее счастье. И только несовершенный человек порежет себя на ремни, измотает себе и окружающим душу и, израненный от борьбы, познав все круги ада, вдруг поймет, а зачем было где-то ходить и так мучить себя, если каждый новый день Бог дарит свою благодать. И будет бесценно такое совершенство, потому что, чтобы прийти к такому совершенству, нужно все потерять или от всего отказаться. Лишь одно единственное сомнение отбросит на сто шагов, заставит придумать себе гору формул и тьму теорем. И человек снова окажется в пучине, но он все равно когда-нибудь вспомнит и придет к главному, и пусть у него не будет времени и сил быть счастливым, он будет знать, что нужно было сделать, чтобы быть счастливым. Потому что Бог своему самому несовершенному творению подарил самое великое, что есть – разум и сердце.
Ломов смотрел на рассвет, но был слеп и не видел самого главного.
«Пока не поздно, пока не узнали, – било в виски Ломову, и страшный бич заставлял ноги идти. Уснувшее сердце, просто, как обыкновенный насос, гнало по венам кровь, и Ломов не мог слышать, о чем шептались листья друг с другом, про что где-то пел соловей, и ворковали голуби под крышами домов. И только одно могло пробудить сердце – горе. О, какая страшная цена! Господи, твоя щедрость не знает границ. Никто, кроме тебя, Господи, не смог вытерпеть столько, сколько терпишь ты, Господи, так возьми не так дорого за свое самое необыкновенное богатство. Понимаю тебя, Господи, ты не можешь продешевить – скупой платит дважды.
Если бы только Ломов знал, какую ему придется заплатить цену, чтобы его сердце как в том далеком детстве снова жило, не только как бесчувственный насос, а смогло чувствовать и понимать, отчего так счастлив жаворонок на рассвете.
Как в каком-то панцире Ломов пришел на двор Проскуриных, ничего не слышал и не чувствовал вокруг, кроме язвы, которая съедала его душу. Лишь одно видел и представлял несчастный слепец, чтобы не посрамиться.
Господи, прости Ломова и тех, кто ступает по его страшным следам, ибо они не ведают, что творят, и без твоего праведного гнева, Господи, они будут наказаны сполна.
Разбуженная Проскурина сердито бросилась на незваного гостя.
– Что тебе, леший, дома не сидится? – кричала Проскурина. У меня своих петухов полный двор!
Но ясней раскрыв глаза, вдруг осеклась. Ломов стоял черный и деревянный, все одно, что кора на дереве.
Проскурина закрестилась.
– Ирина беременна, – сказал Ломов траурным голосом.
– О, дурень! – выругалась Проскурина и, держась за грудь, села на крыльцо. Я же подумала. … Да что б ты провалился!
– Надо что-то делать!
– К жениху идти, так сами должны собираться! – смотрела Проскурина на Ломова, как на пьяного.
– Не придут они! – тяжело говорил Ломов.
Проскурина стала понимать, в чем дело.
– Что значит не придут?! – пришла в ярость Проскурина и, как, может быть, командир встает из окопа, чтобы пойти в атаку, не страшась ни пуль, ни осколков, встала во весь рост:
– Кто такие?
– Мамедовы!
– Так что?! Чай не царь! Пошли, – сказала Проскурина, не отдавая себе отчета, что стоит в одной ночной рубашке.
Проскурина сделала шаг с порога и только потом поняла свое положение.
– Совсем мозги запудрил. Я сейчас! Тепленькими возьмем.
– Пустое, – сказал Ломов. Доктор ходил, не придут.
– Какой доктор, ты что, белены объелся?
– Дружок!
– Му.… Как его, а, Муста, что ли?
– Он самый.
– И что?
– Сказал, не придут. Надо что-то делать, откроется.
Проскурина задумалась, и на душе у нее заскреблись кошки:
«Ну, если этот херувим сказал, что не придут, значит, правда».
– Ты каждую собаку на сто верст знаешь.
Проскурина посмотрела на Ломова, как на покалеченного.
– Пойди, проспись!
– Все согласны!
Проскурина изумилась.
– И Зина?
– Все!
– Ну, так ведите в больницу, чай не первобытные!
– Узнают! – жалобно сказал Ломов.
– О, заладил. Да и черт с ними!
– А как же ей потом?
Проскурина разозлилась.
– То и смотрю, вы о ней думаете, что на все согласны. А если девка без детей останется?
– Бог милостив! – прогудел Ломов.
Проскурина сверкнула черными глазами.
– Ишь, грамотей! За Бога прячется – Бог заступится! Это, за какие такие заслуги, что ты ее бабского счастья лишишь?
– Помоги!
– Нет, не буду я в этом участвовать!
– Помоги, иначе сам что-нибудь сделаю.
– Да ты что! – похолодела Проскурина.
– На твоей совести будет! – зло сказал Ломов и стал уходить.
– Стой, вернись, дурак! – бросилась Проскурина возвращать безумца.
Ломов сказал, что все согласны, и он действительно получил «согласие», но таким изуверским путем, что это можно было прировнять все равно, что к убийству. Угрозами и сомнительными страстями по тому, что будет, когда все откроется, он лишил своих домашних одного из самых важных составляющих мирозданья – воли поступать только так, как говорит твое сердце и разум, и не важно, насколько благородны или бесчеловечны твои поступки. Что за чудовищность мы плодим, добиваемся положения, гонимся за сомнительными богатствами, стараемся стать сильней, в тайне мечтая обратиться в богов на земле, но только не за тем, чтобы приблизить вселенское счастье. Какой страшный бич калечит наши сердца и заставляет тратить драгоценное время, которое можно было израсходовать на достижение настоящего счастья. Насколько мы в массе мелки и как можем презирать того, кто вдруг вразрез сомнительных правил воспарит над толпой, ни разу не задумываясь, что он для нас воспарил, чтобы мы вдруг поняли, что тоже на что-то способны. И не только для того, чтобы зашвырнуть в благословенного камень. И в чем, по сути, виноват несчастный Ломов? За то, что люди могут его не понять, за то, что он изберет тяжелую ношу, когда можно было жить налегке? И когда осознаешь, что, правда, могут не понять, разве не должно быть стыдно? До того человек сужает свой ум и гасит благородные порывы собственного сердца, что порою предпочитает всю жизнь отсиживаться в кустах, чем хоть единожды встать во весь рост. Но разве после этого и вправду трусость не самый гадкий и ужасный из человеческих пороков?!
Но еще страшней, когда человек решится, и пусть безрассудно, пусть без малейших видимых шансов на успех, а ему запрещают, и он вдруг даст слабину и отступится. И потом, о, будьте уверены, придет такое страшное время, что он проклянет и себя и ту минуту, когда предал благородные порывы своего сердца.
О, Господи, ты сотворил нас по своему образу и подобию, но почему ты не наделил нас своей могучей силой? Да, понимаю, Ты желал окружить себя героями, а не богами. А что же тогда делать обыкновенным людям? О, Господи, прости меня, как мог я твое творение назвать обыкновенным, если ты наделил человека и сердцем и разумом. Ну что же тогда делать? О, понимаю, но как трудно порою представить, а еще трудней поверить, что Давид победил Голиафа. Давид же был обыкновенный пастух, такой маленький, и носил только пращу. А Голиаф – великан, сразивший сотни тысяч войск. Господи, как такое возможно? Ты пошутил? Да, понимаю тебя, Господи, проверить это можно только самому.
Вот и несчастная жена Ломова, не то, чтобы испугалась нести тяжелую ношу и на время возложить на себя нелегкое бремя матери маленького ребенка. Что, собственно, ей было страшиться, если она уже была матерью. Она испугалась именно выступить против страшного великана, испугалась, что не сможет его одолеть. У каждого без исключения есть свой страшный великан. У Ломовой это был тот страшный женский бич, что женщина с ребенком на руках не сможет обрести счастье. Что теперь ее Ирина никому не будет нужна, не выйдет замуж и умрет одинокой и несчастной.
О, Господи, сколько безверие еще будет причиной страшных шагов? Почему же ты, Господи, так мало оставил ясных подтверждений своего существования? Да, понимаю, тебя, Господи, что же это будет за вера, если кругом будут разбросаны волшебные палочки. Знаю, что Фома уверовал, потому что только этого и желал, что не желай Фома верить, тогда упади ему слон на голову, он придумал сотню отговорок и заключил, что у слонов есть крылья и нашел бы эти крылья, обозвав большие уши слона крыльями теми, что остались от динозавра, и вот этот свалившийся ему на голову слон – единственный, кто выжил. Как он собственно жил все прошедшие миллион лет и чем питался, неважно. Мерз в Антарктиде, обгладывал айсберги и вот оттаял до нужной температуры и воспарил и свалился на голову, а то, что уши у того, что свалился, такие же, как и у обыкновенных слонов, ерунда. Это они просто отощали за миллионы лет, ничего не попишешь – эволюция. Смешно?! Да где там, больно до слез. На что, спрашивается, потратит фантазию и полет мысли. Все, что угодно, любой абсурд, но только чтобы не признавать.
Прости меня, Господи, как можно теперь не понять, за что ты порою так горько наказываешь нас. И как человек со своим пресловутым слоном сможет почтить истину, если ему не расшибить голову об стену. О, если б одна разбитая голова спасала хотя бы еще одну, не говоря уже о двух.
Если и был кто по-настоящему несчастен, так это Ирина. Она до последнего дня жизни будет надеяться и ждать, что распахнется дверь, и Рафик ее спасет. Она ждала бы независимо от того, лишили бы ее ребенка, или она радела бы. Если бы ребенок родился, и она стала матерью, ждать было бы не так печально и больно, но она все равно ждала бы. И в конце, так и не дождавшись, умерла бы еще от более страшного горя, умерла бы без веры.
Я понимаю тебя, Господи, и прославляю тебя, Господи, за твою благодать. За то, что ты, Господи, пошлешь Ирине заблужденье, не то слепое заблужденье, что толкает вершить беззаконие, а такое, что сохраняет в сердце веру.
Поздно ночью в дом Ломовых пришла какая-то семидесятилетняя русская бабка и вместе с беременной Ириной и Ломовым закрылась в комнате.
Ирина дрожала.
– Пожалуйста. Папа!
– Потом спасибо скажешь! – отвечал Ломов и недоверчиво косился на старуху: «Не проболталась бы!»
Старуха по-стариковски, в толстой юбке и шерстяной кофте тепло улыбалась, приблизилась к Ирине, и все одно, как мать, ласково стала гладить по голове.
Ирина вздрогнула и попятилась. Что-то зловещее сидело в сердце у старухи, как бы она ни улыбалась и не притворялась доброй, девушка видала перед собою ведьму. И оттого, что старуха так тепло улыбалась, а не носила клыки на самом виду, было во много раз страшней.
Ирине стало казаться, что это сон, что сейчас отец отшвырнет от своего ребенка страшного человека и, как в детстве, возьмет свою дочку на руки.
Ирина была в халате и без белья, как велели.
Не смущаясь вида повзрослевшей дочери, Ломов стал раздевать Ирину. Несчастная тряслась, кошмар все длился и длился и со временем только стал приобретать более чудовищную картину. Сам тот факт, что Ирину раздевал и отправлял на казнь родной отец, обезоружил девушку и лишил воли.
Голую Ирину положили на матрас, приготовленный на полу, и приказали раздвинуть ноги.
Бабка достала из сумки длинную острую спицу и стала греть докрасна на свече.
Ирина подсознательно стала сдвигать ноги, как только спица засверкала в руках у старухи.
– Держи, ух, шустрая, – засмеялась старуха и с раскаленной сталью направилась к девушке.
На доли секунды Ломов дрогнул и замер над дочерью.
Ведьма улыбнулась:
– Думай, сынок, тебе решать, что люди скажут. А люди злые, добро на деньги променяли! А я что, только чтобы концы с концами свести. Замуж выйдет, потом спасибо еще скажете. Ну, давай скорей, спица остывает.
И Ломов силой стал раздвигать ноги дочери.
Ирина кричала и пыталась вырваться. Сильный Ломов держал намертво, словно не убивал, а отстаивал жизнь.
У старухи долго не получалось как следует глубоко проткнуть Ирине матку, чтобы добраться до ребенка, и, наконец, проткнув, она вытащила свой страшный окровавленный инструмент из девушки.
– Все, помер касатик, царство небесное. Еле проткнула! Головка уже дюже большая. Пораньше бы! Когда корка на головке тоненькая, как яичная скорлупа. Если проткнула, сразу слышно.
Бабка взяла деньги и стала собираться.
– Не переживайте, выйдет с кровью касатик.
– Зина, – позвал Ломов, – Не бойся, иди. Все закончилось, – говорил Ломов, укрывая Ирину халатом. Ты пока не шевелись, как бабушка велела. Я потом тебя на руках отнесу, мать уберет, – говорил Ломов про лужу крови на полу, как о разлитом молоке. Ну что ты дрожишь, дуреха. – Зина, сколько тебя ждать?! Тряпку неси.
Но Зина уже давно пришла, стояла за дверью и боялась входить. Зина поняла, что может теперь никогда больше не увидит свою дочь такой, какой та была прежде. Мать не видела дочь, но чувствовала, что жизнь разделилась на две до ужаса непохожие половины до и после чудовищной минуты.
– Зина, ты что там, оглохла?! – начинал злиться Ломов.
Мать вскрикнула, все одно, если у нее на живую отрубили руку, и бросилась из дома.
Ломов выругался и злой пошел смотреть, что с женой.
Зина пластом лежала на крыльце, обливалась слезами, она хотела убежать, но у нее не было сил, и мать, словно подкошенная, упала там, куда смогла добраться.
Ломов испугался и стал поднимать жену.
– Вставай, сдурела что ли? Кончилось уже.
– Где Ира, где Ира, – забормотала мать и искала дочь красными от слез глазами.
– Куда денется, в комнате. Вставай.
Ломов поднял жену и, поддерживая, повел в комнату к дочери.
Ирина лежала с закрытыми глазами так, словно уснула. Страшное алое пятно расползлось по всей комнате, и когда родители пришли к дочери, подошвами стояли в крови.
Леонтий побледнел. От того Ломова, что был, как будто ничего не осталось.
Зина набросилась на мужа и стала покрывать его градом ударов. И каждый удар ранил сильнее пули, как будто отпечатывая на сердце Леонтия, что он сделал с родною дочерью, он сделал, а не язык пьяного соседа или темной бабы. И скоро сердце стало задыхаться и захлебываться от невидимых шрамов.
Леонтий закричал, ничего не видя, кроме изуродованной дочки.
Отец взял Ирину на руки и выбежал с дочерью на улицу. Зина побежала следом, но скоро упала и голосила в спину Леонтию.
Леонтий не чувствовал веса дочери и шел по плохо освещенной деревенской улице. По ногам Ирины сбегала кровь.
– Кто-нибудь, – умолял Леонтий. Помогите, помогите!
Загорались окна. Кто еще не спал, стал выбегать из домов на улицу. Прежде трясясь от мысли, что если даже одна душа узнает о его позоре, теперь Леонтию казалось мало сотни рук и глаз, чтобы спасти его дочь, и он взывал о помощи ко всему белому свету.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































