Текст книги "Метафизика половой любви"
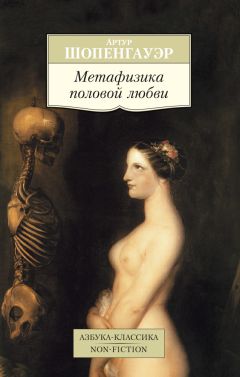
Автор книги: Артур Шопенгауэр
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Оптимизм – это, в сущности, незаконное самовосхваление истинного родоначальника мира, т. е. воли к жизни, которая самодовольно любуется на себя в своем творении, и вот почему оптимизм – не только ложное, но и пагубное учение. В самом деле, он изображает перед нами жизнь как некое желанное состояние, целью которого является будто бы счастье человека. Исходя из этого, каждый думает, что он имеет законнейшее право на счастье и наслаждение; и если, как это обыкновенно бывает, последние не выпадают на его долю, то он считает себя несправедливо обиженным и не достигшим цели своего бытия; между тем гораздо правильнее было бы видеть цель нашей жизни в труде, лишениях, нужде и скорбях, венчаемых смертью (как это и делают брахманизм и буддизм, а также и подлинное христианство), потому что именно эти невзгоды вызывают у нас отрицание воли к жизни. В Новом Завете мир изображается как юдоль печали, жизнь – как процесс очищения, и символом христианства служит орудие муки. Поэтому когда Лейбниц, Шефтсбери, Болингброк и Поп выступили со своим оптимизмом, то общее смущение, с которым они были встречены, зиждилось главным образом на том, что оптимизм и христианство несовместимы, как это основательно выяснил Вольтер в предисловии к своему прекрасному стихотворению «Разрушение Лиссабона», которое тоже решительно направлено против оптимизма. То, что ставит этого великого мужа, которого я, вопреки поношениям продажных немецких бумагомарак, так любовно прославляю, то, что ставит его гораздо выше Руссо, обнаруживая в нем большую глубину мысли, это следующие три его воззрения: 1) он был глубоко проникнут сознанием подавляющей силы зла и скорби человеческого существования; 2) он был убежден в строгой необходимости волевых актов; 3) он считал истинным положение Локка, что мыслящее начало вселенной может быть и материальным; между тем Руссо в своих декларациях оспаривал все это, как, например, в своем «Исповедании веры савойского викария», этой плоской философии протестантских пасторов; в этом же духе он, во славу оптимизма, выступил с нелепым, поверхностным и логически неправильным рассуждением против только что упомянутого прекрасного стихотворения Вольтера – в специально посвященном этой цели длинном письме к последнему от 18 августа 1756 года. Вообще, основная черта и первооснова всей философии Руссо заключается в том, что вместо христианского учения о первородном грехе и изначальной испорченности человеческого рода он выставил принцип изначальной доброты последнего и его безграничной способности к совершенствованию, которая будто бы сбилась с пути только под влиянием цивилизации и ее плодов; на этом и основывает Руссо свой оптимизм и гуманизм.
Как Вольтер в «Кандиде» вел войну с оптимизмом в свойственной ему шутливой манере, так Байрон выступил против этого же мировоззрения в манере трагической и серьезной – в своем бессмертном и великом творении «Каин», за что и удостоился поношений со стороны обскуранта Фридриха Шлегеля. Если бы, наконец, в подтверждение своих взглядов я хотел привести изречения великих умов всех времен в этом враждебном оптимизму духе, то моим цитатам не было бы конца, ибо почти всякий из этих умов в сильных словах высказался о безотрадности нашего мира. Поэтому не для подтверждения своих взглядов, а только для украшения этой главы я закончу ее несколькими изречениями подобного рода. Прежде всего упомяну, что греки, как ни далеки они были от христианского и верхнеазийского миросозерцания, как ни решительно занимали они позицию утверждения воли, все-таки были глубоко проникнуты сознанием горести бытия. Об этом свидетельствует уже то, что именно они создали трагедию. Другое подтверждение этому дает нам впервые сообщенный Геродотом (V, 4), а впоследствии неоднократно упоминаемый другими писателями фракийский обычай приветствовать новорожденного воплями и выкликать перед ним все злополучия, которые отныне угрожают ему, тогда как мертвого фракийцы хоронили весело и с шутками, радуясь тому, что он отныне избыл множество великих страданий; это в прекрасных стихах, которые сохранил для нас Плутарх («О поэтических вольностях», в конце), звучит следующим образом:
«Они оплакивали родившегося, который идет навстречу стольким печалям; а если кто в смерти находил конец своим страданиям, того друзья выносили с приветом и радостью».
Не историческому родству народов, а моральному торжеству самого факта надо приписать то, что мексиканцы приветствовали новорожденного следующими словами: «Дитя мое, ты родилось для терпения: терпи же, страдай и молчи». И, повинуясь тому же чувству, Свифт (как это передает Вальтер Скотт в его биографии) уже сызмлада приобрел привычку отмечать день своего рождения не как момент радости, а как момент печали, а в этот день всегда читал он то место из Библии, где Иов оплакивает и проклинает день, когда сказали в дому отца его: родился сын.
Было бы слишком долго переписывать то известное место в «Апологии Сократа», где Платон в уста этого мудрейшего из смертных влагает слова, что если бы смерть даже навсегда похищала у нас сознание, то она все-таки была бы дивное благо, ибо глубокий сон без сновидений лучше любого дня самой счастливой жизни.
Одно изречение Гераклита гласило так: «Жизнь только по имени жизнь, на деле же – смерть» («Большая этимология слова „жизнь“»; также Евстафий об «Илиаде»).
Знамениты прекрасные стихи Феогнита: «Лучший жребий человека – это совсем не родиться, не видеть дня и солнечных лучей; а если уж родился человек, то лучше всего тотчас же низринуться ему в Аид и скрыть свое угнетенное тело во глубине земли».
Софокл в «Эдипе в Колоне» (1225) так сократил это изречение:
Еврипид говорит:
Да уже и Гомер сказал:
«Нет нигде и ничего несчастнее человека – изо всех существ, которые дышат и живут на земле».
Даже Плиний говорит: «Это – первое, чем располагает каждый для исцеления своей души; изо всех благ, которые уделила человеку природа, нет ничего лучше своевременной смерти».
Шекспир в уста старого короля Генриха IV влагает следующие слова:
Да! если б мы могли читать заветы
Грядущего и видеть, как неверна
Судьба людей, – что наша жизнь, как чаша,
Покорная лишь случаю слепому,
Должна поочередно наполняться
То радостью, то горем, – как бы много
Счастливейших, наверно, предпочли
Скорее умереть, чем жить такой
Печальною, зависимою жизнью[5]5
Перевод А. Л. Соколовского.
[Закрыть].
Наконец, Байрон сказал так: «Сосчитай те часы радости, которые ты имел в жизни; сосчитай те дни, в которые ты был свободен от тревоги, и пойми, что, какова бы ни была твоя жизнь, лучше было бы тебе не жить».
И Бальтазар Грасиан в самых мрачных красках рисует нам горесть нашего бытия в своем «Критиконе» (часть I, рассужд. 5, в самом начале, и рассужд. 7, в конце), где он обстоятельно изображает жизнь как трагический фарс.
Никто, однако, столь глубоко и исчерпывающе не разработал этого вопроса, как в наши дни Леопарди. Он всецело проникся своей задачей: его постоянной темой служит насмешливость и горечь нашего бытия; на каждой странице своих произведений рисует он их, но в таком изобилии форм и сочетаний, в таком богатстве образов, что это никогда не надоедает, а наоборот, представляет живой и волнующий интерес.
Смерть и ее отношение к неразрушимости нашего существа
Смерть – поистине гений-вдохновитель, или музагет философии; оттого Сократ и определял последнюю как «заботливую смерть». Едва ли даже люди стали бы философствовать, если бы не было смерти. Поэтому будет вполне естественно, если специальное рассмотрение этого вопроса мы поставим во главу последней, самой серьезной и самой важной из наших книг.
Животное проводит свою жизнь, не зная собственно о смерти; оттого животный индивидуум непосредственно пользуется всей нетленностью своей породы: он сознает себя только бесконечным. У человека, вместе с разумом, неизбежно возникла и ужасающая уверенность в смерти. Но как вообще в природе всякому злу сопутствует средство к его исцелению или, по крайней мере, некоторое возмещение, так и та самая рефлексия, которая повлекла за собою сознание смерти, помогает нам создавать себе такие метафизические воззрения, которые утешают нас в этом и которые не нужны и недоступны животному. Подобное утешение составляет главную цель всех религий и философских систем, и они прежде всего представляют собою извлеченное из собственных недр мыслящего разума противоядие против нашего сознания о неизбежности смерти. Но достигают они этой цели в весьма различной степени, и бесспорно, что одна религия или философия больше, чем другая, рождает в человеке способность спокойно глядеть в лицо смерти. Брахманизм и буддизм, которые учат человека смотреть на себя как на самопервосущество, браму, коему, по самой сущности его, чужды всякое возникновение и уничтожение, – эти два учения гораздо больше сделают в указанном отношении, чем те религии, которые признают человека сотворенным из ничего и приурочивают начало его бытия, полученного им от другого существа, к реальному факту его рождения. Оттого в Индии и царит такое спокойствие и презрение к смерти, о котором в Европе даже понятия не имеют. Поистине, опасное дело – с юных лет насильственно внедрять человеку слабые и шаткие понятия о столь важных предметах и этим отнимать у него способность к восприятию более правильных и устойчивых взглядов. Например, внушать ему, что он лишь недавно произошел из ничего и, следовательно, целую вечность был ничем, а в будущем все-таки никогда не утратит своего существования, – это все равно, что поучать его, будто он, хотя и всецело представляет собою создание чужих рук, тем не менее должен быть во веки веков ответствен за свои деяния и за свое бездействие. Когда, созрев духом и мыслью, он неизбежно поймет всю несостоятельность таких учений, у него уже не будет взамен ничего лучшего, да он и не в состоянии был бы даже понять это лучшее; он окажется поэтому лишенным того утешения, которое и ему предназначала природа взамен сознания о неизбежности смерти. В результате такого образования наших юношей мы и видим, что теперь (в 1844 году) в Англии, в среде испорченных рабочих – социалисты, а в Германии, в среде испорченных студентов – неогегельянцы спустились до уровня абсолютно физического мировоззрения, которое приводит к результату: «Ешьте и пейте, ведь после смерти радостей не будет», и поэтому заслуживают имени бестиализма.
Судя по всему, что до сих пор говорилось о смерти, нельзя отрицать, что по крайней мере в Европе мнения человека – и часто даже одного и того же человека – сплошь да рядом продолжают колебаться между пониманием смерти как абсолютного уничтожения и уверенностью в нашем полном бессмертии с ног до головы. И тот и другой взгляд одинаково неверны; но для нас важно не столько найти правильную средину между ними, сколько подняться на более высокую точку зрения, с которой подобные взгляды рушились бы сами собой.
В своих соображениях я прежде всего стану на эмпирическую точку зрения. Здесь перед нами сейчас же раскрывается тот неоспоримый факт, что, следуя естественному сознанию, человек больше всего на свете боится смерти не только для собственной личности, но и горько оплакивает и смерть своих родных; причем несомненно, что он не скорбит эгоистически о своей личной утрате, а горюет о великом несчастии, которое постигло его близких. Оттого мы и упрекаем в суровости и жестокости тех людей, которые в таком положении не плачут и ничем не обнаруживают печали. Параллельно с этим замечается тот факт, что жажда мести в своих высших проявлениях ищет смерти врага как величайшего из несчастий, которые нам суждены на земле. Мнения изменяются от времени и места; но голос природы всегда и везде остается тем же, и поэтому он прежде всего заслуживает внимания. И вот этот голос как будто явственно говорит нам, что смерть – великое зло. На языке природы смерть означает уничтожение. И что смерть есть нечто серьезное, это можно заключить уже из того, что и жизнь, как всякий знает, тоже не шутка. Должно быть, мы и не стоим ничего лучшего, чем эти две вещи.
Поистине, страх смерти не зависит ни от какого знания: ведь животное испытывает этот страх, хотя оно и не знает о смерти. Все, что рождается, уже приносит его с собою на землю. Но страх смерти, [говоря] априори, не что иное, как оборотная сторона воли к жизни, которую представляем все мы. Оттого всякому животному одинаково прирождена как забота о самосохранении, так и страх гибели; именно последний, а не простое стремление избежать страданий, сказывается в той боязливой осмотрительности, с какою животное старается оградить себя, а еще более свое потомство от всякого, кто только может быть ему опасен. Почему животное убегает, дрожит и хочет скрыться? Потому что оно – всецело воля к жизни, а в качестве таковой подвержено смерти и желает выиграть время. Таков же точно по своей природе и человек. Величайшее из зол, худшее из всего, что только может грозить ему, это – смерть; величайший страх – это страх смерти. Ничто столь неодолимо не побуждает нас к живейшему участию, как если другой подвергается смертельной опасности; нет ничего ужаснее, чем смертная казнь. Раскрывающаяся во всем этом безграничная привязанность к жизни ни в каком случае не могла возникнуть из познания и размышлений; напротив, для последних она скорее представляется нелепой, потому что с объективной ценностью жизни дело обстоит весьма скверно, и во всяком случае остается под большим сомнением, следует ли жизнь предпочитать небытию; можно сказать даже, что если бы предоставить свободу слова опыту и рассуждению, то небытие, наверное, взяло бы верх. Постучитесь в гробы и спросите у мертвецов, не хотят ли они воскреснуть, – и они отрицательно покачают головами. К этому же сводится и мнение Сократа, высказанное в «Апологии Платона»; и даже бодрый и жизнерадостный Вольтер не мог не сказать: «Мы любим жизнь, но и небытие имеет свою хорошую сторону»; а в другом месте: «Я не знаю, что представляет собою жизнь вечная; но эта жизнь – скверная шутка». Да и, кроме того, жизнь во всяком случае должна скоро кончиться, так что те немногие годы, которые нам еще, быть может, суждено прожить, совершенно исчезают перед бесконечностью того времени, когда нас уже больше не будет. Вот почему при свете мысли даже смешным кажется проявлять такую заботливость об этой капле времени, приходить в такой трепет, когда собственная или чужая жизнь подвергается опасности, и сочинять трагедию, весь ужас которой имеет свой нерв только в страхе смерти. Таким образом, могучая привязанность к жизни, о которой мы говорили, неразумна и слепа; она объясняется только тем, что все наше внутреннее существо уже само по себе есть воля к жизни и жизнь поэтому должна казаться нам высшим благом, как она ни горестна, кратковременна и ненадежна; объясняется эта привязанность еще и тем, что эта воля, сама по себе и в своем изначальном виде, бессознательна и слепа. Что же касается познания, то оно не только не служит источником этой привязанности к жизни, но даже, наоборот, раскрывает перед нами ничтожество последней и этим побеждает страх смерти. Когда оно, познание, берет верх и человек спокойно и мужественно идет навстречу смерти, то это прославляют как великий и благородный подвиг: мы празднуем тогда славное торжество познания над слепою волей к жизни – волей, которая составляет все-таки ядро нашего собственного существа. С другой стороны, мы презираем такого человека, в котором познание в этой борьбе изнемогает, который во что бы то ни стало цепляется за жизнь, из последних сил упирается против надвигающейся смерти и встречает ее с отчаянием[6]6
«В гладиаторских боях мы обыкновенно презираем робких и униженно молящих о пощаде; наоборот, мы хотели бы сохранить жизнь тех, кто храбр и мужествен, кто сам отважно предает себя смерти» (Циц[ерон]. «За Милона», гл. 34).
[Закрыть]; а между тем в нем сказывается только изначальная сущность нашего я и природы. И кстати, невольно возникает вопрос: каким образом безграничная любовь к жизни и стремление во что бы то ни стало сохранить ее возможно дольше, – каким образом это стремление могло бы казаться презренным, низким и, в глазах последователей всякой религии, недостойным ее, если бы жизнь была подарком благих богов, который мы-де приняли со всею признательностью? И в таком случае можно ли было бы считать великим и благородным презрение к жизни?
Итак, эти соображения подтверждают для нас то, 1) что воля к жизни – сокровеннейшая сущность человека; 2) что она сама по себе бессознательна, слепа; что познание – это первоначально чуждый ей, дополнительный принцип; 4) что воля с этим познанием враждует и наше суждение одобряет победу знания над волей.
Если бы то, что нас пугает в смерти, была мысль о небытии, мы должны были бы испытывать такое же содрогание при мысли о том времени, когда нас еще не было. Ибо неопровержимо верно, что небытие после смерти не может быть отлично от небытия перед рождением и, следовательно, не более горестно. Целая бесконечность прошла уже, а нас еще не было, – и это нас вовсе не печалит. Но то, что после мимолетного интермеццо какого-то эфемерного бытия должна последовать вторая бесконечность, в которой нас уже не будет, – это в наших глазах жестоко, прямо невыносимо. Но быть может, эта жажда бытия зародилась в нас оттого, что мы его теперь отведали и нашли высоко желанным? Бесспорно, нет, как я это вкратце пояснил уже выше; скорее полученный нами опыт мог бы пробудить в нас тоску по утраченному раю небытия. Да и надежда на бессмертие души всегда связывается с надеждой на «лучший мир» – признак того, что наш-то мир немногого стоит. И несмотря на все это, вопрос о нашем состоянии после смерти трактовался, и в книгах, и устно, наверное, в десять тысяч раз чаще, нежели вопрос о нашем состоянии до рождения. Между тем теоретически обе проблемы одинаково важны для нас и законны, и тот, кто сумел бы ответить на одну из них, тем самым решил бы и другую. У нас имеются прекрасные декламации на тему о том, как наше сознание противится мысли, что дух человека, который объемлет вселенную и питает столько великолепных мыслей, сойдет вместе с нами в могилу; но о том, что этот дух пропустил целую бесконечность, прежде чем он возник с этими своими качествами, и что мир так долго вынужден был обходиться без него, – об этом что-то ничего не слыхать. И все-таки для сознания, не подкупленного волей, нет вопроса более естественного, чем следующий: «Бесконечное время протекло, прежде чем я родился, – чем же был я все это время?» Метафизический ответ на это, пожалуй, был бы такой: «Я всегда был я: именно, все те, кто в течение этого времени называл себя я, это были я». Впрочем, от этого метафизического взгляда вернемся к нашей, пока еще вполне эмпирической, точке зрения и допустим, что меня тогда совсем не было. Но и с этой точки зрения в бесконечности того времени, которое протечет после моей смерти и в которое меня не будет, я могу утешаться бесконечностью того времени, в которое меня еще не было и которое является для меня привычным и поистине очень удобным состоянием. Ибо бесконечность до меня без меня так же мало заключает в себе ужасного, как и бесконечность после меня без меня: они ничем не отличаются одна от другой, кроме того, что в промежутке между ними пронесся эфемерный сон жизни. И все аргументы в пользу загробного существования так же хорошо можно применить и к бывшему прежде: тогда они будут доказывать предсуществование, признание которого со стороны индусов и буддистов очень последовательно. Одна лишь Кантова идеальность времени разрешает все эти загадки, но об этом у нас пока еще нет речи. Впрочем, из предыдущего ясно уже одно: печалиться о времени, когда нас больше не будет, так же нелепо, как если бы мы печалились о времени, когда нас еще не было, ибо все равно, относится ли время, которое не наполняет нашего бытия, к тому, которое его наполняет, – как будущее или как прошедшее.
Но и помимо этих соображений о характере времени признавать забытое злом – само по себе нелепо. Ибо всякое зло, как и всякое добро, предполагает уже существование и даже сознание, а последнее прекращается вместе с жизнью, как прекращается оно и во сне, и в обмороке; поэтому отсутствие сознания нам хорошо известно, и мы знаем, что оно не заключает в себе никаких зол; исчезновение же сознания, во всяком случае, – дело одного мгновения. Именно так посмотрел на смерть Эпикур, и совершенно верно сказал он о ней: «Смерть нисколько нас не касается», пояснив, что, пока мы есть, нет смерти, а когда есть смерть, то нет нас («Диоген Лаэрций», X, 27). Очевидно, потерять то, отсутствие чего нельзя заметить, не есть зло; следовательно, то, что нас не будет, должно нас так же мало смущать, как и то, что нас не было. Таким образом, с точки зрения познания нет решительно никаких причин бояться смерти; но именно в познавательной деятельности состоит сознание, – значит, для последнего смерть не есть зло. И на самом деле, боится смерти не эта познающая сторона нашего я: исключительно от слепой воли исходит бегство от смерти, которым проникнуто все живущее. А для воли это бегство, как я уже говорил, существенно именно потому, что это – воля к жизни, которой (воли) вся сущность заключается в тяготении к жизни и бытию и которой познание не прирожденно, а лишь сопутствует вследствие ее объективации в животных индивидуумах. Когда же эта воля благодаря познанию усматривает в смерти конец того явления, с которым она себя отождествляет и которым себя ограничивает, тогда все существо ее всеми силами противится смерти. Действительно ли смерть грозит ей чем-нибудь, это мы рассмотрим ниже, припомнив указанный здесь истинный источник страха смерти, с должным различием волящей стороны нашего существа от познающей.
В соответствии с этим то, что так страшит нас в смерти, это не столько конец жизни – так как особенно жалеть о последней никому не приходится, – сколько разрушение организма, именно потому, что он – сама воля, принявшая вид тела. Но это разрушение мы действительно чувствуем только в злополучии недугов или старости: самая же смерть для субъекта наступает лишь в то мгновение, когда исчезает сознание, потому что тогда прекращается деятельность мозга. То оцепенение, которое распространяется затем и на остальную часть организма, это уже, собственно, явление посмертное. Итак, в субъективном отношении смерть поражает одно только сознание. А что такое – исчезновение последнего, это всякий может до некоторой степени представить себе по тем ощущениям, какие мы испытываем засыпая, а еще лучше знают это те, кто падал когда-нибудь в настоящий обморок, при котором переход от сознания к бессознательности совершается не так постепенно и не посредствуется сновидениями: в обмороке у нас прежде всего, еще при полном сознании, темнеет в глазах и затем непосредственно наступает глубочайшая бессознательность; ощущение, которое человек испытывает при этом, насколько оно вообще сохраняется, меньше всего неприятно, и если сон – брат смерти, то несомненно, что обморок и смерть – близнецы. И насильственная смерть не может быть болезненной, так как даже самые тяжкие раны обыкновенно совсем не чувствуются и мы замечаем их лишь спустя некоторое время и часто – только по их внешним признакам: если смерть быстро следует за ними, то сознание исчезает, до того как мы их заметим; если смерть наступает не скоро, то все протекает так же, как и при обыкновенной болезни. Как известно, все терявшие сознание в воде, или от угара, или от удушения утверждают, что это не сопровождалось болезненными ощущениями. Наконец, естественная смерть, в настоящем смысле этого слова, – та, которая происходит от старости, эвтаназия, – представляет собою постепенное и незаметное удаление из бытия. Одна за другой погасают у старика страсти и желания, а с ними и восприимчивость к их объектам; аффекты уже не находят себе возбуждающего толчка, ибо способность представления все слабеет и слабеет, ее образы бледнеют, впечатления не задерживаются и проходят бесследно, дни протекают все быстрее и быстрее, события теряют свою значительность, – все блекнет. И глубокий старец тихо бродит кругом или дремлет где-нибудь в уголке – тень и призрак своего прежнего существа. Что же еще остается здесь смерти для разрушения? Наступит день, и задремлет старик в последний раз, и посетят его сновидения… те сновидения, о которых говорит Гамлет в своем знаменитом монологе. Я думаю, они грезятся нам и теперь.
Здесь надо заметить еще и то, что поддержание жизненного процесса, хотя оно и имеет метафизическую основу, совершается не без противодействия и, следовательно, не без некоторых усилий. Это именно они каждый вечер утомляют организм, так что он прекращает мозговую функцию и уменьшает некоторые выделения, дыхание, пульс и развитие теплоты. Отсюда следует заключить, что полное прекращение жизненного процесса должно быть для его оживляющей силы удивительным облегчением; быть может, в этом и кроется одна из причин того, что на лицах большинства мертвецов написано выражение покоя и довольства. Вообще, момент умирания, вероятно, подобен моменту пробуждения от тягостного кошмара.
До сих пор оказывается, что смерть, как ни страшимся мы ее, на самом деле не может представлять собою никакого зла. Мало того, часто является она благом и желанной гостьей. Все, что наткнулось на неодолимые препоны для своего существования или для своих стремлений, все, что страдает неисцелимой болезнью или безутешной скорбью, – все это свое последнее, по большей части само собою раскрывающееся убежище находит себе в возвращении в недра природы, откуда оно, как и все другое, ненадолго всплыло, соблазненное надеждой на такие условия бытия, которые более благоприятны, чем доставшиеся ему в удел, и куда для него всегда открыта дорога назад. Это возвращение – приход благого для живущего. Но совершается оно только после физической или нравственной борьбы; до такой степени всякое существо противится возвращению туда, откуда оно так легко и охотно пришло в жизнь, столь богатую страданиями и столь бедную радостью. Индусы придавали богу смерти, Яма, два лица: одно – страшное, пугающее, другое – очень ласковое и доброе. Это отчасти объясняется только что приведенными соображениями.
С эмпирической точки зрения, на которой мы все еще стоим, само собою возникает одно соображение, которое заслуживает поэтому более точного определения и должно быть введено в свои границы. Когда я смотрю на труп, я вижу, что здесь прекратились чувствительность, раздражимость, кровообращение, репродукция и т. д. Отсюда я с уверенностью заключаю, что та сила, которая до сих пор приводила их в движение, но при этом никогда не была мне известна, теперь больше не движет ими, т. е. покинула их. Но если бы я прибавил, что эта сила, вероятно, представляет собою именно то самое, что я знал лишь как сознание, т. е. как интеллигенцию [душу], то это было бы заключение не только незаконное, но и очевидно ложное. Ибо всегда сознание являлось мне не как причина, а как продукт и результат органической жизни; вместе с последней оно возрастало и падало, т. е. было разное в разные возрасты, в здоровье и в болезни, во сне, в обмороке, в бодрственном состоянии и т. д.; всегда, значит, оно являлось как действие, а не как причина органической жизни; всегда являлось оно как нечто такое, что возникает и исчезает и опять возникает, – пока существуют для этого благоприятные условия, но не иначе. Мало того, мне, быть может, случалось видеть, что полное расстройство сознания, безумие, не только не понижает и не подавляет остальных сил и не только не опасно для жизни, но даже весьма повышает возбудимость или мускульную силу и этим скорее удлиняет жизнь, чем сокращает ее, если только не вмешиваются другие причины. Далее: индивидуальность я знал как свойство всего органического, и потому, если это органическое было одарено самосознанием, то и как свойством сознания; и заключать теперь, что индивидуальность присуща была этому, совершенно неведомому мне принципу, который исчез, который нес с собою жизнь, – для этого у меня нет никаких оснований, тем более что я вижу, как везде в природе каждое единичное явление представляет собою создание некоторой общей силы, действующей в тысяче подобных явлений. Но, с другой стороны, столь же мало оснований заключить, что так как органическая жизнь здесь прекратилась, то и сила, которая доселе приводила ее в действие, обратилась в ничто, – как от остановившейся прялки нельзя заключать о смерти пряхи. Когда маятник, найдя опять свой центр тяжести, приходит наконец в состояние покоя и таким образом иллюзия его индивидуальной жизни прекращается, то никто не думает, что теперь уничтожилась сила тяготения: каждый понимает, что она продолжает действовать в тысяче проявлений теперь, как и раньше, и только перестала воочию обнаруживать свое действие. Конечно, против этого сравнения можно возразить, что здесь и в этом маятнике сила тяжести перестала не действовать, а только наглядным образом проявлять свое действие; но кто настаивает на этом возражении, пусть вместо маятника представит себе электрическое тело, в котором, по его разряжении, электричество на самом деле прекратило свое действие. Своим сравнением я хотел только показать, что мы непосредственно приписываем даже самым низшим силам природы некоторую вечность и вездесущность, по отношению к которым ни на одну минуту не вводит нас в заблуждение недолговечность их случайных проявлений. Тем менее, следовательно, должно приходить нам на мысль считать остановку жизни прекращением животворного принципа, т. е. принимать смерть за полное уничтожение человека. Если та могучая рука, которая три тысячи лет назад натягивала лук Одиссея, больше не существует, то ни один мыслящий и правильный ум не станет из-за этого утверждать, что сила, которая так энергично действовала в ней, совершенно пропала; а следовательно, при дальнейшем размышлении он не согласится с тем, что сила, которая сегодня натягивает лук, начала свое существование только с этой рукой. Гораздо естественнее прийти к мысли, что сила, которая раньше приводила в движение какую-нибудь теперь исчезнувшую жизнь, это та самая сила, которая проявляется в другой жизни, теперь цветущей, – эта мысль почти неотвратима. Но мы несомненно знаем, что, как я показал во второй книге, исчезает лишь то, что входит в причинную цепь явлений, – а входят в нее только состояния и формы. Не распространяется же эта вызываемая причинами смена состояний и форм, с одной стороны, на материю, а с другой – на силы природы: и та и другая являются предпосылкой всяческих изменений. А то начало, которое нас животворит, мы прежде всего должны мыслить по крайней мере как силу природы, пока более глубокое исследование не покажет нам, что она такое сама по себе. Итак, жизненная сила, даже понимаемая в смысле силы природы, остается чуждой смене форм и состояний, которые приходят и уходят, влекомые цепью причин и действий, и которые одни подвластны возникновению и уничтожению, как это показывает опыт. Следовательно, в этих пределах нетленность нашего подлинного существа остается вне всяких сомнений. Конечно, это не удовлетворяет тем запросам, какие мы обыкновенно предъявляем к доказательствам в пользу нашего загробного существования, и не дает того утешения, какого мы ждем от них. Но все-таки и это уже есть нечто, и кто боится смерти как абсолютного уничтожения, не должен пренебрегать безусловной уверенностью, что сокровеннейшее начало его жизни этому уничтожению не подлежит. И можно даже высказать парадокс, что и то второе начало, которое, подобно силам природы, остается чуждо вечной смене состояний, протекающей по нити причинного сцепления, т. е. материя, сулит нам своей абсолютной устойчивостью такую неразрушимость, в силу которой человек, не способный понять никакой иной вечности, все-таки может уповать на известного рода бессмертие. «Как? – возразят мне. – На устойчивость простого праха, грубой материи, надо смотреть как на продолжение нашего существа?» Ого! Разве вы знаете этот прах? Разве вы знаете, что он такое и к чему он способен? Узнайте его, прежде чем презирать его. Материя, которая лежит теперь перед вами как прах и пепел, сейчас, растворившись в воде, осядет кристаллом, засверкает в металле, рассыплет электрические искры, в своем гальваническом напряжении проявит силу, которая, разложив самые крепкие соединения, обратит земные массы в металл; и мало того, она сама собою воплотится в растение и животное и из своего таинственного лона породит ту самую жизнь, утраты которой вы так боитесь в своей ограниченности. Неужели продолжать свое существование в виде такой материи совсем уже ничего не стоит? Нет, я серьезно утверждаю, что даже эта устойчивость материи свидетельствует о бессмертии нашего истинного существа, – хотя бы только метафорически или, лучше сказать, в виде силуэта. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить данное нами в 24-й главе объяснение материи: из него оказалось, что чистая, бесформенная материя – эта основа эмпирического мира, сама по себе никогда не восприемлемая, но всегда неизменно предполагаемая, – представляет собою непосредственное отражение, вообще – зримый образ вещи в себе, т. е. воли; поэтому к ней, в условиях опыта, применимо все то, что безусловно присуще самой воле, и в образе временной неразрушимости она, материя, воспроизводит истинную вечность воли. А ввиду того что, как я уже сказал, природа не лжет, ни одно наше воззрение, зародившееся из чисто объективного восприятия ее и прошедшее через правильное логическое мышление, не может быть совершенно ложно: нет, в худшем случае оно страдает большой односторонностью и неполнотой. Именно таким воззрением, бесспорно, и является последовательный материализм, например – эпикуровский, как и противоположный ему абсолютный идеализм, например – берклеевский, как и вообще всякий философский принцип, зародившийся из верного понимания и добросовестно разработанный. Но только все это в высшей степени односторонние миросозерцания, и поэтому, при всей их противоположности, все они одновременно истинны – каждое со своей определенной точки зрения; а стоит лишь над этой точкой подняться, как истинность их сейчас же оказывается относительной и условной. Высшей же точкой, с которой можно бы обозреть их все, увидеть их истинными только относительно, понять их несостоятельность за данными пределами, может быть точка абсолютной истины, насколько она вообще достижима. Вот почему, как я только что показал, даже в очень грубом, собственно, и поэтому в очень старом воззрении материализма неразрушимость нашего внутреннего истинного существа находит все-таки свою тень и отражение – именно, в идее постоянства материи, подобно тому как в натурализме абсолютной физики, который стоит уже выше материализма, она, эта неразрушимость, представлена в учении о вездесущности и вечности сил природы, – ведь к ним, во всяком случае, надо причислить и жизненную силу. Таким образом, даже и эти грубые мировоззрения заключают в себе выражение той мысли, что живое существо не находит в смерти абсолютного уничтожения, а продолжает существовать в целом природы и вместе с ним.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































