Читать книгу "Любовник"
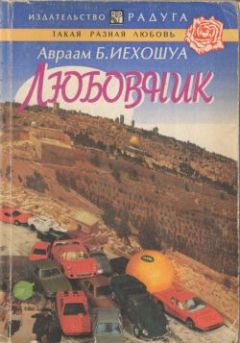
Автор книги: Авраам Иехошуа
Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Адам
Действительно, как описать ее? Начать с маленьких и гладких ступней, удивительно хорошо сохранившихся, с высоким подъемом, милым, чистым… Стопа избалованной девочки, а не солидной женщины, лицо которой покрыто морщинами и которая будто еще и намеренно старается постареть как можно раньше.
Если бы кто-нибудь с искренним участием и интересом, по-дружески положил мне руку на плечо – скажем, в один из предсубботних вечеров, на посиделках у наших старых друзей, у учителя из Асиной школы, или у кого-нибудь из бывших одноклассников, или у бывших наших соседей, с которыми мы сохранили связь… В компаниях, где мы бываем примерно раз в месяц, собираются в основном старые знакомые, и через некоторое время общая беседа затухает, тот, кто никому не давал раскрыть рта, тоже умолкает, занявшись своим куском торта, или отправляется в уборную, а серьезные разговоры о политике, или о бедах подрядчиков, или о поездке в Европу выдыхаются, гости обмениваются незначительными репликами, перешептываются. Женщины рассказывают о своих женских болезнях, мужчины встают, чтобы размяться, выходят на большую веранду, кто-то даже включает телевизор, а я на весь вечер прилип к своему креслу, роюсь в пустой вазочке из-под арахиса, перебираю шелуху, молчу, как обычно, думаю уже о том, чтобы двинуться домой; если бы кто-нибудь, хороший друг, друг юности, подошел ко мне, положил руку на плечо, мягко дотронулся до меня с сердечной улыбкой, с искренним интересом заговорил бы, тихо спросил бы, например: «Адам, ты всегда такой молчаливый, о чем ты думаешь все время?»
Я бы тут же выложил ему правду, почему нет? Я уже созрел для этого.
– Ты, конечно, удивишься, но я думаю о ней. Не могу думать ни о чем другом.
– О ком?
– О своей жене…
– О жене?.. Ну что же, почему бы нет. Иногда нам кажется, что ты погружен в свои дела, думаешь о чем-то далеком, а ты всего-навсего думаешь о ней.
– Я беспрерывно занят ею…
– Что-нибудь случилось?
– Нет, ничего.
– Ведь вы вместе производите очень хорошее впечатление, такая прочная пара, в вас не чувствуется ни раздражения, ни напряженности. Мы немного удивились, когда она вышла за тебя замуж… Ведь она такая интеллектуальная, все время корпит над книгами, нам казалось странным, что именно ты из всех ребят… ты понимаешь? Извини… ты понимаешь?
– Понимаю, понимаю, продолжай…
Если бы кто-нибудь из друзей, из тех немногих, что у нас есть, один из трех-четырех, с которыми мы встречаемся постоянно, которые сопровождают нас в течение многих лет, подошел бы ко мне сердечно, с открытой душой даже в разгар болтовни – ведь и в небольшой комнате всегда можно найти место, чтобы поговорить по душам…
– Ты вдруг исчез, бросил школу посреди занятий, стал работать, прошло несколько лет, и вдруг вы вместе. Это было для нас сюрпризом.
– И для меня тоже…
– Ха-ха, а мы решили, что вы все время были тайно влюблены друг в друга.
– Я?..
– Ты, ты. Мы помним историю, которая произошла с ней. Но сейчас ваша связь кажется естественной. Поверь мне, если мы говорим о вас, то только хорошее, приятно видеть вас в нашей компании, несмотря на то что ты всегда сидишь и молчишь. Нет, не думай, что это мешает, наоборот, честное слово, не знаю, как это выразить, Адам…
– Спасибо, спасибо. Я понимаю.
– Так о чем же ты думаешь все время?
– О ней, я уже сказал тебе.
– Но что же ты думаешь о ней, если не секрет?..
– Вовсе нет, о ее ступне…
– Извини? Я не расслышал, ужасно шумно здесь… О чем?
– О ее маленьких ступнях.
– А что с ними?
– Нет, ничего особенного, ты, наверно, никогда их не замечал. Этот нежный, детский изгиб ноги, ступня избалованной девочки… Ася не совсем та, какой кажется.
Если бы кто-нибудь положил руку на мое плечо, отвел бы меня в сторону, заговорил со мной доверительно, с душевным участием, пусть даже с некоторой миной превосходства, пусть даже из простого любопытства, но глядя мне открыто и прямо в глаза и говоря со мной как истинный друг…
– Да, конечно… как можно знать. Прости меня. Ступни, ты сказал. Но кто может знать, кроме тебя, конечно… Прости… Она носит… прости меня… такие топорные туфли, на низком каблуке. И даже я, хотя и не очень-то в этом разбираюсь, удивляюсь… жена как-то говорила мне… и это платье… все какое-то небрежное… по-моему, она и косметикой не пользуется… В молодости она выглядела миленькой, не красавица, но вполне ничего, а вот надо же, так быстро постарела, то есть, упаси Боже, не постарела, а несколько опустилась, может быть, из-за несчастья, которое у вас случилось, я понимаю, но нельзя давать им стариться раньше времени, мы все в этом заинтересованы, мы должны заботиться друг о друге, быть предупредительны, впереди у нас еще долгая жизнь…
– Я знаю… мне жаль…
– Ох, Адам, прости меня. Но я говорю как друг. Ведь мы знакомы уже столько лет. Ты меня понимаешь?
– Все в порядке. Продолжай…
Если бы кто-нибудь подошел ко мне, положил руку на плечо, в час, близкий к полуночи, пусть бы даже он был навеселе, пускай под конец, почти в полночь, в час, когда гости поднимаются со своих мест вслед за молодой парой, которой нужно сменить приходящую няньку, а остальные начинают подумывать, не пора ли им тоже домой, и начинают слоняться по квартире, заходят в другие комнаты, взвешиваются в ванной, выходят на веранду, а хозяева бегают за гостями, уговаривают колеблющихся остаться, мчатся на кухню и приносят какую-то жирную горячую еду с куском хлеба – то, что осталось от предсубботней трапезы, или то, что было предназначено для завтрашнего обеда, – собирают снова своих гостей, суют им в руки тарелки, наливают красноватое острое варево, ставят пластинку с греческими песнями, и тогда начинаются полусонные беседы, а ко мне если и подходят, то лишь для того, чтобы выяснить цены на машины, или узнать мое мнение о новой модели, только что появившейся в продаже, или спросить, как следует подбирать шины… Стоят с тарелками и стаканами в руках и слушают с уважением, в этих делах я непререкаемый авторитет.
Некоторые из друзей числились в моих клиентах, хотя я никогда не приглашал их в свой гараж, даже когда он был еще совсем небольшим и я боролся за каждого клиента. Я не нуждался в них, это они нуждались во мне.
На первых порах только немногие могли приобрести себе автомобиль. Учителя начальной школы, мелкие служащие, студенты, бывшие мошавники[12]12
Жители сельскохозяйственных поселений.
[Закрыть] не могли позволить себе такую роскошь. Но время шло, и большинство наших друзей обзавелись машинами. Правда, подержанными. Перед покупкой они пригоняли их ко мне на осмотр, чтобы услышать мое мнение. Мне приходилось быть осторожным, не поддерживать в них иллюзий, а главное – не брать на себя ответственность. Иначе они зачастили бы ко мне через день, не могли бы обойтись без меня. Я старался держаться подальше от их автомобилей.
Конечно, несколько починок пришлось все-таки сделать.
Директору, господину Шварцу, почистил головку, старым друзьям из моего класса сменил амортизаторы и наладил мотор. Одной приятной паре, с которой мы познакомились как-то в гостях, он – пожилой преподаватель университета, а она – молодая, очень милая художница, прочистил систему охлаждения и сменил сцепление. Школьной секретарше с мужем отремонтировал машину после аварии и поставил новую выхлопную трубу, учителю физкультуры, тридцатипятилетнему холостяку, установил динамо и зарядил аккумулятор.
У всех, наверно, было такое чувство, что они что-то выгадали у меня, но на самом деле ничего они не выгадывали, разве что я не заменял им исправные части и не задерживал машину в гараже.
Были среди них такие, что возвращались ко мне, особенно если требовался срочный ремонт, но гараж все разрастался, я часто отсутствовал, диспетчер не проявлял к ним особого внимания, а Эрлих никому скидок не делал, да и сами они уже освоились со своими машинами, сменили их на более новые, стали считать себя специалистами, нашли более дешевые или более удобные гаражи.
Одна знакомая, которую бросил муж, оставив ей большой автомобиль, одно время часто появлялась у меня. Она была совершенно не в себе и все время слышала какие-то странные шумы в машине, боялась, что там вот-вот что-то взорвется. Бывало, стоит в сторонке и ждет, когда я освобожусь, чтобы сделать с ней круг и самому услышать, и ощутить, и убедиться, как машина дрожит и издает какие-то странные, таинственные звуки. Я выезжал с ней на приморское шоссе, вдыхал запах дешевых духов, украдкой поглядывал на ее толстые короткие ноги, почти касающиеся меня, а она сидит, и бросает на меня томные взгляды, и говорит о своем муже, и плачет, в то время как я машинально делаю какие-то замечания. Она просто прицепилась ко мне. В конце концов я решил от нее избавиться – посылал к ней Хамида, и он выходил посмотреть на машину, делал маленький круг и возвращался, говоря ей тихо и пренебрежительно: «Ничего нет, госпожа, все у вас в порядке». И она отстала от меня.
Таким образом, в нашей компании я был просто другом. Нас приглашали без всяких задних мыслей. Я приходил, сидел и молчал. В некоторых домах уже знали, что я люблю фисташки и арахис, и ставили передо мной большую миску, как для собаки, и я сидел целый вечер, не произнося ни слова, только медленно перебираю и ем орешки. У меня был свой метод бесшумно раскалывать фисташки ладонями. После гибели мальчика c нами осторожничали. Был довольно длинный период, когда нас не решались приглашать, но потом попытались, очень деликатно, и мы ответили согласием. Мое молчание было позволительным, Ася же, наоборот, становилась все разговорчивей, особенно воспламенялась она во время разговоров о политике, вступает в споры, всегда приводит неизвестные факты, уточняет детали. Я каждый раз заново удивлялся ее познаниям. Что это? Преимущество учителей истории и географии вообще? Или она унаследовала это качество от своего отца? Она знала, например, численность населения Вьетнама, и где находится река Меконг, и имена премьер-министров Франции до подписания Женевского соглашения, и главные пункты этого соглашения, и когда начались все эти несчастья в Ирландии, и как там появились протестанты, и когда преследовали гугенотов во Франции, и кто они такие вообще, и что в нацистской армии имелось голландское подразделение. В сущности, не всегда было ясно, что она хочет сказать, но она всегда поправляла других или вносила уточнения в какой-нибудь вопрос. Не то чтобы кто-то готов был изменить свое мнение из-за информации, которую она беспрерывно извергала, но я замечал, что мужчины несколько побаиваются ее, когда она сидит вот так среди них на высоком стуле, с папиросой между пальцами, не прикасается к еде, только пьет одну чашку кофе за другой – в такое время, когда другие и не прикасаются к кофе, опасаясь бессонницы.
А я слушал и ее, и других женщин, которые уставали от этих споров и начинали шептаться, сидя около меня, о своих делах. У одной из знакомых появился любовник, и все знали об этом. Никто не остался безучастным, хотя подробности были покрыты туманом. Только муж ее ничего не знал, гордо сидит в углу, этакий поперечник – на всякое высказанное мнение у него всегда находилось прямо противоположное.
Но Ася, как ее описать? Я все еще пытаюсь описать ее такой, какая она бывает в эти первые ночные часы, когда мы еще торчим в гостях, уже должны уходить, но все еще не можем выбрать подходящий момент. А я смотрю на нее, думаю только о ней, обнаруживаю желчные, агрессивные нотки в ее голосе. Странная уверенность в себе. Лишь время от времени, когда кто-нибудь решительно отвергает ее мнение, она ненадолго теряется и прежним детским движением подносит свой кулачок ко рту, точно хочет пососать его. Большой палец секунду крутится у ее губ, но вскоре она приходит в себя и быстрым движением убирает руку ото рта.
Вечера накануне субботы у друзей, у старых приятелей, пустые беседы, лишенные смысла, но связь существует, и она настоящая и глубокая. Я все время смотрю на свою жену, изучаю ее со стороны, чужими глазами, думаю о ней, о ее теле. Сможет ли еще влюбиться в нее кто-нибудь посторонний, кто увидит ее такой, какая она есть, в этой одежде, в этом сером платье с выцветшей вышивкой, кто-нибудь, кто влюбится и за меня?..
Дафи
Однажды за ужином он сказал просто так, без всякой связи: «Завтра сбрею эту бороду, хватит, надоело» – и посмотрел на маму, а она пожала плечами: «Как хочешь».
Но я чуть не подпрыгнула.
– Только попробуй, она так тебе идет!
А он улыбнулся.
– Ну что ты кричишь?
– Не сбривай, – умоляла я.
– Что ты так волнуешься? Подумаешь, борода…
Ну как я могла объяснить ему, почему для меня имеет такое значение его борода, ведь без нее он будет таким жалким, вся его значительность исчезнет, он станет заурядным механиком, просто увальнем и тугодумом, обыкновенным владельцем гаража.
Я стала мямлить что-то о том, что нос его удлинится, а уши будут торчать, что у него короткая шея, потом побежала за листом бумаги и нарисовала, каким он будет уродливым без бороды.
А они оба развеселились, смотрят на меня с улыбкой, не понимая, отчего я так расстроилась. Но разве я могла сказать им, что его борода для меня что-то значительное, вроде символа…
– Доедай свой ужин.
– Так ты обещаешь мне?
– Я сбрею ее и снова отращу…
– Нет, ты не отрастишь ее снова, я знаю…
Я не могла больше есть. Убираем посуду, снова молчим. Почему мама ничего не говорит? Папа уселся с газетой у телевизора. Действительно, что в этом важного? Мама моет посуду, а я взволнованно брожу по комнате, потом подхожу к нему.
– Так что же ты решил?
– Что?
– Насчет бороды…
– Борода?.. Что с бородой?..
Он забыл или просто дразнит меня, он, может быть, вовсе и не собирался сбривать ее.
– Вот чудачка! Нет у тебя других забот в жизни.
– Тогда скажи…
– Ты меня никогда не видела без бороды…
– И не хочу видеть. Он смеется.
– Так что же ты решил?
– Ладно, пока подождем…
Адам
Чем была моя борода? Чем-то знаменательным, вроде символа, словно я говорил: «Вы не сможете заключить меня в рамки, определить меня запросто, и у меня есть свои мечты, другой предел, странности, может быть, какая-то тайна. Во всяком случае, не простой я человек».
А борода в последние годы стала большой и лохматой.
Она давала мне несколько явных преимуществ. В гараже помогала сохранять дистанцию. Люди подходили ко мне с какой-то опаской, кроме того, я обнаружил, что на арабов борода производит большое впечатление, они очень уважают ее.
Сначала люди ошибаются и думают, что я религиозный…
В сущности, так это и началось. После того как мальчик погиб, появился у нас в доме мой незнакомый родственник, уже немолодой человек, который пришел, чтобы следить за выполнением религиозных обрядов; он заботился о том, чтобы все семь дней траура мы не выходили из дома, чтобы я не брился в течение тридцати дней, и целый год ежедневно приезжал к нам на рассвете, чтобы взять меня с собой на молитву. Он сводил Асю с ума. Она не могла понять, почему я беспрекословно слушаюсь его. Но смерть ребенка повергает тебя в какое-то смутное беспокойство, вносит в душу страх и путаницу. И если появляется человек, который точно знает, что надо делать, в этом есть какое-то утешение. За месяц борода необычайно разрослась. У нее уже обнаруживалась какая-то форма. А поскольку мне приходилось вставать рано утром, чтобы успеть на молитву в синагогу, оказалось весьма кстати, что не надо бриться.
Тем временем родилась Дафи, которой очень нравилась моя борода – она все время теребила ее своей маленькой ручонкой. Мне кажется, что одно из первых слов, которые она произнесла, было слово «борода».
На работе я старался откидываться подальше от работающего мотора, чтобы бороду не затянуло внутрь. А копаться в моторах приходилось часто, порой я даже заставлял рабочих разобрать мотор на части и при мне все проверять.
Иногда я решал – хватит, надо сбрить, но в последний момент становилось жаль, да и Дафи умоляла, чтобы я оставил бороду. Время от времени я наведывался в парикмахерскую, там мне ее подкорачивали и подравнивали. Но очень быстро она снова становилась лохматой. А потом появилась в ней седина. Золотистый цвет потускнел и превратился в каштановый, много оттенков в ней переплелось, и парикмахер предложил мне как-то покрасить ее, но я, разумеется, отказался. Я не часто прикасался к своей бороде, у меня не выработалось привычки, характерной для многих бородачей, поглаживать ее без всякой надобности, но иногда я вдруг замечал, что старательно жую ее.
Часто я вообще забывал о ней, и ночью, когда, приподнимаясь в кровати, чтобы отложить перед сном газеты, вдруг замечал в большом зеркале свое лицо, мне казалось, что на меня смотрит кто-то чужой.
Дафи
В комнате тихо, послеполуденное время, мы сидим втроем и готовимся к завтрашнему экзамену по истории. Каждая должна прочесть одну главу из учебника, чтобы потом рассказать ее другим. Брат Оснат в майке и трусах тихо размазывает по полу пирожное, за стенкой я слышу глубокий вздох, шепот и скрип стонущей под тяжестью тел кровати. «Любимый, о, любимый, о, май дарлинг». Так явственно. Сердце мое замирает, мне кажется, я почти теряю сознание. А Оснат поднимает голову от учебника, вся красная, начинает шелестеть бумагой, стараясь заглушить шепот, о чем-то громко заговаривает, ужасно нервничает, зло толкает младенца, а тот сначала удивляется, потом разражается диким воплем; она встает, стараясь не смотреть на нас, а Тали даже не поднимает головы от книги, то ли читает, то ли думает о чем-то, и невозможно определить, слышала ли она тоже, как родители Оснат развлекаются после обеда в соседней комнате, это, как видно, их любимое время, не в первый раз случается такая неловкость, наверно, в такой вот послеобеденный час много лет тому назад они зачали Оснат.
И тут я не могу удержаться от улыбки, Оснат смотрит на меня с угрозой, а потом и на ее лице появляется улыбка: почему, собственно, она должна стыдиться?
Ведь у нее, честное слово, очень симпатичные родители. Мама веселая, шумная, голосистая, взрослая копия Оснат, высокая, худая, очкастая, все время сидит и болтает с нами со своим американским акцентом, помогает делать уроки по английскому, знает обо всем, что делается в школе, и имена всех ребят из нашего класса. У них милый дом с небольшим садом, в комнатах всегда беспорядок, но бывать у них приятно, они всегда приглашают нас, Тали и меня, поужинать с ними. К детям им не привыкать. Кроме Оснат есть еще старший брат – сейчас он служит в армии, – сестра поменьше и полуторагодовалый младенец, который родился, когда мы кончали общеобразовательную школу, – на радость всему классу, потому что всех пригласили на брит-мила. Наверно, Оснат единственная, кто от него не в восторге, хотя он очень милый, ужасно толстый, с круглым животом и еще лысый, напоминает ее отца, который выглядит намного старше матери, он профессор Техниона, кругленький, лысый, но очень живой, веселый и до смерти влюблен в ее некрасивую мать – когда он приходит днем из Техниона, то сразу же направляется на кухню и целуется с женой без всякого стеснения, прямо при нас, долго стоит с ней в обнимку, как будто они не виделись целую вечность, потом врывается в комнату Оснат, начинает выдавать анекдоты, интересуется нашими уроками, словом, ужасно симпатичный.
А когда они так нацелуются, ее мать заглядывает к нам, приносит младенца и тарелку с пирожными – плата за то, чтобы мы последили за ним, пока они «отдохнут». Оснат начинает протестовать, говорит, что нам надо делать уроки, что у нас завтра экзамен, и тогда мама подмигивает нам и говорит: «Дафи и Тали присмотрят за ним – правда, девочки?»
И ускальзывает в спальню, которая находится за стенкой. Они не спят, мы слышим, как они болтают, смеются, низкий голос ее отца – «о, о, о», и в конце наступает тишина, и вдруг – точно стрела вонзается в меня – я слышу ее голос, нежный, стонущий: «О, мой милый, май дарлинг…»
Тут Оснат толкает ребенка, а ее мама вдруг спрашивает: «Оснат, что с Гади? Дай нам немного отдохнуть». Я встаю, поднимаю его, пытаюсь успокоить, обнимаю, а он прижимает свои грязные ладошки к моему лицу, дергает меня за волосы, весь сияет: «Тафи, Тафи».
Проходит немного времени, и они кончают «отдыхать», идут в ванную помыться под душем. Ее мать, в длинном цветастом халате, благоухающая, с мокрыми волосами, заходит к нам взять малыша, а ее отец, в шортах и майке, тоже заходит к нам с большим подносом, на котором стоят вазочки с разноцветным мороженым. Оба умиротворенные и веселые, словно светятся изнутри, сидят и лижут вместе с нами мороженое, хотят, чтобы мы приняли участие в их радости, забавляются с малышом, крепко целуют его со страстью, которая еще не остыла в них. Оснат показывает отцу, что задано по математике, и он решает нам одну-две задачки, смешит нас разными необычными примерами.
«Они только что спали друг с другом», – думаю я, глядя на них обоих со стороны, и не могу забыть глубокий, самозабвенный вздох, что-то волнует меня, такая сладкая боль, не знаю почему. Как она говорила этому маленькому, кругленькому человечку: «Мой любимый, мой любимый, май дарлинг».
А вообще какое мне, в сущности, дело…
– Вы останетесь поужинать, хорошо? – говорит мама Оснат.
Тали всегда готова, а я вскакиваю с места. «Я не могу, мне надо домой, меня ждут», – вру я. Собираю книжки и бегу домой. Никто не ждет меня, разумеется. Мамы, как обычно, нет дома, папа сидит в кресле в своей рабочей одежде, читает газету. Когда они лежат вместе? Достаются ли ему поцелуи? Называют ли его «май дарлинг»?
Я вхожу в гостиную, смотрю на него. Грузный, замкнутый человек, устало листает газету без всякого интереса. Я подхожу к нему, целую в щеку легким поцелуем, чувствую, какая у него густая борода. Он удивлен, улыбается, гладит меня по голове.
– Что-нибудь случилось?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































