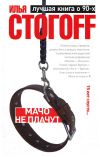Текст книги "22:04"

Автор книги: Бен Лернер
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Когда наступил ожидаемый час, Орсон Уэллс упал с часовой башни в «Чужестранце»; Биг-Бен, который, как мне потом стало ясно, часто возникает в этом видео, взорвался, и часть зала зааплодировала; из высоких стоячих часов вылезла женщина-зомби, и все засмеялись. А минуту спустя девочку будит страшный сон, и, пока отец (Кларк Гейбл в роли Ретта Батлера) ее успокаивает[46]46
Сцена из фильма «Унесенные ветром».
[Закрыть], мы видим за окном Биг-Бен, целый и невредимый. Все предыдущие двадцать четыре часа можно воспринимать как детский кошмарный сон, как ураган, которого не было, и это лишь один из многих способов, какими можно включить «Часы» в более широкое повествование. Отчасти именно то, как Марклей использовал повторение, побудило меня увидеть свою писательскую задачу не столько в том, чтобы сплотить разнообразные сцены в нечто связное и убедительное, сколько в том, чтобы устоять против искушения это сделать; в 23.57 молодая женщина пытается соблазнить мальчика, а в 01.19 они возникают снова – спят каждый в своей кровати; что между ними произошло? Невозможно было не строить предположений о том, что случилось в промежутке, в этом отрезке художественного времени, совпадающего с реальным, как совпадают два сердца, бьющиеся в унисон.
После полуночи многие зрители покинули зал, мы же просидели еще ровно три часа; как это ни странно, хоть ты и знал, что все равно рано или поздно придется уйти, а фильм будет продолжаться, отправиться домой посреди часа казалось неуважением. В последующие дни я приходил еще и еще в разное время, и мне полюбилось то, как у тебя постепенно, по мере того как ты сживаешься с этим видео, развивается чувство некоего внутрижанрового циркадного ритма: например, от 17.00 до 18.00 (говорят, Марклей смонтировал этот час первым из всех, потому что во многих фильмах персонажи в этот промежуток поглядывают на часы, дожидаясь конца рабочего дня) преобладают люди, идущие с работы; около полудня можно ожидать всплеска вестернов и перестрелок[47]47
Один из классических вестернов – «Ровно в полдень» (High Noon, 1952).
[Закрыть] и тому подобное. Марклей, можно сказать, сотворил «наджанр», сделавший зримым наше общее бессознательное ощущение дневных ритмов: когда мы больше склонны убивать, когда – влюбляться, когда – наводить телесную чистоту, когда – есть, когда – совокупляться, когда – смотреть на часы и зевать.
Когда мы смотрели видео с Алекс, в какой-то момент на втором часу я заметил, что она клюет носом, и украдкой вынул телефон, чтобы посмотреть время. Примерно через полчаса я сделал это еще раз и только тогда понял, что веду себя нелепо: отвожу глаза от часов, чтобы взглянуть на часы. То, как глубоко въелась в меня эта привычка, я осознал с некоторым смущением, но потом решил: я все-таки не случайно забыл, что видео сообщает мне время, в этом проявляется нечто важное, касающееся фильма.
Приходилось слышать, будто «Часы» – это полная победа реального времени над художественным, произведение, стирающее грань между искусством и жизнью, фантазией и действительностью. Но я взглянул на телефон отчасти потому, что эта грань была для меня отнюдь не стерта; да, реальная минута и минута в «Часах» математически были тождественны, однако эти минуты принадлежали к разным мирам. Я смотрел на время в «Часах», но не был в нем, или же я переживал время как таковое, как абсолют, а не просто как среду, позволяющую переживать то или это. Творя и отбрасывая под воздействием смонтированных кадров разнообразные взаимоперекрывающиеся повествования, я остро чувствовал, как много не похожих друг на друга дней можно построить из одного дня, чувствовал скорее возможность, чем предопределенность, ощущал утопическое мерцание вымысла. Посмотрев на свои часы, чтобы увидеть цифры, идентичные тем, что были на экране, я продемонстрировал себе, что грань между искусством и повседневностью по-прежнему существует. Все будет как сейчас — комната, ребенок, одежда, минуты – только чуть-чуть по-другому.
Думаю, именно когда я перевел взгляд с «Часов» на свой мобильный, а потом обратно, я решил сочинить еще нечто в жанре художественной прозы, хотя обещал друзьям-поэтам этого не делать; и на следующей неделе я начал писать рассказ, первые заметки для которого набросал в блокноте, сидя в кинозале. В этих заметках я кое-что переиначил: свою медицинскую проблему поместил в другую область тела, астереогноз[48]48
Астереогноз – расстройство узнавания предметов при ощупывании.
[Закрыть] заменил другим расстройством, передал стоматологические дела Алекс другому лицу. Я решил изменить имена персонажей: Алекс станет Лизой (она мне говорила, что ее мать рассматривала это имя как второй вариант), Алина – Ханной, Шарон я превращу в Мэри, Джона в Джоша, доктора Эндрюса в доктора Робертса и так далее. Вместо предложения стать литературным душеприказчиком и вследствие этого испытать на себе напряжение, создаваемое разницей между биологическим и литературным долголетием, главный герой (некая версия меня самого, я назову его «автором») получит предложение от университета продать ему его архив. Как французский писатель в истории, рассказанной Бернардом в тот вечер, когда я познакомился с его дочерью, «автор» решит сфабриковать свою переписку с кем-то из знаменитых. Этому посвящен фрагмент, возникший у меня первым, ядро всей работы; он выглядел жизнеспособным. Я писал:
Автор намеревался перечитать это позднее и убедиться, что не слишком налегает на характерные для имитируемого автора слова и обороты… Ему надо будет найти и вновь просмотреть пару-тройку малозначительных посланий, которыми они обменялись в действительности, заглянуть еще раз в его «Избранные письма».
На всем этом сказываются перемены в технологии. Если покойный автор не оставил электронного архива, узнать, какие электронные письма ты послал ему на самом деле, невозможно, и если ты получил от него хоть что-то и потому располагаешь адресом, если способен прикинуть, когда он теоретически мог тебе написать, то ты можешь сочинить задним числом его послание, обратиться к себе из мира мертвых от его имени и заявить, что распечатал текст при его жизни.
Вот письмо от прозаика, с которым ты и правда встречался, с которым ты ужинал (и это можно доказать) по случаю выхода какого-то юбилейного сборника, – письмо, где он вспоминает и продолжает вашу беседу (которой не было) о твоем романе, находившемся тогда в зачаточном состоянии. Вот критик пространно отвечает на твои соображения о его статье, которых ты ему не посылал. Вот переписка о предложенных тобой редакторских поправках, в которой видный поэт высказывает важные утверждения.
В нынешний исторический момент, рассуждал он, мало того что такой обман благодаря технологическому сдвигу стал осуществим; даже если тебя разоблачат, проступок в изрядной мере можно будет представить как жест, как нечто среднее между перформансом и политическим протестом. Особенно если ты пожертвуешь деньги, которые библиотека тебе заплатит, скажем, Народной библиотеке, созданной движением «Захвати Уолл-стрит».
Быстрота, с какой появился рассказ, чуть ли не встревожила меня – первый вариант я написал менее чем за месяц, – и я послал его своей литагентше, а та предложила журналу «Нью-Йоркер» (он выразил ей свой интерес ко мне после неожиданного успеха, который мой первый роман имел у критиков). К моему удивлению, они приняли рассказ, но сочли, что из него надо изъять то, что касается сфабрикованной переписки, – а ведь я рассматривал этот кусок как ядро рассказа. По мнению редакторов, этот фрагмент утяжелял вещь, которая без него была элегантной медитацией об искусстве, времени, смертности и странной природе писательского восприятия. Но я не из тех, заявил я себе, кто позволяет «Нью-Йоркеру» стандартизовать свою работу; я не хотел соглашаться на изъятие, чей главный побудительный мотив, на том или ином уровне, – это соображения литературного рынка. Хотя, узнав, что «Нью-Йоркер» готов опубликовать рассказ, я испытал некоторое волнение (родители были бы страшно мною горды) и хотя восемь тысяч долларов пришлись бы кстати, меня, с другой стороны, радовала возможность проявить в отношении «Нью-Йоркера» твердость, дающую право рассказывать историю ненапечатанного рассказа как подтверждение своей авангардистской доброкачественности. Я написал журналу поспешное и, как я потом увидел, полное опечаток письмо, чью копию отправил литагентше; в письме я сообщил, что забираю рассказ, что изменения, которых они требуют (позднее до меня дошло, что их требование отнюдь не было ультимативным), нарушили бы целостность моей работы.
Я дал прочесть рассказ Натали во время одного из своих посещений больницы и поведал ей о связанных с ним событиях. Она прочла его при мне, пока Бернард спал, и сказала напрямик: «Я думаю, редакторы были правы». Я показал рассказ еще одному знакомому писателю, и он был того же мнения. Я показал его родителям, и они заявили, что я сошел с ума: то, что предлагают редакторы, явно пойдет рассказу на пользу.
В конце концов я показал его Алекс. Ее реакция на произведение, где фигурирует она сама, была, понятное дело, непростой – Алекс хотела оставаться вне моих сочинений, – но по поводу того, что касалось сфабрикованных писем, у нее не было сомнений: это лучше исключить. Поскольку, пошутила она, я взял из ее жизни и вставил в рассказ проблему с зубами мудрости, может быть, я, если журнал все-таки его примет, оплачу из гонорара то, чего не покроет ее страховка? Я увидел в ее шутке счастливую возможность и стал упрашивать ее взаправду мне это позволить: тогда, объяснил я ей, я смогу сказать себе, что извиняюсь перед ними ради того, чтобы помочь подруге, а не потому, что я идиот; к тому же это милое пересечение реальности и вымысла, а такому пересечению рассказ в первую очередь и посвящен. Она немного помолчала, потом сказала: «Ни за что», – но сказала таким тоном, который – мы оба это знали – обозначал просто-напросто некую стадию в диалектике ее согласия.
На следующий день литагентша помогла мне сформулировать извинение перед журналом; несомненно, она и сама написала редакторам о том, что все это для меня ново, что я в первую очередь поэт и потому не привык к редактуре, что моя кажущаяся грубость – всего лишь проявление неопытности, и так далее. Журнал был великодушен и напечатал исправленный рассказ быстро – до того быстро, что уже несколько недель спустя я держал номер в руках, сидя перед врачебным кабинетом и дожидаясь, пока Алекс выйдет после удаления зубов.
Часть вторая
Золотое сокровище[49]49
Нижеследующий рассказ Бена Лернера был опубликован в журнале «Нью-Йоркер» 18 июня 2012 года.
[Закрыть]
Автор ждал библиотекаршу в кофейне – в одном из нескольких коммерческих заведений напротив кампуса. Он сидел у окна, выходящего на каменные здания в готическом стиле, и смотрел на студентов, которые шли мимо, наклонив головы навстречу ветру.
Кто-то окликнул его, потому что кофе был готов. Он подошел к стойке и, взяв огромный капучино, отметил про себя, что пар образовал подобие цветка. Он двинулся обратно к своему столику, и тут дверь кофейни открылась, впуская холодный воздух и женщину средних лет – безусловно, библиотекаршу; она узнала его и помахала.
Его проблема состояла в том, что кофе требовал двух рук – по крайней мере, он взял его двумя руками, одной чашку, другой блюдце, чтобы не пролить кофе и не погубить цветок; он не мог помахать ей в ответ. Он нахмурился, досадуя на свое затруднение, и с опозданием сообразил, что она может принять его хмурость на свой счет. Чтобы выйти из положения, он стал смотреть на чашку подчеркнуто пристально, надеясь, что она поймет суть происходящего. Медленно, не сводя глаз с исчезающего цветка, он шел к своему месту у окна, все испортив.
Но автор помнил совет доктора Робертса. Оказавшись в очередном своем «ложном затруднении» и испытывая нарастающую одышку, он, сказал ему Робертс, должен просто-напросто описать тот мини-кризис, что он сам себе создал, человеку, с которым встречается в этот момент, описать ему свои ощущения, причем сделать это с таким же «обаятельным юмором», с каким он рассказал об одном из подобных случаев Робертсу.
Когда он дошел до столика, библиотекарша уже там сидела, увидев, куда он направляется. С преувеличенной осторожностью он поставил блюдце с чашкой на столик. У нее были пышные курчавые волосы – каштановые, только сейчас отметил он. Он пожал ее протянутую руку и сказал:
– Я хотел вам помахать, когда вы вошли, но в руках у меня был кофе, я побоялся его пролить, а потом испугался, что, не помахав, буду выглядеть невежливым, а потом почувствовал, что нахмурился от досады на себя, а потом понял, что действительно выгляжу невежливым и уже произвел жуткое впечатление.
Она засмеялась, словно и вправду сочла его юмор обаятельным, и сказала:
– Это звучит как фраза из вашего романа.
Неловкость рассеялась, но ее сменила обыденность. Он пролил немного кофе, поднимая чашку к губам.
В прошлом году у автора обнаружили дырки в зубах мудрости; их надо удалить, сказали ему. Он мог выбрать либо внутривенную анестезию, вызывающую сумеречное состояние, либо простое местное обезболивание (его советовал врач). Ему сделали панорамный рентген головы (подбородок лежал на подставке, аппарат жужжал и щелкал со всех сторон) и назначили удаление на следующий месяц, когда стоматолог вернется из отпуска. Спешить было незачем. Будут не совсем приятные ощущения в течение нескольких дней – и все. Если выберете внутривенное, позвоните хотя бы за сутки, сказала сестра в регистратуре, чьи ногти были украшены звездами.
Он прочел в интернете, что разница между легким общим наркозом и местной анестезией в первую очередь не в том, насколько тебе больно, а в том, насколько отчетливо ты будешь помнить процедуру. Да, бензодиазепины глушат реакции пациента на ее протяжении, но их главная задача – стереть его воспоминания о произошедшем: о том, как врач берется за щипцы, прилаживается, создает рычаг, как что-то во рту трещит, как из ранки стремительно льется кровь. Это помогало понять, почему знакомые, которых он спрашивал, не могли толком рассказать, как у них удаляли зубы, иные даже начинали сомневаться: вводили им седативное средство или нет?
В том октябре их прогулки с Лизой проходили под знаком его размышлений о внутривенной анестезии. Они встречались ближе к вечеру у главного входа в Проспект-парк и шли к Длинной поляне, а потом бродили по боковым тропкам, пока между деревьями сгущались сумерки. Наконец настал день, когда они гуляли последний раз перед тем, как ему надо было позвонить и сказать, хочет ли он внутривенную.
Стояла необычно теплая погода, почти летняя, но свет был, безусловно, осенний, и неразбериха с временем года отражалась на одежде гуляющих: на одних были футболки и шорты, на других зимние куртки. Это привело ему на ум дважды экспонированные фотоснимки и спецэффекты с наложением образов в кино: два уровня бытия, соединенные в одном изображении.
– Я не хочу, – заявил он, – чтобы со мной совершали манипуляции, зная, что я ничего не буду помнить.
– Не затевать же нам еще один разговор на эту тему, – сказала Лиза. Это было очень на нее похоже: она часто предваряла то или иное занятие заявлением, что не хотела бы в нем участвовать. «Не есть же тайскую пищу» означало, что она пришла к мысли поесть именно тайскую; «Не идти же на этот фильм» означало, что ему пора покупать билеты.
– А кроме того, – продолжил он, не реагируя на ее слова, – мне непонятно, равнозначно ли устранение памяти о боли устранению самой боли.
– И кто знает, – подхватила Лиза, повторяя то, что он говорил во время прошлых прогулок, – действительно ли воспоминание устраняется, или оно просто подавляется, по-другому распределяется в мозгу?
– Точно. И хуже того, – произнес он так, словно это была свежая мысль, – вместо отдельного события – травма, извергнутая из времени, которая дает себя знать беспрерывно, пусть и подсознательно.
– У очень многих из этих людей, – мрачно провозгласила Лиза, обведя широким движением руки парочки на скамейках, родителей, играющих с детьми на травке, женщин, занимающихся ушу, – жизнь разрушена загнанной внутрь травмой, причина которой – зубы мудрости.
– Если мне введут препарат, я, можно сказать, раздвоюсь. – Он снова не отреагировал на ее высказывание. – Это развилка дороги: человек, испытавший удаление, и человек, не испытавший его. Я, можно сказать, оставлю своего двойника наедине с болью, брошу его.
Они повернули на юг и пошли по дорожке, ведущей к пруду.
– И однажды ты повстречаешь его в темном переулке. И он захочет свести счеты.
– Я серьезно.
– Или он начнет вмешиваться в твою жизнь, вредить твоим отношениям с людьми, провоцировать скандалы у тебя на работе. Тебе придется его убить – то есть убить себя.
– И что за прецедент я создаю, обходя трудность при помощи амнезии?
– У тебя и так уже амнезия. Этот разговор у нас повторяется день за днем.
– Мне надо принять решение завтра. За один рабочий день до удаления.
– И что? Каких слов ты от меня ждешь? Я бы ограничилась местным, раз врач говорит, что его хватит, и сэкономила бы триста долларов. Но я намного тверже, чем ты. – (Это правда.) – А тебе понадобится общее, потому что ты слабак. Твое постоянное беспокойство из-за всего этого – верный знак, что ты выберешь внутривенное.
Дальше они шли к пруду молча. На ближнем берегу несколько девушек-подростков, одетых в белое, – вероятно, мексиканок – репетировали танец с бумажными лентами под металлически звучащую музыку из переносного стерео. В воде отражалось мягкое вечернее небо. По нему в сторону аэропорта Ла Гуардия медленно летели самолеты; по глади пруда медленно скользили лебеди. Все вдруг сошлось, согласовалось: розовая бумажная лента в руке у девушки перекликалась с розовой полосой на облаке, а та – со своим отражением в воде. У него возникло чувство, что мир вокруг перестраивается.
– Я выбираю местное, – решил он.
– Величественный вид вселил отвагу в сердце юноши, – проговорила Лиза, придав голосу звучность.
– Заткнись, – сказал он.
– Наполеон в одиночестве накануне битвы общается с Альпами, получает от них молчаливый совет.
– Заткнись, – повторил он, смеясь.
Проснувшись на следующее утро, он позвонил в регистратуру стоматолога и сказал сестре, что хочет внутривенное. Потом позвонил Лизе, сообщил, что передумал, и попросил сопроводить его в понедельник, потому что пациента с препаратом в организме одного не отпускают. Она испустила театральный вздох и сказала: хорошо.
А вечером ему предстояло свидание. Или, вернее, он встречался со своими друзьями Джошем и Мэри в баре, куда они пригласили знакомую по имени Ханна: они предположили, что она может ему понравиться, а он – ей. Только на такое первое свидание он и мог согласиться пойти – на такое, о котором потом можно сказать, что это вовсе и не было свидание.
С прошлой весны, когда вышел и удостоился неожиданных похвал его роман, каждая из женщин, с которыми друзья пытались его знакомить, либо читала его книгу, либо, по крайней мере, просмотрела перед встречей те немногие страницы, что позволяет бесплатно прочесть сайт Amazon. Это означало, что вместо обычных разговоров о работе, о любимых уголках Нью-Йорка и прочем его, скорее всего, ждали вопросы о том, какие части его книги автобиографичны. Даже если эти вопросы не задавались прямо, он видел – или ему казалось, – что собеседница сопоставляет то, что он говорит и делает, с текстом романа. И поскольку главная черта рассказчика в этом романе – беспокойство, вызываемое разрывом между внутренним опытом и социальной самопрезентацией, чем больше автор заботился о том, чтобы отграничить себя от рассказчика, тем острей чувствовал, что становится им.
Большую часть послеполуденного времени он провел за чертежным столиком у окна, отвечая на электронные письма из колледжа, который на время освободил его от преподавания, и не отвечая на вопросы маленького английского журнала, пожелавшего взять у него интервью и выразившего беспокойство из-за его зубов. Постирал – в чуланчике у него стояла маленькая стиральная машина с сушкой – и начал рассеянно ходить по своей небольшой квартире на третьем этаже; брал с сосновой полки случайную книгу, открывал, прочитывал страницу и ставил книгу обратно на полку, не помня ничего из прочитанного. Принял душ, встал голышом перед высоким зеркалом, прикрепленным изнутри к двери чуланчика, и стал рассматривать свое незавидное тело, думая, как оно покажется Ханне, кто бы она ни была, и прикидывая, как возместить его многие недостатки выигрышными изгибами и поворотами.
Местом встречи был назначен бар в Дамбо[50]50
Дамбо – район в северо-западном Бруклине.
[Закрыть], расположенный далеко от метро. Когда солнце село, он решил отправиться на далекую прогулку и закончить ее у бара. По-прежнему было тепло не по сезону, но теперь в воздухе ощущался намек на зиму. Звуки в нем были звучней, уличные огни переливчатей. С Четвертой авеню он повернул налево на Атлантик-авеню, где из мечети доносился азан, смешанный с треском в репродукторах, и неторопливо прошел полторы мили до Променада. Там прислонился к железным перилам, глядя на громады Манхэттена, поблескивающие над водой.
И наконец двинулся от Ист-Ривер обратно через Бруклин-Хайтс. На маленькой, мощенной брусчаткой улочке, неожиданно кончавшейся тупиком, некий сговор кирпичной кладки, прохладного воздуха и газового освещения на секунду вызвал у него чувство, что он перенесся назад во времени – или что разные времена, разные уровни бытия наложились друг на друга. Нет: огонек в газовом фонаре, перед которым он остановился, словно бы горел сразу и в настоящем, и в прошлом, в разных прошлых: помимо 2012 года, еще и в 1912-м, и в 1883 году, как будто это был один огонек, мерцающий во всех этих временах разом, соединяющий их. Ему почудилось, что всякий, кто останавливался когда-либо перед этим фонарем, на секунду сделался его, автора, современником, что все они, каждый в своем настоящем, видят один и тот же тревожный переходный момент. Потом он вообразил, что перед фонарем стоит рассказчик из его романа, что газовый свет заставляет соприкоснуться не только времена, но и миры, что автор и его герой, не способные видеть друг друга, могут тем не менее интуитивно сообщаться друг с другом, глядя на один и тот же огонь.
Латиноамериканская музыка из проезжающей машины вывела его из забытья. Он вынул телефон, чтобы посмотреть время и освежить в памяти адрес бара, и, пройдя под двумя грохочущими мостами, оказался в Дамбо; по мере приближения к месту встречи его ладони холодели от волнения. Он припозднился теперь достаточно, чтобы предполагать, что Ханна уже сидит там с Джошем и Мэри. Вот и бар – никакой вывески, только одна голая лампочка около двери; он потрогал лицо, чтобы проверить, не потное ли оно, не будет ли блестеть, но лицо оказалось сухим. Потом нащупал в кармане куртки пакетик с пластинками для свежести дыхания. Когда попытался положить одну на язык, понял, что случайно вытащил сразу несколько ментоловых пластинок; они слиплись в одну клейкую массу, и он выплюнул комок на тротуар.
Бар был тускло освещен на манер подпольного заведения времен сухого закона, темное дерево, жестяной потолок с орнаментом, большинство столиков в отдельных отсеках, никакой музыки. Было так тихо, что он слышал, как бармен смешивает один из традиционных коктейлей, на чью стоимость он твердо решил не жаловаться вслух, и в угловом отсеке в дальнем конце зала он сразу заметил Джоша, чье лицо в то время состояло главным образом из бороды, и Мэри в шляпке колокольчиком, которую он уже на ней видел и считал ошибкой. Ханну закрывала перегородка, но ее присутствие угадывалось по позам Джоша и Мэри, по тому, как Джош ему помахал, и, может быть, по числу бокалов на столе.
Поймете ли вы автора, если он скажет, что лица ее он ни вначале, ни позже по-настоящему не увидел, что ли́ца для него чем дальше, тем больше становились нечитаемыми фикциями, средствами упрощающей группировки отдельных черт в памяти, пусть даже память эта была тогда спроецирована на настоящее, на промежуток между лбом и подбородком? Он мог, конечно, перечислить эти черты: серо-голубые глаза, губы, которые обычно называют полными, густые брови, которые она, вероятно, немного проредила, небольшой шрам высоко на левой скуле, и так далее. И порой эти черты на короткое время соединялись в некое целое более высокого порядка, как буквы соединяются в слова, а слова во фразы. Но подобно тому, как слова растворяются во фразах, а фразы – в абзацах и сюжетах, для того, чтобы превратить совокупность этих элементов в лицо, их надо было забыть, надо было позволить им утратить материальность, стать впечатлением, и почему-то с Ханной, с которой он теперь уже был рядом, это забвение у него ни разу не продлилось долго.
С Ханной, которую три порции выпивки спустя он видел в профиль, смеющуюся над тем, как Джош пискляво передразнивал их начальника – мелкого самодура, руководившего продюсерской компанией, где Джош, Мэри и Ханна занимались монтажом документальных фильмов. Он видел, как она поправляет волосы, заводя черные пряди за ухо, обратил внимание на заостренную форму ушного завитка и только сейчас заметил колечко в ноздре, серебряное, но казавшееся в том освещении сделанным из розового золота. Потом – Джош и Мэри уже ушли – они сидели в отсеке бок о бок, с каждым глотком наклоняясь друг к другу чуть сильнее, и он высказывал ей все это о лицах, говорил, что писателю важно иметь плохую память на лица, а она спросила, видел ли он тот спутниковый снимок поверхности Марса – один из хрестоматийных образов, которыми иллюстрируют парейдолию (он никогда не слышал этого термина). Так, объяснила она ему, называется формирование из случайных сигналов иллюзорного зрительного или звукового образа: всякие там лица на луне, облака-животные. Она вынула телефон и нагуглила эту картинку, и маленький светящийся экран дал ему повод придвинуться к ней еще ближе.
На стене за спиной у доктора Робертса висела безобидная в тактическом плане абстрактная картина – ритмичные мазки, бледно-лиловые, голубые, зеленые, – весьма искусно изготовленный зрительный аналог фоновой музыки. Если бы автора спросили, как выглядит Робертс, ему пришла бы на ум картина, а не лицо.
– Я знаю, – сказал Робертс, – что ваши литературные труды привлекли к себе внимание, но откуда у вас, человека тридцати с небольшим лет, могут взяться бумаги, которыми интересуется университетская библиотека?
Автор сказал, что разделяет удивление Робертса, и передал ему слова заведующей отделом специальных коллекций: поскольку он, автор, «чрезвычайно рано развился» (ее выражение) и поскольку совсем еще молодым человеком он был одним из редакторов маленького и уже прекратившего существование, но влиятельного литературного журнала, библиотека предположила, что у него, возможно, даже сейчас имеется «зрелый архив». К тому же практика коллекционирования меняется, и бумаги теперь нередко продают поэтапно. Покупается, скажем, треть архива того или иного автора, а потом, на протяжении лет, еще одна треть и еще одна треть. Поскольку он, весьма вероятно, захочет, чтобы весь его архив находился в одном месте, университет заинтересован в том, чтобы завязать с ним отношения рано, инвестировать в него. Слово «архив» автор произносил так, чтобы было ясно, что он заключает его в кавычки.
– Вы действительно располагаете «зрелым архивом»? – спросил Робертс. Выражение, похоже, ему понравилось.
– Нет, – ответил он. – Почти вся переписка, касающаяся журнала, была в электронном виде, и большую часть времени у меня был другой электронный адрес. Я никогда ничего не распечатывал. Что сохранилось – скучные издательские материи, рутина. А что касается моей собственной работы, – он постарался не заключать слово «работа» в кавычки, – я не пишу от руки и не сохраняю в компьютере черновые варианты.
– Чем же вы располагаете?
– Обширной и бурной электронной перепиской с друзьями-писателями; эти послания написаны коряво, напичканы сплетнями, в них ведрами льется грязь и сообщаются всевозможные порочащие сведения. Еще у меня имеется папка с благодарственными открытками от писателей, в том числе от знаменитых, за присылку моего романа.
– Неужели библиотеки покупают электронные письма?
– Похоже, начинают. Электронные архивы. Она сказала, перемены в технологии вызывают перемены во всем. Но на самом деле то, что у меня есть, им не нужно. Да я и не хочу, чтобы это читали – даже после моей смерти.
Робертс помолчал, как бы выделяя курсивом последние четыре слова автора; молчание было равнозначно повторению.
– Год назад я счел бы их интерес странным и глупым, но он был бы для меня лестным, а теперь это выглядит так, словно университет предвосхищает мою смерть.
– Нет никаких оснований думать, что ваше состояние будет ухудшаться, – в тысячный раз терпеливо повторил Робертс.
– И я с удивлением чувствую, – сказал автор, не отреагировав на его слова, – что хочу иметь «архив», хочу оставить эти опознавательные следы.
Робертс промолчал, что значило: продолжайте.
Он так много раз это рассказывал, что вкрались небольшие вариации. Он не мог точно вспомнить последовательность событий. Например: пришло ли ему на другой день после удаления зубов сообщение с просьбой как можно скорей позвонить стоматологу – или стоматолог дозвонился до него сразу? Как бы то ни было, на следующий день после процедуры, за неделю до запланированного контрольного визита, он стоял перед окном, глядел на небоскреб с часами на Хэнсон-плейс и, прижимая к уху мобильный, слушал стоматолога, говорившего, что у него не все идеально на рентгеновском снимке. «Не все идеально на снимке», – повторил автор, терпя боль во рту. Стоматолог сказал, что пересматривал историю болезни и одна область на снимке его обеспокоила. «Что-то не так с моими зубами?» – спросил автор. «Вам надо проконсультироваться с неврологом», – ответил стоматолог. После полновесной паузы он добавил: «Я думаю, все в итоге будет в порядке».
В приемной первого невролога висела репродукция с голубкой Пикассо, в кабинете, где он сдавал кровь, – акварели с манхэттенскими закатами, там, где он ждал компьютерной томографии и МРТ, – фотографии орхидей.
В конце концов он вошел в кабинет доктора Уолша, знаменитого в своей области. Серебристая седина, очки без оправы, пурпурный галстук под белым халатом. Доктор почти все время улыбался – по крайней мере, уголки рта постоянно были слегка приподняты, а голубые глаза чуточку прищурены, что выражало оптимистическую сосредоточенность на пациенте без покровительственного бодрячества.
Пока доктор Уолш говорил автору, чтó он увидел, тот смотрел на репродукцию пляжного пейзажа: два пустых белых деревянных кресла, обращенных к морю, маленькая яхта на воде. У него имеется опухоль – менингиома кавернозного синуса; выглядит доброкачественной.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!