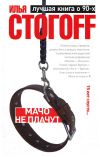Текст книги "22:04"

Автор книги: Бен Лернер
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
«Кто выбирает эти репродукции?» – хотелось спросить автору.
«Репродукции?» – Доктор Уолш еще сильнее сощурил бы глаза.
«Вы сами их выбираете или медицинский центр покупает их оптом? Откуда они берутся?»
Доктор Уолш повернулся бы в кресле, чтобы увидеть, на что автор так пристально смотрит, а потом опять обратил бы взгляд на автора, но молча.
«Мне понятно желание как-то украсить здешние стены, показывая, что это не просто врачебные кабинеты, что пациент – не просто патологически измененное тело, что наука не властвует здесь безраздельно. Мне понятно, что единственный критерий выбора произведений, которым вы или центр могли бы руководствоваться, – их неагрессивность. Они должны быть если не прямо успокаивающими, то по крайней мере не возбуждающими. Они призваны показать, что вы и не бездушная машина, и не эксцентрическая личность; они мягко кивают на устоявшиеся культурные формы, на нечто среднее в живописи и на клишированные ее образцы. Это не искусство, а всего лишь его подобие».
«Этот кабинет не только мой, я делю его с двумя другими врачами», – мог бы ответить доктор Уолш, поглаживая обручальное кольцо.
«Не вернуться ли нам к теме разговора?» – сказала бы, будь она там, Лиза, кладя руку автору на плечо.
«Но проблема, одна из проблем, – по его телу разливался бы холод, как перед МРТ, когда вводили контрастное вещество, – в том, что эти подобия искусства обращены только к больным, к пациентам. Нелепо было бы представить себе, что врач задерживает взгляд на таком изображении в паузе между пациентами, что он испытывает к нему интерес или чувствует привязанность того или иного рода, что оно как-либо окрашивает его день, и тому подобное. Помимо гнетущей банальности, взаимозаменяемости, я вот еще что в них вижу: мы не можем смотреть на них вместе. Они увеличивают разрыв между нами, потому что обращены только к больным, адресуются исключительно к ним».
Вместо всего этого он с дрожью в голосе спросил:
– И что меня ждет?
– Вполне вероятно, что опухоль никогда не будет расти и ее пребывание в мозгу останется бессимптомным, – сказал доктор Уолш.
– Возможна ли хирургия? – услышал он свои слова.
– Вы можете проконсультироваться с хирургом, но я не думаю. Нет. – Доктор Уолш встал, подошел к стене, вставил в рамку рентгеновский снимок и включил свет. – Расположение новообразования исключает этот вариант.
– И что мне теперь делать?
Он не мог заставить себя посмотреть вместе с доктором Уолшем на свой череп в разрезе.
– Пока мы ничего особенного делать не будем. – Доктор Уолш сел обратно. – Просто будем хорошенько вас наблюдать. Если и когда проявятся симптомы – подумаем о лечебной стратегии.
Головные боли, нарушение связности речи, слабость, расстройство зрения, тошнота, чувство онемения, паралич. Прозопагнозия[51]51
Прозопагнозия – потеря способности узнавать лица.
[Закрыть], парейдолия. Мягкое вечернее небо, отраженное в воде. Серебристое, но благодаря освещению кажущееся сделанным из розового золота. Мимолетное ощущение возврата в прошлое.
Положим, они вместе с его родными – с родителями, братом, невесткой и двумя их мальчиками, двух и пяти лет, – летят на зимние выходные во Флориду, на остров Санибел у побережья Мексиканского залива.
Уже темно, когда они подъезжают на машине к снятому коттеджу на берегу, сворачивают на гравийную дорожку. В теплом воздухе стоит запах жасмина, слышен прибой – этот звук всегда казался ему чужим, необычным. Он пытается вызвать в памяти легкий утренний снежок в Нью-Йорке, капли, стекавшие по овальному иллюминатору во время взлета.
Автор вносит на руках в дом, где слегка пахнет кремом от загара и цитрусовым дезинфектантом, младшего племянника Тео. Он идет с Тео, который большой палец одной руки держит во рту, а другую запустил автору под рубашку, к акварелям с раковинами и морскими звездами, вспоминая, как напал на доктора Уолша из-за медицинского искусства, словно это и вправду произошло.
Тео находит и сжимает его сосок, что заставляет автора вздрогнуть, а потом засмеяться; с тех пор как Тео начали отлучать от груди, он ищет грудь всякого, кто берет его на руки. Автор фыркает, прижав губы к шее Тео, и тот хохочет в голос; он ставит мальчика на пол и смотрит, как он ковыляет к маме, которая только еще входит в дом, нагруженная сумками; за ней захлопывается сетчатая дверь. На веранде Ханна показывает Сайрусу фокус с исчезающим большим пальцем.
Ханна идет наверх распаковываться, брат и невестка – устраивать детей в их комнате. Он сидит с родителями, попивая пиво, оставленное в холодильнике прежними отдыхающими; отец наигрывает на дешевой гитаре, которую всегда берет с собой.
– Тебе удается что-нибудь писать последнее время? – спрашивает отец, играя аккорды «Золотого сокровища», песни, которую он пел автору в детстве.
– Пока нет.
– Я бы тоже на твоем месте ничего писать не могла, – говорит мама. – Такой стресс. Но ничего, все у тебя будет хорошо, я уверена. – Автор смотрит на нее. – Все будет хорошо.
В конце песни он обычно плакал: в песне коварный капитан корабля «Золотое сокровище» отказывается поднять из воды на борт юнгу, потопившего вражеское судно, и юнга тонет в океане. Из-за этого отец прибавил к балладе куплеты собственного сочинения, в которых мальчика спасает добрая морская черепаха и он, живой и невредимый, оказывается на острове.
Племянники сбегают по лестнице в пижамах, с мокрыми от мытья волосами. Его отец начинает петь им песню о своих двоих внуках и их волшебных самолетных пижамках[52]52
На некоторых авиалиниях пассажирам выдают пижамы для отдыха во время длительного перелета.
[Закрыть]. Брат и невестка подпевают.
– А теперь дядя вам расскажет историю, – говорит брат, открывая пиво.
– Я знаю историю про самую большую в мире акулу, – говорит автор. Невестка уже рассказала ему про последнее увлечение Сайруса. – Но не знаю, нравятся ли ребятам акулы.
Мальчики шумно уверяют его, что нравятся.
В их комнате, застеленной светлым ковром, ничего нет, кроме шаткой двухъярусной кровати и большого открытого красного чемодана на полу. Он слышит, как Ханна за стенкой принимает душ. Окно открыто; он снова вдыхает запах жасмина. Он ложится с Тео на нижний матрас и устремляет взгляд вверх, на матрас Сайруса. Слышно, как Сайрус посасывает ногу маленького мягкого «хрюши», с которым он до сих пор спит. Шум прибоя автор улавливает не сразу.
Он говорит мальчикам, чтобы слушали волны и воображали, что их кровать – не кровать, а корабль, который вышел в море на поиски самой большой и самой подлой в мире акулы. Что значит подлой, спрашивает Сайрус, перестав сосать на несколько секунд. Это значит – злой, всегда готовой съесть кого-нибудь. Луна на небе поднялась высоко, ее свет отражается в воде. Нам надо вести себя очень-очень тихо, чтобы акула нас не услышала. Мы вышли в море, чтобы поймать эту акулу, и нам надо смотреть во все глаза, тогда мы, может быть, заметим в лунном свете ее плавник. Спинной плавник, уточняет Сайрус. Верно, спинной плавник, шепотом соглашается автор. Рука Тео ищет у него под рубашкой сосок.
Вижу ее, тихо восклицает автор, и тут перед ним возникает проблема с грамматическим временем. Он не знает, как продолжить историю в настоящем времени, – точнее, не знает, как продолжить ее в нем так, чтобы усыпить мальчиков, а не побудить их к некой игре. К своему удивлению, он чувствует нарастающую панику, по телу разливается холод. «Чрезвычайно рано развившийся» автор не может справиться с техническими трудностями такого жанра, как история на сон грядущий. Он обильно отпивает из бутылки с пивом, но это не помогает. Владение речью, похоже, изменило ему.
Он делает четыре глубоких, осознанных вдоха, считая их, – так советовал доктор Робертс. Подражая дяде, Тео раз, другой, третий до отказа наполняет воздухом щуплую грудь. Внезапный страх, подозрение, что симптомы начали проявляться: такое теперь случается с автором по нескольку раз на дню. Теперь, когда мы выследили акулу, продолжает он, давайте бросим якорь, и я вам расскажу про нее. Звук собственного голоса вселяет в него уверенность: дрожи не слышно. Жила-была акула по имени Сара, ее считали подлой, но на самом деле она была храброй и доброй, она спасла после кораблекрушения целую семью… и так далее. Она показала этой семье, где лежит затонувшее сокровище… но Тео уже спал.
Автор открыл дверь в свою комнату. Ханна вытирала голову полотенцем перед длинным зеркалом, загородив отражение своего лица; сама она, однако, автора видела.
– Сейчас спущусь, – сказала она.
Внизу он завладел последней бутылкой пива и присоединился к другим. К своему удивлению, он уже чувствовал себя пьяным.
– Мы думаем на пляж пойти, – сказал брат.
– А кто постарше, на боковую, – подал голос его отец. Мама уже была в спальне. Автор понятия не имел, который час.
– Пошли с нами, – сказала невестка.
Он крикнул Ханне, чтобы двигалась на пляж, когда сможет. Брат нашел в кухонном шкафу бутылку красного вина. Они открыли ее, обогнули дом и по освещенному луной гравию вышли на дорожку, которая, минуя еще одно бунгало, спускалась на берег. Дорожка вся была в обломках ракушек, по краям ее росли невысокие деревья – вероятно, мангровые. Чувствуя их приближение в темноте, с дорожки шмыгали маленькие существа – ящерицы или жуки. Когда вышли на берег, их ошеломила небесная панорама, невероятное изобилие звезд. Песок поблескивал неожиданно ярко, искрился, они дошли до середины песчаной полосы, сели и стали передавать бутылку из рук в руки.
Вдоль берега, где туристы разбили лагеря, горело несколько костерков. Они попытались вспомнить, когда последний раз были вместе на пляже. Десять лет назад в Барселоне? Нет, во время свадьбы в Лос-Анджелесе.
Потом брат спросил:
– А где Ари?[53]53
Имеется в виду Ариана Мангуаль, жена Бена Лернера.
[Закрыть] Уже легла спать или придет?
На отдалении послышался звук, который мог быть хлопком сетчатой двери, и брат сказал:
– Должно быть, она.
Но автор возразил:
– Ее нет в этой истории.
Собственный голос показался ему не совсем внятным, он словно бы доносился издали. Услышав смех, автор обернулся и увидел на балконе одного из прибрежных домов красные огоньки сигарет.
– Почему? – разочарованно спросила невестка.
Он взял бутылку, которую брат ввинтил в песок, и отпил. Ему понадобилось много времени, чтобы признаться в своем неумении это объяснить; умей он это объяснить, сказал он, она, а не Ханна, шла бы к ним сейчас. Я раздвоился. Соприкосновение миров. Хрустящие шаги по гравию, потом по обломкам ракушек, тишина, когда она пошла по песку.
На балконе позади него захлопали в ладоши, он обернулся и увидел, что кто-то запустил с балкона воздушный шарик. Нет, летучий фонарь: освещенную изнутри красную бумажную сферу, возможно несущую угрозу морской живности. Фонарь медленно пролетел мимо них и двинулся над водой. Все они, каждый в своем настоящем, видели один и тот же тревожный переходный момент.
В день удаления зубов они с Лизой поехали на метро к стоматологу на Мэдисон-авеню, в район Центрального парка. Поднялись на лифте на двадцать восьмой этаж. Он отметился в регистратуре, они с Лизой повесили куртки и сели ждать в тесной приемной. Ему было неловко признать, что он очень сильно нервничает, но Лиза и так все понимала, она, чтобы ему стало полегче, мягко прошлась на его счет: спросила, нет ли у него таких рукописей, которые она должна будет сжечь, если он не переживет эту процедуру.
Вскоре медсестра позвала его, и он, войдя в дверь рядом с регистратурой, оказался в комнате без окон. Постарался устроиться в кресле поудобнее, а медсестра тем временем измерила ему давление, сделала замечание о погоде и подсоединила к его щиколотке какой-то монитор. Потом медбрат в фиолетовом медицинском костюме принес капельницу, распутал и подключил провода, протер ему спиртом кожу на руке. Вошел стоматолог, взглянул на капельницу, улыбнулся и спросил со своим румынским акцентом:
– Неужели вы меня так боитесь?
Медбрат кончил свои дела с капельницей, ушел и вернулся, везя каталку со стоматологическими инструментами. Автор, пока медсестра вводила ему в вену иглу, смотрел в сторону.
На середине своего вопроса врачу о том, сколько времени займет процедура, он вдруг почувствовал, что его голос доносится издали; он оставил вопрос неоконченным. Оставил потому, что в ту же самую минуту гулял с Лизой в парке, где вечерний свет проникал сквозь кроны лип, и объяснял ей, что был прав, выбрав внутривенную анестезию. Он понимал, что сидит в кресле, до него дошел вопрос стоматолога, переставшего сверлить на пару секунд, хорошо ли он себя чувствует, и он услышал, как буркнул ему в ответ что-то утвердительное; но в ту же самую минуту он объяснял маме по телефону, что процедура оказалась пустяком, мыльным пузырем. Его наполняло блаженное тепло; вселенная была добра, лампа, которая светила ему в рот, была живительным солнцем. Он знал, что она не солнце, и все-таки она им была, а потом стоматолог сказал: «Готово». Он понятия не имел, как долго все продлилось: пять минут или час. До него дошло, что медсестра дает ему указания, и, говоря ей: «Понятно, понятно», – он почувствовал марлю у себя во рту. Потом он вышел следом за ней в приемную, не ощущая под ногами пола, и смотрел, но не слушал, как она повторяет указания Лизе; та поблагодарила ее и помогла ему надеть куртку.
От яркого солнца у него немного прояснилось в голове, и когда они сели в такси, его представление о ходе времени уже стабилизировалось, но его по-прежнему так заботливо окутывала светящаяся медикаментозная теплота, что внезапные рывки и остановки машины, с трудом продвигающейся на восток, он воспринимал как мягкое покачивание. Боли он не испытывал, чуточку неприятным было только онемение языка, напоминавшее о ранках, заложенных марлей. А Лиза – она что, все это время говорила? Когда выбрались на Эф-Ди-Ар-драйв, он повернулся к ней, и она, поднявшая руки, чтобы стянуть русые волосы в конский хвост, была красива; он смотрел, как она дышит, как поднимается и опускается ее грудь, увидел на ее прекрасной ключице тонкое золотое ожерелье, которое она всегда носила. Потом – без всякого перехода – перед глазами возникла панорама Нижнего Манхэттена, здания по мере движения такси становились все больше, он видел их все отчетливей, хотя езды не чувствовал. А потом вдруг почувствовал езду, очень быструю и немыслимо гладкую, впереди был Бруклинский мост, его тросы сверкали на солнце. Лиза обругала маленький сенсорный телевизор в такси, не хотевший выключаться, он протянул руку, чтобы ей помочь, и соприкосновение со стеклом экрана ощутил как чудо, как встречу с затвердевшим, осязаемым воздухом. А потом он приглаживал ей волосы, а она смеялась из-за этого необычного проявления нежности: за шесть лет дружбы он делал так всего несколько раз. Потом опять городской вид, и ему подумалось – точно открылось:
Я это забуду. Это самая красивая панорама города, какую я видел, у меня никогда не было таких переживаний скорости и таких прикосновений, я никогда не чувствовал такой близости с Лизой – и я все это забуду; медикаменты сотрут всякую память. Да, этот вид, эти переживания, окруженные светящейся аурой неминуемого исчезновения, – поистине самые-самые. Он страстно хотел рассказать Лизе о происходящем, но не мог, потому что онемение языка не прошло; он не мог даже попросить ее напомнить ему потом то, что сотрут медикаменты. Когда они въехали на мост и он увидел, как играет на воде осеннее солнце, он, хотя смутно сознавал, что Лиза будет дразнить его из-за этого позже, что он смешон, ощутил слезы на глазах. То, что у него не сохранится об увиденном никаких воспоминаний, что он не сможет оставить о нем письменный след ни на каком языке, придавало пережитому особую полноту, на короткое время делало его равным себе, и мысль, что этому ощущению присутствия придает остроту грядущее изглаживание, трогала его до глубины души. А потом он оказался в своей квартире; Лиза дала ему пару таблеток, уложила его в постель и ушла.
Он проснулся около полуночи и почувствовал себя самим собой. Во рту немного побаливало. Он справил малую нужду, поменял марлю, пропитанную потемневшей кровью, и запил еще одну таблетку обезболивающего полным стаканом воды. Послал одну эсэмэску Лизе, другую Джошу, спросившему, как все прошло. Улыбнулся, подумав, как много времени потратил на мысли об удалении; оказалось – пустяки. Посмотрел на ноутбуке серию из «Прослушки» и уснул.
Наутро он встал поздно и, выпив кофе (со льдом, чтобы не помешать заживлению), понял: я помню все – езду, городской вид, то, как гладил Лизу по голове, непередаваемую красоту, которой суждено было исчезнуть. Помню – а значит, ничего этого не было.
Часть третья
В Нью-Йоркско-Пресвитерианскую больницу я вошел в холодном поту, физически ощущая растворенные в нем соли и мочевину. Я месяц с лишним – с тех самых пор, как была назначена дата, – беспокоился из-за этой процедуры, беспокоился очень сильно и вслух, так что Эндрюс предложил мне принять таблетку; в метро по пути на Верхний Манхэттен я то и дело притрагивался к куртке, удостоверяясь, что таблетка лежит во внутреннем кармане.
Передо мной раздвинулись стеклянные двери, и, пройдя через атриум мимо кофейного киоска к лифтам, я поднялся на седьмой этаж. Приемная, где я оказался, была необычно роскошна, больше похожа на кабинет топ-менеджера, чем на медицинское учреждение. Абстрактные репродукции на стене (бледные решетки разных цветов, перепевы Агнес Мартин[54]54
Агнес Мартин (1912–2004) – канадско-американская художница.
[Закрыть]) играли всего лишь болеутоляющую роль, но рамы были музейного качества. Непринужденная улыбка сотрудницы, к которой я обратился, показалась мне слегка неуместной – улыбкой продавщицы в дорогом ювелирном магазине, куда я пришел бы покупать обручальное кольцо; в этой улыбке не было ничего медицинского. Я назвал ей себя, она ввела имя и фамилию в компьютер, распечатала листок и дала мне, чтобы я поднялся с ним на следующий этаж: «Там для вас все сделают».
Прежде чем нажать кнопку лифта, я увидел свое отражение в его блестящей металлической двери и сказал себе – может быть, даже частично пробормотал вслух: «Поезжай вниз, выходи на улицу и никогда больше сюда не возвращайся; ты не обязан этого делать». Но конечно, я поднялся куда мне сказали – этот этаж выглядел намного более заурядно и по-медицински, здесь явно делали лабораторную работу и обследовали пациентов, а не только говорили с ними о том, какие могут быть варианты и сколько они стоят внутри системы страхования и вне ее.
Молоденькая сотрудница, которой я дал свой листок, – на вид ей было лет восемнадцать, хотя на самом деле, конечно, чуть побольше, – могла бы рекламировать купальники или танцевать на заднем плане в музыкальном видеоклипе. Она не была совсем уж необычайно красива, но фигура, чьих пропорций черный брючный костюм не скрывал, хоть она и сидела, как нельзя лучше соответствовала эротическим фантазиям среднего мужчины. Все-таки зря, подумал я, те, кто у них там отвечает за распределение функций, выбрали ее на эту роль – подумал и тут же почувствовал из-за этой мысли такую же неловкость, как чуть раньше, когда машинально отметил про себя ее телесные параметры. Взглянуть ей в глаза мне оказалось трудно, и я постарался не краснеть. Насколько мне известно, краснею я очень редко, у меня почти никогда не возникает зримого румянца смущения или стыда; но стараться не краснеть – это у меня вполне определенное, хоть и невольное, действие: я прижимаю, сам не знаю почему, язык к нёбу, стискиваю челюсти, учащаю дыхание, и мне приходило в голову, что это-то как раз и может заставить меня покраснеть. Я протянул сотруднице кредитную карту; моя запредельно дорогая страховка не покрывала в данном случае ничего.
Она дала мне новый листок с прикрепленной квитанцией и сказала, что надо немного подождать, меня вызовут. Благодаря ее, я посмотрел все-таки ей в глаза, но знание в ее глазах было ужасно, она словно бы говорила мне: пялься, извращенец, пялься. Я сел, вынул из кармана таблетку и уже готов был взять ее в рот, но вдруг испугался – хотя вряд ли Эндрюс мог допустить такую ошибку, – что она как-нибудь подействует на пробу. Я крутил ее в пальцах, крутил, и тут меня позвала медсестра.
Она подвела меня к пустому кабинету и на пороге сказала, что мне следует помнить одно: надо тщательно вымыть руки и избегать прикосновений к чему-либо потенциально загрязняющему. Она дала мне маленький пластиковый контейнер с наклейкой, где было проставлено мое имя и напечатана какая-то цифирь, и медленно, точно ребенку, повторила: «Ваши руки должны быть очень чистыми, иначе придется все переделывать», а потом объяснила, как поступить с контейнером, когда я закончу. Она одарила меня доброжелательной улыбкой, не выдававшей ни смущения, ни неловкости, и исчезла за углом. Я вошел в кабинет и закрыл за собой дверь.
С одной стороны, меня превратили в больного, в пациента, меня разъяли на части, наделив каждую жуткой автономией; с другой – я ощутил начатки того, чего иначе как возбуждением не назовешь, что-то похожее я почувствовал в одиннадцать лет, когда Дэниел в первый раз дал мне номер «Плейбоя». Сочетание вызвало у меня легкую тошноту.
Я повесил куртку на металлическую вешалку и осмотрелся. Посреди кабинета стояло кресло, похожее на зубоврачебное, обитое дерматином персикового цвета; по спинке и сиденью сверху вниз шла полоса медицинской бумаги, которую добросовестная медсестра должна менять между клиентами… то есть пациентами. Нет, в это кресло я ни за что не сяду. Перед креслом стоял телевизор с DVD-меню на экране. На телевизоре лежали беспроводные наушники – их я тоже решил не использовать. В дальней части кабинета я увидел умывальник, над ним – емкость с жидким мылом и маленькую табличку, напоминающую о необходимости тщательно мыть руки. В стену было вделано приспособление, приводящее на ум банковскую ячейку из тех, какими пользуются не выходя из машины; туда мне надлежало перед уходом поместить контейнер, передавая его лаборантам в соседней комнате без того, чтобы встречаться с ними лицом к лицу. Банк, врачебный кабинет, порнокинотеатр… это было какое-то универсальное заведение. Чуть погодя я осознал, что из-за той стены до меня отчетливо доносятся голоса: женщина рассказывает про бойфренда своей дочки, говорит, что он настоящее сокровище; мужчина говорит по телефону по-испански, заказывает ланч – что-то с белым рисом и черной фасолью. Если я их слышу, рассудил я, то и они услышат все, что будет звучать здесь; я решил, что все же воспользуюсь наушниками.
Я направился к умывальнику и вымыл руки, потом вымыл их еще раз. После этого подошел к креслу, взял лежавший на подлокотнике пульт и начал просматривать меню на экране. Телевизор был подключен к некоей службе, дававшей возможность выбирать из колоссального количества фильмов, чьи названия шли в алфавитном порядке, но вместе с тем были сгруппированы по этническому признаку: «Азиатки. Анальные приключения», «Азиатки. Оральная фиксация», «Азиатки. Соблазнение» и так далее; «Белые блондинки. Анальные приключения», «Белые блондинки. Ласковые губы», «Белые блондинки. Океан спермы» и так далее; имелась, однако, и возможность поиска только по способу действий: «Лучшее из…» того-то и того-то. Мелькнула строчка: «Портрет Саши Грей». Многие из этих видео обещали крайнюю откровенность, и это меня удивило, как и группировка по расовой принадлежности; кажется, я ожидал, что будут только журналы. Мне трудно было выбрать, но я не мог отрицать, что аудиовизуальная поддержка ускорит процесс. Я опустил глаза на пульт, чтобы увидеть, как он работает, но тут вспомнил: я не должен прикасаться ни к чему, что может загрязнить пробу. Что может загрязнить ее вернее, чем этот пульт, побывавший во множестве нечистых рук?
После нескольких секунд панических размышлений я просто нажал play – и пошли «Азиатки. Анальные приключения», хотя это, надо сказать, совершенно не мое; мне казалось, что не выбирать — менее предосудительно, чем проявить прямое предпочтение. Я положил пульт и пластиковый контейнер и снова пошел к умывальнику вымыть руки. Потом вернулся к экрану, расстегнул джинсы и уже готов был приступить, как вдруг сообразил, что мои брюки – еще более опасный потенциальный источник загрязнения: я только что час ехал в них в метро и не помнил, когда последний раз стирал вещи. Со спущенными брюками и трусами я прошаркал обратно к умывальнику и уже начал беспокоиться, не слишком ли долго вожусь: может быть, есть лимит времени, может быть, медсестра в какой-то момент постучит в дверь и спросит, как у меня дела, или скажет, что следующий пациент уже ждет. Я проковылял к телевизору и торопливо надел наушники, но тут до меня дошло, что прикосновение к ним ничем не отличается от прикосновения к пульту. Мне захотелось прекратить эту сцену из Беккета и, так или иначе, начать уже; но что, если потом раздастся звонок и мне скажут, что проба оказалась непригодна? Так что я опять, шаркая, двинулся к умывальнику – уже с наушниками на голове, уже слыша крики и стоны участников «приключений» – и еще раз вымыл руки. Зеркала над умывальником, к счастью, не было.
Но почему, подумал я, щедро расходуя мыло, мои руки вообще можно рассматривать как источник загрязнения? Я же не буду дотрагиваться до самой спермы, я вполне могу проявить осторожность и убрать руку в нужный момент. На сей раз все прошло по высшим канонам, и вот наконец – по существу, проскакав от умывальника к телевизору – я имел возможность непосредственно перейти от мытья рук к их онанистическому использованию.
Пришла пора действовать, и надо признать, что по поводу этого действия я тревожился больше, чем перед любым из своих половых актов, – потому-то Эндрюс и дал мне виагру, которую я теперь жалел, что не принял. Но было поздно; он предупредил, что эффекта, возможно, придется ждать не один час, и к тому же мой страх – вероятно, нелепый – перед неким химическим загрязнением никуда не делся. И не вредна ли виагра людям с сердечными проблемами? Может быть, он и про это забыл? Ведь она, кажется, расширяет сосуды. Я злился, как злятся старики. Но злость на Эндрюса помощи мне в моем положении не сулила: ни его лицо, ни безобидная в тактическом плане абстрактная картина в его кабинете не были подходящими в теперешней ситуации зрительными образами.
Меня страшила перспектива бесславного ухода из мастурбатория, необходимости после двадцати минут онанизма сообщить медсестре, что у меня просто-напросто не получилось; но этот страх был, конечно, пустяком по сравнению с необходимостью сказать Алекс. Что тогда будет? Придется либо назначить новую дату, удваивая стресс, либо отказаться от плана совсем, подвергая нашу дружбу испытанию, если не уничтожая ее напрочь, либо договориться, чтобы они извлекли сперму с помощью какой-то жуткой процедуры, если это вообще возможно. Полтора месяца я делился своей боязнью неудачи с Джоном, Шарон и Алиной, а они высмеивали меня, заверяли, что все пройдет отлично. Несколько дней перед сдачей пробы надо было соблюдать воздержание; в эти дни Алина, пуская в ход точно выверенное сочетание игривых двусмысленностей, якобы случайных прикосновений и театрального курения, старалась поддерживать во мне, как она выразилась, «запал».
И к счастью, запал сработал: быстрота, с которой все произошло, была почти комической, и главную роль в этот краткий промежуток играл возникший сам собой перед моим внутренним взором образ молодой сотрудницы в приемной, что эта сотрудница, думалось мне, предвидела. Облегчение было очень глубоким. Я оделся, поставил контейнер куда нужно и покинул учреждение так быстро, как только мог.
Идя на запад к парку, я пытался представить себе процесс, которому положил начало: лаборатория определит объем эякулята, время разжижения, количество сперматозоидов, их подвижность, морфологические свойства и так далее и вынесет заключение о моей способности стать донором. Репродуктолог, с которой консультировалась Алекс, предложила попросту обойтись без этого этапа: во-первых, к внутриматочной инсеминации сперму специально готовят, во-вторых, подозревать, что с моей спермой неладно, особых причин нет, кроме, пожалуй, того, что я, несмотря на весьма опрометчивое поведение, ни разу, насколько мне известно, не сделал ни одну женщину беременной; поэтому стоило бы сразу осуществить осеменение и посмотреть, успешно ли оно было. Но я еще не решил по-настоящему, вполне ли я готов стать донором и тем более отцом, мы с Алекс все еще пытались понять, в какой степени мне посильно второе, и мне представлялось, что этот анализ может облегчить обсуждение, либо положив ему конец (если моя сперма до того нехороша, что понадобится, к примеру, лечение мужского бесплодия, которому я не хочу подвергаться, или многократное повторение попыток зачатия – у женщин в возрасте Алекс они в любом случае бывают успешными примерно один раз из десяти), либо демистифицировав определенные стадии. Сколь бы глупо это ни звучало, меня так отвращала мысль о реальной сдаче спермы, что я надеялся, заставив себя сдать ее сначала всего лишь на анализ, сделать эту сторону процесса не столь психологически значимой. Я не хотел отказывать Алекс всего лишь на том основании, что не могу, дескать, дрочить в медицинском кабинете, смотря порнуху. Пока я старался понять, в какой мере сдача анализа изменила мое внутреннее состояние, меня чуть не сбил автобус на пересечении Шестьдесят восьмой улицы и Лексингтон-авеню.
Наконец я дошел до парка, но углубился в него лишь до первой свободной скамейки; я сел и стал смотреть, как няни, все до одной чернокожие или смуглые, катают белых детишек в дорогих прогулочных колясках. Я вообразил себе, как пытаюсь объяснить происходящее будущему ребенку – он представился мне в облике троюродной сестрички Алекс: «Мы с твоей мамой любили друг друга, но не так, как надо любить, чтобы рождались детки, поэтому мы пошли в такое место, где от меня взяли частичку и вложили в нее, вот от этого ты и получилась». Звучало вроде бы неплохо. Я вообразил себе, что сижу у ее кроватки и глажу ее по голове, по русым волосам. «И ты знаешь, – продолжил бы я, – ведь всегда, чтобы получился ребеночек, нужна помощь, маме и папе одним не справиться, потому что все зависят от всех остальных. Взять хотя бы эту квартиру, – сказал бы я (сам, скорее всего, жил бы в другой). – Откуда взялась древесина, откуда взялись гвозди, краска? Кто-то посадил деревья, кто-то их спилил, кто-то привез доски и построил дом, кто-то научил рабочих строить здания, кто-то раздобыл деньги и за все это заплатил, и так далее». Да, я мог бы вести такой разговор, заверил я себя, глядя, как бостон-терьер (порода первоначально была выведена для охоты на крыс на швейных фабриках и лишь потом приспособлена для домашнего товарищества) загоняет на дерево белку; я расскажу о нашем способе размножения на манер книги «Нужна целая деревня»[55]55
«Нужна целая деревня – и другие уроки, которые преподают нам дети» – книга, выпущенная в 1996 году «первой леди» США Хиллари Клинтон.
[Закрыть]. Но затем мой голос продолжил беседу с ребенком без моего разрешения:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?