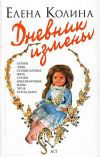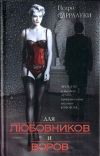Текст книги "Романчик"

Автор книги: Борис Евсеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– А по-моему, ты как раз деревянная женщина и есть. Вот я беру скрипичную шейку и прикладываю к твоей. Елки-палки! Точь-в-точь! Теперь беру кусок нижней деки и прикладываю к твоей попке. Прямо не отличишь. Из одного куска. А теперь беру и приклеиваю к другой твоей половинке еще кусок дерева…
Однако О-Ё-Ёй не дала приложить или приклеить к своей попке кусок недоструганной нижней деки, а, вскочив, стала нервно одеваться.
– Я думала – ты скажешь что-нибудь серьезное… Думала, диктовать будешь… А ты со своими глупыми фантазиями!
– Ну ладно, – смилостивился я. – Давай вычитаем несколько набоковских стихов. Я буду читать, а ты проверишь.
– Да пошел ты! Не хочу… Не буду… – В глазах О-Ё-Ёй появились слезы. – Пойду схожу в магазин, хоть макарон на ужин куплю.
Это был камешек в мой огород. Денег на ведение нашего общего, из машинописных длиннот, читок и правок вдруг сложившегося хозяйства не было ни копья.
– Ну и вали! – в очередной раз, сам не зная на что, обиделся я. – А я… Я тоже поеду…
Глава четвертая
Вокруг Жуковки
Весь сентябрь я собирался съездить в Жуковку. Каждый день мысленно кружил я близ нее, выдумывая все новые и новые причины для встречи и знакомства со знаменитым ее обитателем.
О том, что гонимый отовсюду публицист и писатель нашел приют у знаменитого виолончелиста в недальнем Подмосковье, передавали все забугорные радиоголоса. Да и одна моя старая знакомая нехотя, но и достаточно подробно об этой дачной местности кое-что порассказала. Правда, и предупредила: «Жуковка – не место для прогулок. Правительственная зона. – Тут бывшая, как она сама рекомендовалась, „баба эсериха“, удивительно морщинистая и от этих морщин казавшаяся пришедшей к нам из русской народной сказки Бабой-Ягой, скривилась, как от прокисшего сока. – Но дачка-то у этого, у вашего… как его… Настропалевича, самая большая в поселке. Да. Лестницы и перила мраморные! И все другое – перилам под стать. Даже капээсэсники, – тут „баба эсериха“ зашипела ужом, – живут скромней!»
Об этой самой Жуковке, о «правительственной зоне», я все время и думал. И мысли мои от близости «архаиста-новатора» и великого ниспровергателя мешались. То хотелось сымпровизировать для него кусок из «легкого кинематографа прозы», то почему-то мечталось узнать о дальнейшей судьбе разных стран. Хотелось повыспросить и о новинках самиздата.
Мечты о встрече становились реальней жизни. И это при том, что некоторые мысли «жуковского затворника», вовсю цитировавшиеся радиоголосами, я любил не слишком. Но сам образ писателя вызывал во мне непостижимый восторг. За то, чтобы ему позволили свободно высказывать не слишком нравившиеся мне мысли, я готов был отдать многое. И в первую голову, конечно, скрипку Витачека…
Постепенно в голове моей от этой странной мечты-поездки сделалась метель. Потом – снежная сухая пустыня.
Чтобы пустыню эту увлажнить и озеленить, я стал подбираться к Жуковке уже не в мыслях, а практически. Я останавливал идущие за Москву попутки, но потом выходил из них. Я договаривался с внимательными частниками, но в последний момент не приходил в условленное место. Я доезжал до предместий Москвы и дальше шел пешком, но потом сворачивал в забегаловки, в окраинные кинотеатры. Я доехал однажды до Жуковки на электричке, но, увидев сплошной лес и не заметив никаких дач, в смущении повернул обратно.
Я кружил вокруг Жуковки, как ворон вокруг погоста. Но попасть в это заколдованное место – не мог! Что-то словно не пускало меня туда, что-то оттаскивало от этого благоприятного для других и гибельного для меня (так в сладости возбуждения тогда чуялось) места.
Наконец я решился. И собрался было сказать О-Ё-Ёй, что сегодня все-таки выберусь в Жуковку, но опять, в десятый уже раз от такого сообщения отказался. Ничего путного из этого не вышло бы. О-Ё-Ёй скорей всего высмеяла бы меня или – что еще хуже – разревелась («Тебе мало, что тобой интересуется профком и партком, мало?»).
«Ладно, скажу ей, что еду в институт».
Я поднял голову и увидел: О-Ё-Ёй в комнате давно нет. Тихо, как степной зверек, выскользнула она в заросший бурьянами двор.
«Может, и правда в институт съездить, позаниматься?»
Тут я некстати вспомнил последнюю институтскую, как тогда говорили, «хохму». Причем «хохма» эта, эта странная и смешная история, касалась уже только меня одного.
«Хохма» была в том, что рядом с Комитетом комсомола у нас в Мусинке внезапно образовался Комитет борьбы с антисемитизмом. Это был, конечно, Комитет неофициальный, пожалуй, даже подпольный. Никто из обкомов-горкомов его не учреждал, но, видно, и не запрещал. В Комитете этом, как я узнал совсем недавно, уже дали оценку русопятам из ансамбля баянистов, но в особенности занялись потерявшими чувство меры вахтерами, что-то антиеврейское в свои густые бороды часто ронявшими.
– Тебе надо войти в наш Комитет, – сказала мне в прошлый четверг Ляля Нестреляй. – Вы, русские, всегда от борьбы отлыниваете. Так что покажи, будь добр, пример всем своим и поприсутствуй сегодня вечером.
– А что… И поприсутствую, пожалуй…
– Да уж, пожалуйста, будь так любезен. – В голосе Ляли, словно в утреннем прозрачном стакане, к ста пятидесяти граммам лечебно-вокального желтка вдруг примешалось грамм тридцать черного молотого перца. От такой смеси я слегка поперхнулся и сдуру бухнул:
– Только там ведь, наверное, работы никакой. Нудновато нам с тобой, Ляля, будет.
– Работой тебя завалят по самые твои… – Ляля хотела сказать очередную грубость, но стерпела и сказала: – По самые уши.
– Работой заваливают по горло, – нехотя поправил я.
– Заваливают-наваливают! У вас всегда так: начинаете с языковых проблем, а потом с этими проблемками – рраз, и в самую середку, в музыку! Да грязными языками, да грязными пальцами. Ты что, тоже «отсохист»? Смотри-ка! А я и не знамши…
«От сохи» – это было тогда в музыкальной среде обидное и даже клеймящее определение. Если уж кого-то «отсохистом» обзывали, то избавиться от этого филологически прилипчивого и нравственно разящего определения было трудно.
Я поежился. Никаким «отсохистом» я, конечно, не был. А кем я был и кто я, собственно говоря, есть – в одну минуту решить не мог. Не мог, потому что разделение на «вас» и «нас» меня тогда еще не терзало, а последствия такого разделения мной даже не просматривались.
– Так ты придешь-таки?
– Ладно, Ляля, приду. Но только в другой раз. Сегодня у меня небольшое дельце намечается.
– Он мне делает одолжение! Он мне – такие вещи! Нет, это я тебе скажу: вы, русские, просто обязаны заседать в нашем Комитете. Танком, танком при к нам! – вдруг понизила голос до возбуждающей контральтовости, словно упрашивая лечь в постель не только меня, но одновременно и кого-то еще, бесстрашная Ляля. – Учти, если о тебе сложится плохое мнение, его потом не исправишь!
– Какое мнение, Ляля? И где оно может обо мне сложиться?
– Ну… вообще… везде!
– Ладно. Приду после оркестра.
Не успел я расстаться с Лялей и отвалить от наглухо для меня закрытых дверей Комитета комсомола, как из-за деревянненькой мусинской колонны выступил и зашагал мне навстречу, клоня, как конь, сухую головенку набок, доцент Ангелуша.
Стукнуло доценту уже годков двадцать восемь. Был он из молодых, но, как говорится, ранних. Именно за молодой научный возраст Ангелуша и был многими у нас страстно обожаем. Его пухловатое порхающее тело и впрямь навевало мысли о чем-то ангельском. Но вот широченный и узкогубый рот, ощущавшийся как крупный надрез на сохло-вялой редиске, говорил ясно: Кощей, Кощей, а никакой не Ангелуша, выступил из тьмы, колыхавшейся близ угловых дверей Комитета наших доблестных комсомольцев!
– Евсеев, подойдите сюда. – Доцент остановился в нескольких шагах от меня. – Ну! – строго приказал он.
Ангелуша у нас на курсе ничего не вел, и я уже хотел сделать – как тогда говорили наши духовики, в особенности валторнисты и тромбонисты, у которых рот и руки были вечно заняты, а мозгов было до обидного мало, – «финт ушами». А проще говоря, незаметно куда-нибудь слинять.
– Идите, идите, – уже мягче, но все с той же настойчивой тревогой в голосе вновь поманил Ангелуша.
Я подошел. И тут произошло неожиданное.
Ангелуша сперва приобнял меня за плечи, потом за талию и быстренько затолкал в какой-то невзрачный кабинетик, дверь в который я раньше не замечал.
– Один из наших «народников» – неважно кто! – сказал мне, что вы интересуетесь русской историей.
«Народниками» у нас звали не тех, кто в прошлом, согласно ленинско-сталинской теории, с томиком «Капитала» и портретом Добролюбова хаживал в народ, а студентов факультета народных инструментов: баянистов, гусляров, бас-балалаечников, домристов. К «народникам» я всегда относился хорошо, много лучше, чем к зазнайкам-пианистам или к малахольным теоретикам, и поэтому бодро доценту ответил:
– Было дело.
– Это почему ж это – было?!
– Ну, так… потому… – Я не знал, как с Ангелушей говорить, не знал, чего вообще хочет от меня этот изможденно-пухлый, ротатый человек, а потому в недоумении смолк.
– Поясните: почему «было»? На все должны существовать четкие, вразумительные ответы. Мне сказали: Борислав Евсеев – интересуется, – нажимал и нажимал Ангелуша.
– Ну вообще-то я действительно…
– Жду подтверждения поставленного мной вопроса, – вдруг смешно, как маятник, заколебался всем телом из стороны в сторону Ангелуша.
Вместо ответа я утвердительно кашлянул.
– Так. Это уже лучше. – Маленький доцент, радуясь, попытался встать еще и на носки. – Значит, я иду по верному следу!
Я глупо кивнул.
Тут доцент внезапно перешел на свистящий шепот и, далеко относя слова друг от друга, сказал:
– Мы… решили… учредить в нашем… институте… новый… Комитет…
Я вздрогнул, а доцент Ангелуша растянул и так доходящий до самых ушей рот в невиданно широкую прорезь и заперхал ненатуральным, прямо-таки музыкально-теоретическим смехом.
– Ничего антисоветского в нашем Комитете – и это вы должны понять сразу – не будет.
«Сначала Ляля со своим Комитетом, теперь этот пухлый Кощей… Сдвинулись они на комитетах, что ли?» – уныло подумал я про себя.
– Да-с. Не будет, – повторил Ангелуша. – Но вот в чем, молодой человек, понимаете ли, штука. Вот в чем, я бы сказал, загвоздка. С одной стороны, нам нечего скрывать, а с другой – недоброжелателей у нас будет уйма. А мы ведь лишь хотим помочь здоровым силам в нашей партии и в нашем – скажу прямо – слегка подувядшем комсомоле… Помочь им избавиться от семитской мелодики в нашей советской музыке. Да! Именно! Именно в мелодике вся соль! Вы ведь член Ленинского комсомола?
Истерическая нотка в слове «ленинского» меня напугала. Я стал мяться, даже оглянулся по сторонам. Но в кабинете, кроме портретно улыбающегося Дмитрия Кабалевского, автора бодренького концерта для скрипки и других комсомольско-пионерских вещей – никого не было.
– Пока состою, – сказал я мрачную правду.
– Пока! Он пока состоит! – Доцент Ангелуша взмахнул руками, словно собирался взлететь, но сдержался, никуда не полетел, а, закинув ногу за ногу, картинно сел, отчего стал сразу напоминать нахохлившуюся курицу с пышным опереньем, но некормленную. – Впрочем, не в одном комсомоле дело. Я ведь сказал уже: комсомол наш увядает. Да, да! И поэтому мы, музыковеды и даже просто музыканты, которые интересуются прежде всего советской историей, ну а затем уже и русской, должны… обязаны…
Тут доцент вышел из себя по-настоящему. По лицу его медленно стекли две слезы. Вытирая их, он окончательно осерчал на мою тупость и, не желая больше рассусоливать, сказал:
– В общем, так: завтра в 17-30 в вашем общежитии на Луноходной улице состоится первое заседание нашего музыкально-исторического кружка, который в дальнейшем станет Комитетом. Ждем без опозданий. А не придете… Успехи ваши в последнее время, говорят, не очень. И взносов комсомольских уже полгода не платите. Это вы по бедности или умысел какой имеете? Да еще, кажется, депеши в пивных составляете?
Это была святая правда. Денег я не платил. И не только потому, что они у меня не держались. Просто хотелось плавно из комсомола уплыть. Ну а насчет пивных – я призадумался. Что-то писал ведь, подлец, недавно…
– Ваше молчание считаю знаком согласия. – Ангелуша прытко вскочил и, не давая времени ответить, покинул помещение.
Историю с Ангелушей и предшествующую ей историю с Лялей я вспоминал неохотно, но вспоминал неотвязно.
Вспоминал во время того, как О-Ё-Ёй ходила в магазин за макаронами и когда собирал в рыжий портфель бумаги и рукописи.
Постепенно до меня дошло: я складываю в портфель совсем не то, что необходимо для занятий в Мусинском институте.
– Не делай этого, Борёк, – остерег я себя вслух.
Однако руки скрипача, чуткие и проворные, не подчиняясь занудному мозгу, продолжали делать свою работу.
В портфель быстренько уложились два машинописных и уже переплетенных цветаевских «Лебединых стана». За ними непереплетенный (только закончили!) экземпляр «Роковых яиц». Следом – читанная и перечитанная до боли в зубах солженицынская «Правая кисть», бледно переснятая из франкфуртского журнала. «Правую кисть» я изучал не только как сопереживатель критики современной действительности, но и как будущий знаток своего дела. Я, конечно, знал тонкости работы правой руки, и хоть рубить саблей и держать смычок – не одно и то же, было в работе рубящих и играющих мышц большое сходство. Особенно в те моменты, когда мы, скрипачи, держали – как саблю – смычок во время отдыха.
С высоты пятнадцатилетней рубки нот смычком я, конечно, видел технические неточности во франкфуртском рассказе, но прощал их. И хотя иногда казалось: передо мной – мелочно-расчетливая, алгебраическая, а вовсе не насыщенная деталями проза, – я прощал и это. Прощал, потому что был в рассказе какой-то повод идти дальше текста. Был повод вонзаться – глубже классовой ненависти – в жизнь правых предплечий и кистей, в жизнь шеи и головы, других частей души и тела…
Леопольд Ауэр и Карл Флеш – великие теоретики игры правой скрипичной кистью – дополнялись после чтения этого рассказа байками двух моих дедов. Оба деда были Иванами и оба кавалеристами. Один – на царской службе, а затем в Белой армии, другой – в армии Красной…
Набив под завязочку рыжий портфель и повесив для конспирации на плечо скрипку Витачека, не дожидаясь, когда О-Ё-Ёй принесет макароны (все равно будут без сала, даже без масла!), я выскользнул на улицу.
Уже сидя в такси, я подумал: все мною задуманное – глупость и авантюра, но останавливать шофера, говорить ему: «Я передумал, поедем на улицу Воровского, к институту Мусиных» – в тот раз не стал.
Не стал потому, что продолжал вспоминать Лялю, Ангелушу, двух Иванов и все иное-прочее. И, лишь когда такси миновало окраины Москвы и запетляло по ближнему Подмосковью, я воспоминания эти силком оборвал. И то потому, что обратил наконец внимание на сухо и грозно постукивающий счетчик.
Было на счетчике – два рубля двадцать копеек! А у меня в кармане – всего две трешки, и это на три-четыре дня.
– Далеко до Жуковки? – забеспокоился я.
– Рядом уже, – ответил сквозь зубы таксист. Словно бы немного подумав и что-то про себя просчитав, он кривенько ухмыльнулся. Затем улыбку с лица согнал и, понизив голос, спросил: – Тебе-то, вьюнош, в эту парашу зачем? Делать больше не фиг?
Я гордо дернул плечом и ничего таксисту не ответил. Да и что я мог ему ответить? Мне и самому не было до конца ясно, что я скажу неугомонному писателю, добравшись до искомой дачи! Как вообще представлюсь? Как музыкант? Как труженик самиздата? Как собиратель запрещенных рукописей? А для чего тогда скрипка Витачека? Для того, чтобы предметно показать: музыканты тоже задумываются о свободе слова в СССР? Глупец, жалкий глупец!
Таксист некоторое время злобновато (так мне казалось) молчал, потом отчеканил:
– Остановлю тебе, не доезжая. За полкилометра от этих поганых дач. Тут – правительственная зона. Дальше сам найдешь. А то лучше – ехай назад. Денег нет – даром до автобусной остановки довезу.
Я упрямо затряс головой, расплатился и через минуту такси покинул. В одной руке была у меня мелочь (таксист сдал с трешника до копейки), в другой – портфель с жалким, как я уже начинал понимать, самиздатом. За спиной на крепком ремне ударял по лопаткам Витачек в футляре. Дальние дачи, пустынная дорога и начинающиеся сумерки навевали тошненькую грусть.
Чуть вдалеке, у сворота шоссе маячил на пустынной дороге одинокий гаишник с жезлом. Не доходя до него шагов десять, я остановился, чтобы закурить.
– Что? Зачем? – крикнул испуганно гаишник, когда я полез в карман за «Руном».
– Да перекурить охота.
– А чего здесь-то курить? Чего такси отпустил? Брешешь! Куда топаешь, сынок? Чью-то дачку ищешь?
Я сглотнул комок слюны и, думая, что правильней всего будет помотать из стороны в сторону головой, отрицая и дачу, и поиски, наперекор себе, глупо, как баран, кивнул: да, мол, ищу.
– Ищешь, значит… Да тебя хоть звали сюда? Ты знаешь, кто здесь живет?
Я молча переступил с ноги на ногу.
– А в футляре у тебя что?
Мысль о том, что гаишники не должны интересоваться музыкальными инструментами или личными вещами, мне в голову пришла значительно позже. Поэтому я без слов расстегнул футляр и показал великолепную, желто-лимонную, с магическим красным отливом на боках скрипку Витачека.
– Красивая… – сказал гаишник и даже отступил на полшага назад, но потом вновь приблизился и поводил над скрипкой окостенелым, до конца не разгибающимся указательным пальцем. Правда, дотронуться до лаковой, тускло сияющей поверхности не решился.
– Сам играешь? Или… – он сделал выразительную паузу, – продаешь?
– Музыкант я, студент. В Мусинском институте учусь.
– А, музыкант! – Гаишник вдруг залился тихим и ласковым, непохожим на его грубый простуженный голос смехом. – Утром попил Чайковского, закусил Мясковским! И сразу Пуччини, потом Риголетто! Дальше, конечно, Серов. А после… – Скрябин Листом по Шопену, Скрябин Листом по Шопену!
Я, как всегда, хотел обидеться, но передумал и просто выкинул недокуренное «Руно».
– Ладно, это я так. – Ласка пропала, мильтон хрустнул косточками, распрямился. – Ты вот что… Я ведь знаю, чью дачу ты ищешь. Так ты на дачу эту не ходи. Да и не пустит тебя туда никто. И опоздал ты. Мисаил Сигизмундыч, – он почему-то хихикнул, – загрузился в автобус в мерседесовский и был таков. Ну то есть за границу отбыл. А этот, из флигеля… Гулять он вроде собирается. Я тут, понимаешь, за скорость отвечаю. Прибор у меня… Ох и прибор! Только что разработали… До чего все-таки прогресс дошел! А ты чеши, чеши отсюда, парнишка! Может, ты и вправду музыкант, но я вот что тебе скажу…
Из-за поворота мягко вывернула и, вмиг набрав небывалую скорость, прошла мимо нас иностранная легковушка. Кто в ней сидел, понять было трудно. Сумерки стали уже плотными, осязаемыми. Дальние фонари освещали эти сумерки как-то с краю, сбоку. Да и стекла машины – так показалось – были затемнены. Но мне почему-то сразу стало ясно: он! Тот, кого я ищу!
– Отойди! – с опозданием крикнул гаишник.
Я мимовольно отступил на обочину, хотя машина была уже далеко.
– Уехал… Теперь часа три колесить по округе будет. А мы наблюдай, значит, чтоб чего не случилось… – заговорщицки подмигнул мне гаишник. – Ладно, пойду чайку попью. А ты вали отсюда подальше, Скрябин!
Заведя поудобней футляр за спину и подхватив рыжий портфель, я пошел назад, к свороту шоссе, к тому месту, где высадил меня таксист.
Было уже, наверное, не меньше восьми вечера.
Непередаваемая горечь от потерянного дня вкупе с каким-то мрачным сарказмом терзали меня. Я ругал себя последними словами, а левое мое плечо от пятнадцатилетней скрипичной тяжести нестерпимо ныло. Что делать после сегодняшней жизненной неудачи, как очистить нутро от слизи и накипи, я не знал.
Сделав несколько шагов в сторону от дороги, я вошел в сухо-березовый, а местами сосновый подлесок. Попетляв по нему сколько хотелось, я неожиданно для себя вынул скрипку и стал играть все подряд: куски из концертов и пьес, отрывки из этюдов, гаммы. Я ходил вокруг скинутых на землю футляра и портфеля и играл. Я всегда любил ходить во время игры. А в лесу места было много.
После игры сильно полегчало. Особенно сладко стало от того, что к скоростному паганиниевскому «Perpetuum mobile» я внезапно привесил мелодичную, какую-то совсем не итальянскую, а скорей восточноевропейскую, в духе Глинки и Дворжака, каденцию.
По привычке оглядываясь, не видел ли кто, как я ходил, играя (все институтские преподаватели ходить запрещали), я вскоре вышел на неширокий проселок. По моим расчетам, проселок этот как раз и должен был вывести к основному шоссе. Но я ошибся – проселок завел глубже в лес. Я занервничал и тут же заблудился.
Что делать в лесу со скрипкой? Играть? Но я уже наигрался вдоволь. Мне стало не по себе. Я вырос в степи, в настоящих лесах бывал редко, мало. И, хотя виднелась вдалеке башенка – не башенка, терем – не терем, от этого стало только муторней.
Я стал метаться по лесу и в конце концов выскочил на асфальтовую дорогу. Но это была асфальтовая петля, она привела к мрачноватой, как показалось, необитаемой даче и повернула назад. Я стал стучать в дачные ворота – никто не открыл. Тогда я решил отыскать все того же балующегося где-то чайком гаишника. Но опять забрел в глушь…
Час или полтора кружил я вокруг Жуковки. Мне казалось: никогда я отсюда не выберусь. Вот они, дачи, рядом! А не доберешься, не докричишься. Что-то словно отпихивало меня от места! Словно бес водил. Или наоборот: кто-то не давал разгуляться бесу!
Круг, петля, круг! Круг, петля – снова на тоже место!
Не выдержав круженья, я сел на холмик, закрыл глаза.
Жуткий крик прорезал лес насквозь. Крик одиночный, рыдающий. Кричал не человек, но вроде и не зверь. Кричала скорей всего птица. Но для птицы крик был слишком разумным, слишком тягостным. Я продолжал, сжавшись, сидеть.
Наконец прямо из глубины леса выехал какой-то мужик на мотоцикле «Урал». Коляска мотоцикла была пуста. Волосы мужика, задетые лучиком фары, сияли тусклым лунным блеском.
– И здеся уже шляются, – проговорил мужик зло. – Весь лес испохабили. Ну, чего расселся?
– Я заблудился… Кружу тут, кружу. Вот и сел.
– Правильно, как здесь не кружить? Место здесь такое. Оно-то и водит вокруг себя, это место. Что у тебя за спиной, ружье?
– Скрипка…
– А чего ж ты здеся околачиваешься? Тоже, небось, пакость какую удумал? Отвечай, пакость?
– Не… Я просто… Я…
– Просто… А еще музыку играют! Литературу пишут! Ладно, садись, вывезу тебя отселе, из места этого поганого.
– А что здесь за место? – Я слегка приободрился.
– Лучше тебе не знать. Вздорное, бесполезное место. Да и гадкое, с нечистью.
– У меня денег – три с мелочью.
– Это в Москве у вас деньги. А здеся – люди. Садись, доставлю в целости и сохранности. Да ты че бледный такой? И как бы не укус на шее. – (Я вступил уже в круг света). – Не упырь ли тут тебя достал?
– Не… Это от скрипки… – Я подошел ближе.
– Точно, точно упырь! – Мужик на «Урале» от радости даже расхохотался. – Упырь здеся у нас завелся. Да не обычный – воздушный! Невидимый! Пугачом полетает этак по воздуху и раз – в шею кому-нибудь. Слыхал, минут десять тому пугач кричал? Он, он! Никто его пока не видал. А следы, ирод, оставляет. Ну да ничего. Я в Правдинском учлесхозе не таких доставал. Выведу его отселе, выбью! Найду и могилу его, и дневное логово!
Я глянул на мужика внимательней. Волосы его от проглянувшей вдруг луны, а может – от фар, стали совсем бледно-желтыми. Губы шевелились, как только что разломленная и тоже с желтинкой слива. Он сам был похож на упыря!
– Да ты не бойсь, – заметил мужик мой взгляд. – Лесник я здешний. Титка. Титкой, стало быть, кличут. Или – Титком. Кому как нравится. Ты не бойсь, что я ругаюсь. Надоели мне дачники просто. Весь лес засрали. И больше всего ученые да военные срут. А уж опосля их – музыканты и правительственные. А я сранья не люблю. Раньше-то это место чистым было. Меня сюда полтора года как определили. Нечисть я, слышь ты, спиной чую. Ну и наверху все, кому положено, про это знают. Берегут меня. А здеся как раз нечисть копиться стала! Потому сюда и определили. Я ить муромский мужик-то. В этим деле толк знаю. Институтов не кончал, а точно тебе скажу: упырь тут промышляет! Упырь лихой! Не меньше как полгода на его выведение потребуется. Ну, покатим помаленьку? Ночь-то у меня будет тяжкая, ночь боевая…
От осенней прохлады и Титкиных разговоров я задрожал всем телом. Так, дрожа и зажав скрипичный футляр между ногами, чтобы Титка этой предательской дрожи не заметил, я и покатил на «Урале»: через лес да по проселочкам…
Спустя десять минут с радостно бьющимся сердцем садился я в остановленную Титкой попутку. Я хотел его даже расцеловать напоследок, но передумал, и он, махнув рукой, так и уехал без объятий и поцелуев, крикнув на прощанье: «Не поминай Титку лихом, парень!»
Час спустя я уже был на Таганке.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?