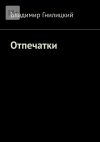Текст книги "Андрей Платонов, Георгий Иванов и другие…"

Автор книги: Борис Левит-Броун
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
По улицам рассеянно мы бродим,
На женщин смотрим и в кафе сидим,
Но настоящих слов мы не находим,
А приблизительных мы больше не хотим.
А постмодернистская литература (и философско-критическая и в ещё большей мере «художественная») пенится многотомием текстов, состоящих зачастую даже не из приблизительных слов, а из вполне бессодержательных знаков. Отвержение «приблизительных слов», великая серьёзность и духовная требовательность к себе – это признак что, родовая черта живой сущности, воля к гениальности. Согласие на «приблизительные слова» – это признак ничтоженья сущности, воля к бездарности. В историко-культурной ретроспективе постмодернизм вызывает определённые ассоциации с итальянским маньеризмом, в котором были подвергнуты «системному сомнению» и деградировали величайшие духовные и художественные достижения Ренессанса. Ведь, скажем, некоторые фигуры Понтормо трудно не воспринять как шарж на фигуры Микеланджело, а автопортрет Пармиджанино, изобразившего себя в кривом зеркале, – как бессознательную карикатуру на автопортрет Рафаэля. В этом смысле очень проницательно замечание Умберто Эко: «У каждой эпохи есть свой постмодернизм» (кому как не итальянцу Эко было подметить эту особенность!). Действительно, так взглянув на проблему, можно, пожалуй, маньеризм шестнадцатого века увидеть как некий специфический «постмодернизм» эпохи Возрождения. И наоборот, постмодернизм века двадцатого – как «маньеризм» современной эпохи, хотя сущностные разрушения, посеянные современным европейским постмодернизмом (как его мышлением, так в особенности и его эстетической практикой) куда тяжелее искажений сущности в итальянском постренессансном маньеризме. За симулякрами всё-таки стоят оригиналы, устойчивые сущности, за произволом «явлений-как», плодящихся в нетворческие эпохи, маячат неотменимые что эпох творческих. Маньеристы, или если угодно постомодернисты, т. ск. поствременщики всякой творческой эпохи, каждый в меру духовного бессилия, ничтожат сущности. Надо, однако, заметить, что прогресс вырождения духовной культуры нарастает по мере того как прогрессирует безбожие. Современная постмодернистская «культура» есть самый «передовой рубеж» теоретически обоснованного духовного и культурного вырождения, которого достигло атеизированное европейское человечество после великих творческих эпох. Это и есть закат Европы.
2010 год, Верона
Жоржик
(Этюд на стихи Георгия Иванова)
«Я хочу самых простых, самых обыкновенных
вещей.
Я хочу заплакать, я хочу утешиться…
Я опять возвращаюсь к мысли,
что я человек, расположенный быть счастливым.
Я хотел самой обыкновенной вещи – любви».
Г. Иванов
То, что было и то, чего не было,
То, что ждали мы, то, что не ждём,
Просияло в вечернее небо,
Прошумело коротким дождём.
Это всё. Ничего не случилось.
Жизнь, как прежде, идёт не спеша.
И напрасно в сиянье просилась,
В эти четверть минуты душа.
Георгий Иванов. Даже не знаю. Всю жизнь оплакивал, всю жизнь откладывал, и вот – пиши. Нашёл в интернете его слова, поставил в эпиграф. Что я так долго откладывал, он об том в стихах жаловался. Таких стихах, что тошно жить после них, хотя… нет, не «хотя», а «потому что» слёзы от них – сладости неизреченной и горечи невыносимой.
Душа черства. И с каждым днем черствей.
– Я гибну. Дай мне руку. Нет ответа.
Еще я вслушиваюсь в шум ветвей,
Еще люблю игру теней и света…
Да, я еще живу. Но что мне в том,
Когда я больше не имею власти
Соединить в создании одном
Прекрасного разрозненные части.
Вот не мог соединить.
Вселенский, всечеловеческий голод любви он один посмел выразить с таким детским, таким божественным бесстыдством. И этому бесстыдству не поставило препону то, что был он, вроде бы счастлив в любви. Его любила очаровательная, сладкая с кислинкой, русская женщина и поэт Ирина Одоевцева.
А как он любил её, чуть картавую, слегка взбалмошную, дерзкую и верную, терпеливую к его выходкам, которые отнюдь не все были невинны.
Не о любви прошу, не о весне пою,
но только ты одна послушай песнь мою.
Но разве мог бы я – о посуди сама —
в твои глаза взглянуть и не сойти с ума!
Сумасброд! Ну, сумасброд же… и это с его-то желчным иронизмом! Или время такое было?.. Но то, о чём надо выразиться, совсем не стихи о любви, нет! Об этом нельзя написать, но хуже того, нельзя и промолчать.
Она говорит – поэзия, это мучительней раздевания на площади. Наверно, правильно говорит, хотя мне не понять – я такой эксгибиционист, что раздеваться мне всегда в удовольствие. А вот читать Георгия Иванова – что босою душой об мороз. В чуждом мне серебряном веке он – самый близкий, потому что самый золотой. Он самый непонятый и непонятный в своём «слишком-совершенстве». Хотя, оно вообще бывает слишком?
Тот мне в трубу кричит: «Да он на полвека всю русскую поэзию опередил!», – а я знаю. Но кому объяснишь?
И не на полвека, насовсем.
Возможно потому, что уже 27 сентября 1922 года его насовсем не было в богооставленной стране, которую он так отчаянно, так страстно и до ненависти больно потом любил в своих золотых, кровавой слезой подржавленных стихах.
За столько лет такого маянья
По городам чужой земли
Есть от чего прийти в отчаянье
И мы в отчаянье пришли.
– В отчаянье, в приют последний,
Как будто мы пришли зимой
С вечерни в церковке соседней,
По снегу русскому, домой.
Он успел увезти незаплебеенным, незапролетаренным, незабольшевиченным свой дар, увезти в кристально прозрачном сосуде русского языка, чистого аполлонизма, неподдельного сердца, философической скорби и эстетской созерцательности.
Чистое золото ушедшего века увёз он. Золото неплавкое, не снисходящее к серебру.
Нам не понять, что оставлял за спиной Иванов, по чём изностальгировался… да так, что ностальгия по России стала ностальгией по жизни, как будто бы потеряв одну, с ней и другую потерял, иногда даже злобное отчаяние.
Хорошо, что нет Царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет.
Только желтая заря,
Только звезды ледяные,
Только миллионы лет.
Хорошо – что никого,
Хорошо – что ничего,
Так черно и так мертво,
Что мертвее быть не может
И чернее не бывать,
Что никто нам не поможет
И не надо помогать.
О, Господи, что хорошо? Что нет России? Что Бога нет? Что никого и ничего? Что никто не поможет? Глухое, даже злобное отчаяние. И «не надо помогать» – это «не надо», этот мотив язвительного самобичевания, словно самонаказания за беспомощность, звучит у Иванова не раз:
За бессмыслицу, за неудачи,
За потерю всего дорогого,
И за то, что могло быть иначе,
И за то, что не надо другого.
Опять это «не надо» – как раздирание собственной раны. И вдруг в этой черноте, черней которой не бывает, вновь робкая, но не смирённая, неумирающая надежда.
В ветвях олеандровых трель соловья.
Калитка захлопнулась с жалобным стуком.
Луна закатилась за тучи. А я
Кончаю земное хожденье по мукам,
Хожденье по мукам, что видел во сне —
С изгнаньем, любовью к тебе и грехами.
Но я не забыл, что обещано мне
Воскреснуть. Вернуться в Россию – стихами.
Простота высказыванья. Чистейшей прелести чистейший образец. Георгий Иванов – самый близкий к Тютчеву, но более изящный, более пластичный, не такой каменный, каким был русский гигант XIX века. Близость к Тютчеву – высшая проба его звучащего золота, уже почти не слышного изуродованному эстетическому чувству современного русского, да просто недоступного русскому слуху, оголтелому в деревянной стуканине чурок шестидесятников и плоско политизированном ИТР-интеллектуализме 70-х.
«Вернуться в Россию стихами»? Хотел вернуться в Россию? Что, серьёзно? Верил?
Да, какой там… себя заговаривал! Всё ведь понимал. Гранил свои бриллианты, свои восьми/двенадцатистишия, а эмиграция именовала его своим первым поэтом.
Но слишком, слишком тесно… слишком узко это для Георгия Иванова, одного из нескольких наиглубочайших и самых недооцененных поэтов русской поэзии вообще.
У Иванова есть статья о Маяковском и Есенине. Из неё одной понятно многое об этом художнике. Вся интимность его сердца с Есениным, не с Маяковским. А по пронзительности сердечной жалобы, по взрыдности, пусть и без есенинского метанья, Георгий Иванов не слабей Есенина. Даже сильней. (Талантливому Пастернаку с его обещанными «стихами навзрыд» и вовсе не достать).
Но мужественней.
Больше мужчина, меньше слабак.
Своим стихом Иванов всегда безошибочно находит сердечную беззащитность и вливает в неё яд строк концентрированным кратким уколом. От краткости и концентрации укол делается ударом, как будто жестокий лучник без промаха всадил стрелу в щель на стыке доспехов.
Синий вечер, тихий ветер
И (целуя руки эти)
В небе, розовом до края, —
Догорая, умирая…
В небе, розовом до муки,
Плыли птицы или звезды,
И (целуя эти руки)
Было рано или поздно —
В небе, розовом до края,
Тихо кануть в сумрак томный,
Ничего, как жизнь, не зная,
Ничего, как смерть, не помня.
Я не знаю, кому ещё удавалось рассказать, да нет, не рассказать… взрезать без наркоза на твоей груди, как на прозекторском столе, всю твою скрытую жизнь, развернуть перед тобой и бережно, но всё равно больно, показать тебе нагого ребенка… грудного ребенка твоей сокровеннейшей тоски, твоей уязвлённости смертью, предчувствий, гнетущих тебя, а вот теперь уже как будто бы даже и благотворящих. Ибо он есть… – вот он, тот, который понимает тебя, потому что разве ж напишешь такое, если не понимать, что «в небе, розовом до муки» – не важно «птицы или звёзды» – всякий раз «догорая-умирая» мается и твоя душа, не знает, что бессмертна, а если знает, то не верит, а если верит, то не до конца, что «поздно» ли… «рано» ли, а ничего нельзя спасти, даже «целуя руки эти». Жизнь ничего не знает – и не надо знать. Смерть ничего не помнит – и не надо помнить. Простота и чистота льда, бирюзовая прозрачность безукоризненного кристалла. Сквозь неё форма светит дающим надежду смыслом, а смысл лишает надежды формой, и они – одно.
Поэтическая форма у Георгия Иванова безнадежна, потому что окончательна.
Окончательна до безнадежности, как всякое совершенство. Не только нельзя проще, или совершенней – просто невозможно по-другому. После него уже невозможно.
Мне весна ничего не сказала —
Не могла. Может быть – не нашлась.
Только в мутном пролете вокзала
Мимолетная люстра зажглась.
Только кто-то кому-то с перрона
Поклонился в ночной синеве,
Только слабо блеснула корона
На несчастной моей голове.
Невозможно. Загадка ясности волшебной. Как он нашёл эту простоту изъяснения?
И эту сладкую иглу для души? Я не понимаю… (и потому задаюсь дурацкими вопросами!)
Вздохни, вздохни еще, чтоб душу взволновать,
Печаль моя! Мы в сумерках блуждаем
И, обреченные любить и умирать,
Так редко о любви и смерти вспоминаем.
А ведь это фрагмент из далеко не лучшего его стиха. Когда я смотрю в эти строки, меня истинно охватывает ужас. За допущенностью развязного индивидуализма утрачены главные вещи!
Говорим одни пошлости!
Мыслим трюизмами.
Разучились носить в себе и напряженно думать о самых важных вещах.
Время считаем целковыми.
Достижения – популярностью.
Своевременно обиженные на дикую судьбу дикой страны, превратили поэзию в переносную трибуну сожалений и глумливых инвектив.
Лирическое растоптано.
Орлиность невозможна, горизонта нет.
Мы не слышим Экклезиаста. Нет даже томления духа. Одна суета. Мы не понимаем уже давно, что значит: «Место мудрых в доме плача».
А когда думаем, что понимаем, то наружу выдавливается не мужество мудрости, а плебейская депрессуха вечных жертв. «Так редко о любви и смерти…»
Может, это не мы, а так было всегда? Уже принц датский сетовал: «О, низость, низость с низкою улыбкой…»
Иванов колоссально высок.
Он – Поэт распоряженьем вышним – нёс в себе громадное знание сути вещей и, что даже важнее, колоссальную приближенность внутреннего взора к сути вещей.
По улицам рассеянно мы бродим,
На женщин смотрим и в кафе сидим.
Но настоящих слов мы не находим,
А приблизительных мы больше не хотим…
Он был и не был.
Наружно был в мире и даже писал едкие критические статьи.
Но главный план его жизни, возвышающий «обман», который и был глубочайшей истиной Георгия Иванова, воздымался над временами и границами. Настоящий Иванов был не в мире, а высоко над.
Он был страдалец и визионер, он видел и туда и сюда: за горизонт недостигнутого, но и за горизонт утраченного, далёко-далёко за горизонт…
Ликование вечной, блаженной весны,
Упоительные соловьиные трели
И магический блеск средиземной луны
Головокружительно мне надоели.
Даже больше того. И совсем я не здесь,
Не на юге, а в северной царской столице.
Там остался я жить. Настоящий. Я – весь.
Эмигрантская быль мне всего только снится —
И Берлин, и Париж, и постылая Ницца.
…Зимний день. Петербург. С Гумилевым вдвоем,
Вдоль замерзшей Невы, как по берегу Леты,
Мы спокойно, классически просто идем,
Как попарно когда-то ходили поэты.
А ходили попарно?
Но уже развёртывается волшебный свиток прошлого…
Если и не до самых до грек (кто знает, ходили ли попарно Платон и Аристотель?), то уж до Рафаэлевой «Афинской школы» точно. Работает сверхгоризонтность взгляда, которую Иванов в себе точно знал. Умница был. Пониматель! И потому с неизбежностью:
Теперь, когда я сгнил и черви обглодали
До блеска остов мой и удалились прочь,
Со мной случилось то, чего не ожидали
Ни те, кто мне вредил, ни кто хотел помочь.
Любезные друзья, не стоил я презренья,
Прелестные враги, помочь вы не могли.
Мне исковеркал жизнь талант двойного зренья,
Но даже черви им, увы, пренебрегли.
Лев Шестов рассказал об ангеле смерти, который дарует некоторым – но только некоторым, редким, – «вторые глаза».
Ну, вот они… вторые.
Как у Тютчева с судьбой, у Иванова со смертью были свои отношения, ибо на лезвии смерти тихо покоилась его душа, в любую секунду готовая быть аккуратно разрезанной пополам.
Ну, мало ли что бывает?..
Мало ли, что бывало —
Вот облако проплывает,
Проплывает, как проплывало,
Деревья, автомобили,
Лягушки в пруду поют.
… Сегодня меня убили.
Завтра тебя убьют.
Такому не может повредить никто.
И помочь тоже.
Вот почему и преданная Ирина Одоевцева не помогла.
Он то и дело писал о ней, как о несбывшемся или как об утраченном прошлом.
Он беззастенчиво лгал – прав тот, что говорит: «обманщик, правдивый до слёз» — не об Иванове говорит, о поэте вообще. А с гор глухо громыхает Заратустрово:
«Много лгут поэты!..». Да, он лгал формальную ложь, ибо обстоятельства жизни далеко не сразу, лишь под конец, стали невыносимы. Но всё было и так и не так.
Женщина его любви была очаровательна, но, храня ему супружескую верность, не любила его так, как он её. И однажды чуть не ушла от него к другому.
Собственно, ушла. Иванов дал развод. Но она вернулась – да, по обстоятельствам, но вернулась, – и осталась с ним уже до конца, который своим кратковременным уходом и ускорила. Ускорила-таки, «змея»!
Отзовись, кукушечка, яблочко, змеёныш,
весточка, царапинка, снежинка, ручеёк,
нежности последыш, нелепости приёмыш,
кофе-чае-сахарный потерянный паёк.
Отзовись, очухайся, пошевелись спросонок,
в одеяльной одури, в подушечной глуши,
белочка, метёлочка, косточка, утёнок,
ленточкой, верёвочкой, чулочком задуши…
Она и задушила.
Запутался Жоржик (так звали Иванова в Париже) в тонких одеялах своей Ирины… задохнулся в подушечной пыли.
Но всё равно Иванов больше.
Иванов – это не кошмар жизни. Иванов – это жизнь, как кошмар…
Как тихий-тихий ужас, как тяжкий сбывшийся сон, в котором ничто не сбывается, и так нам всем и надо – вот это Иванов:
Мы не молоды. Но и не стары.
Мы не мертвые. И не живые.
Вот мы слушаем рокот гитары
И романса «слова роковые».
О беспамятном счастье цыганском,
Об угарной любви и разлуке,
И – как вызов – стаканы с шампанским
Подымают дрожащие руки.
За бессмыслицу! За неудачи!
За потерю всего дорогого!
И за то, что могло быть иначе,
И за то – что не надо другого!
Страшно, господа… страшно читать: «И за то, что могло быть иначе…», а слышать – «ничего не могло быть иначе!» Речь уже не об эмиграции. И не о потерянной России. Даже не о мире… – речь о жизни, в которою изначально вшита ампула с цианистым калием бессмыслицы. Это вам не какой-то Гамбургский счёт. С этой высоты и Гамбурга не различить. Над этим только Бог, если ты смеешь верить в Него с отвагой.
Иванов верил, но не отваживался.
Стоят сады в сияньи белоснежном,
И ветер шелестит дыханьем влажным.
– Поговорим с тобой о самом важном,
О самом страшном и о самом нежном,
Поговорим с тобой о неизбежном:
Ты прожил жизнь, ее не замечая,
Бессмысленно мечтая и скучая, —
Вот, наконец, кончается и это…
Я слушаю его, не отвечая,
Да он, конечно, и не ждет ответа.
Нет, атеистом Иванов не был, но вера не слышна в его стихах, как не слышна она и у Тютчева, ближайшего по силе и духу пращура его.
Вот нашёл у Юрия Иваска любопытный пассаж об Иванове: «Это сладчайшая трагическая поэзия. Волчий ужас переводит он на язык соловьиных трелей и в мировой пустоте слышит божественную музыку. Эта музыка никого не спасёт, но она есть».
Замечательно! Красиво и сомнительно. Хоть и правда, а всё равно сомнительно.
Божественная музыка, которая никого не спасёт? Хм… чем же она тогда божественная? Но факт. Музыка Георгия Иванова божественна. В ней не слышна вера, в ней слышно более страстное, мучительное и робкое, что есть у каждого, даже самого маловерного из нас. В ней слышно то, чем переполнены душераздирающе райские напевы Петра Ильича Чайковского – надежда.
Это как это – «душераздирающе райские»?
Да очень просто: посреди ада раем только и можно, что душу разодрать.
На один восхитительный миг,
Словно отблеск заката-рассвета,
Словно чайки серебряный крик,
Мне однажды почудилось это.
Просияли – как счастье во сне —
Невозможная встреча – прощанье —
То, что было обещано мне,
То, в чём Бог не сдержал обещанья.
Спешил… спешил, роптал на Бога.
И жаловался, постоянно жаловался. Смеялся над собой и снова жаловался.
И невозможно оторваться от этих жалоб, потому что они как будто твои, потому что каждому из нас есть на что пожаловаться, и не просто на что-то, а вот именно на это… на то самое, о чём сокрушается поэт, предательски делая тебя… – не знаю, меня, по крайней мере, – своим соучастником, сожалобщиком.
Как устоять, когда в жалобах этих ты находишь… находишь… ну, как сказать… да и зачем, вот же: «Когда я слушаю музыку Петра Ильича, мне хочется плакать… хочется умереть от невыразимой тоски, но и не хочется отрываться от неё, потому что в этой тоске ты находишь свои высшие способности». Надежа фон Мекк – о Чайковском (она тоже была Надежда!).
– Находишь свои высшие способности?
– Да.
– В невыразимой тоске, от которой хочется умереть?
– Да, именно этими чувствами заходится душа, растерзанная и облаготворённая поэзией Георгия Иванова.
Остановиться на мгновенье,
Взглянуть на Сену и дома,
Испытывая вдохновенье
Почти сводящее с ума.
Они никак не воплотится,
Но через годы и века
Такой же луч зазолотится
Сквозь гаснущие облака,
Сливая счастье и страданье
В неясной прелести земной…
И это будет оправданье
Всего, погубленного мной.
Вот и всё, что по силам мне сказать о русском поэте, Георгии Иванове.
И то много.
Читать и молчать.
А нечего сказать по сути – разве что повторить – и это будет оправданье всего, погубленного… Промолчать бы, но не получается.
Молчать можно было бы о том, кто действительно вернулся в Россию стихами.
Только никто не вернулся по-настоящему.
Нет возвращения в Россию.
Наверно, никуда нет возвращения.
Моя горечь и гордость как раз в том, что Иванов не вернулся в Россию, а вернулся лишь к небольшому числу русских людей. Мне это и больно и радует… я желал бы Иванову заслуженного места в числе тех самых семи-восьми (а может и меньше) величайших русских поэтов, потому что он без сомненья один из самых… И я был бы оскорблён за Иванова, если бы он стал предметом внимания (не дай Господь, ещё и поклонения!) орд вознесенцев, толп евтушенцев и прочих комсомольцев, поклонистов громким деревянным идолам и шумным назначенным гениям. Как ожидать поклонения капле чистой воды от тех, кто пьёт из мутной лужи.
* * *
Не так давно – лет двадцать шесть тому назад – ко мне в класс прямо во время урока вошёл старый приятель, к тому времени уже не киевлянин, а москвич, изредка наезжавший в провинцию со столичными лит. новостями. Он держал в руках трубочку из нескольких скреплённых машинописных страничек. Вот – говорит – был такой эмигрантский поэт, Георгий Иванов. Хочешь полистать? И присел на стул у учительского моего стола. Ленив я читать, так что, увидев скупые восьмистишия, воспрянул и даже не прерывая флэ-модидлы, которые старательно отстукивал за станком мой ученик, легко прочёл про себя:
Всё неизменно и всё изменилось
В утреннем холоде странной свободы.
Долгие годы мне многое снилось,
Вот я проснулся – и где эти годы!
Вот я иду по осеннему полю,
Всё как всегда, и другое, чем прежде:
Точно меня отпустили на волю
И отказали в последней надежде.
Ну а поскольку человек я флегматичный от природы, реакции у меня сильные, но медленные, даже – скажу, не потаюсь, – временами застойные, то лишь время спустя, когда эти строчки перешли из стадии нелепой неотвязности в качество устойчивой принадлежности моего организма, я осознал, что в тот момент, когда прочёл их впервые, «всё изменилось».
Я нашёл… нет, встретил поэта моей жизни.
2013 год, Верона
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?