Текст книги "Переписка Бориса Пастернака"
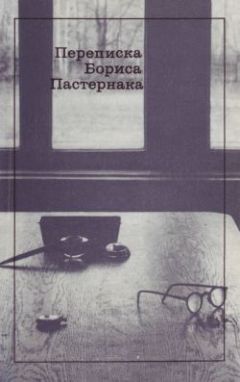
Автор книги: Борис Пастернак
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Пастернак – Фрейденберг
< Телеграмма 12.I.44>
УБИТ ИЗВЕСТИЕМ ДУШОЙ С ТОБОЮ НАДЕЙСЯ. С ШУРИНОЙ ТЕЩЕЙ БЫЛО ПОЛГОДА ТО ЖЕ САМОЕ, ВЫЗДОРОВЕЛА. ОБНИМАЮ ЦЕЛУЮ – БОРЯ.
Фрейденберг – Пастернаку
Ленинград, 10.I.1944
Дорогой мой Боря, сердечное спасибо за телеграмму и участье, которое в такие дни особенно утишает душевную боль. Спасибо за надежду. Мама поправляется, но парализована и часто безумна. Я – подобно богине, вымолившей бессмертие своему земному возлюбленному, но забывшей попросить и преодоление старости; так и остался он при ней, но дряхлый, перегруженный днями.
Получила телеграмму от Поляковой. Это моя ученица, настоящая, наследница. Я не знаю ее адреса. Борису Васильевичу Казанскому, моему старому приятелю, большой привет. Я по неделям не выхожу, некому бросить открытки.
Обнимаю тебя и твоих. Оля.
Фрейденберг – Пастернаку
Ленинград, 12.I.1944
Дорогой Боря, спасибо за «Переделкино» (и «Художника»). Мои сейчас обстоятельства – лучший эксперт по установлению подлинности искусства. Я ожила, читая тебя. Бесконечно горжусь твоей творческой «несгибаемостью», зная ей цену, чего стоит и за что идет. Сложность твоей простоты напоминает мне дорогие материи, – чем, бывало, проще, тем дороже. Это настоящее, большое, вечное.
Мама успешно квалифицируется на калеку, – я хочу сказать, поправляется. Сознание правильное, но слова забыты. Например: «Ленчик давно нашел Гезиода» значит: «Дай мне салола». Мы обе несчастны.
Обнимаю тебя.
Твоя Оля.
Пишу ночью. Уход очень трудный – да еще зима, морозы.
А мама приходила в себя и поправлялась. Она уже говорила, хотя вначале шепотом, потом вернулся и голос. Потом рядом с бредом стало появляться ясное логическое сознание. Светлой, мудрой, прежней воскресала мама. Уже и лицо стало прежнее, одухотворенное, мягкое, прекрасное. О, сколько любви, сколько материнской ласки давала мне мама. Как будто она возвращала мне свой долг за дни осады и давала силы на многие дни одиночества впереди.
И преисподняя забывалась. Раны исцелялись.
В начале января у мамы появились боли в животе.
Одновременно обстрелы стали особенно невыносимы. 17 января после полудня залпы стали ужасны. Я увидела, что очередь доходит до нас.
Я села на кровать к маме. Страшный гром и – разрыв. Посмотрела на часы, следя за интервалами. Вдруг снова гром, потрясающий, уже без разрыва. Рядом! Гром – землетрясенье. В нас. Оглядываюсь, что происходит: одновременно с моим взглядом падают все стекла разом. И январская улица врывается в комнату.
Во мне рождаются сверхъестественные силы. Я хватаю шубу, укутываю мать, тащу тяжелую кровать в коридор, вдвигаю мамину кровать к себе в комнату. Там одно окно цело, другое затыкаю тряпками.
Все живой человек переживает. Время движется.
Это был последний обстрел Ленинграда. <…>
С марта месяца пошло явное ухудшенье. У мамы пропал аппетит. <…>
6 апреля, после ночных мучений, она засыпала и просыпалась. Четверо суток мама спит. Я ничем не занимаюсь. Я жду, когда прервется ее жизнь. Сижу на стуле. Но страшно дышит мученица. Одно у нее осталось недоделанное дело на земле: дышать.
Мама дышала то громко, то неслышно. Но вдруг меня ударила совсем особая значимая тишина. Я упала на колени и так долго стояла. Я благодарила ее за долгие годы верности, любви, терпенья, за все совместно пережитое, за 54 года нашего содружества, за дыханье, которое она мне дала.
Фрейденберг – Пастернаку
Ленинград, 14.IV.1944
Дорогой Боря,
я осталась одна. Как-нибудь наберусь сил написать тебе, но не знаю когда. Живу одна в большой пустой квартире. Если б ты мог достать командировку! Ты отдохнул бы и поработал у меня.
Пережито ужасное. Мама нечеловечески страдала четыре с половиной месяца, но заснула 6-го и спала до 9-го, когда в девять часов вечера ее дыхание оборвалось.
Ко мне не доходили письма (четвертый этаж!), а на имя дворничихи уже доходят. Живу я там же (если, когда захочешь телеграфировать, то на старый мой адрес).
Обнимаю тебя.
Твоя Оля.
Пастернак – Фрейденберг
<Телеграмма 5.V.44>
БЕДНАЯ ОЛЯ РАЗДЕЛЯЮ ТВОЕ ГОРЕ И ОДИНОЧЕСТВО. ОПЛАКИВАЮ ДОРОГУЮ ТЕТЮ ВМЕСТЕ С ТОБОЙ. БОРЯ.
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 12.VI.1944
Дорогая моя Оля, не удивляйся, что я не пишу тебе! Ужасно много кругом дел, народу, забот, чепухи, помех и трудностей. Между тем надо и поработать, и, немного поболеть и пр<очее>. Зина сбилась с ног, она и в городе и на огороде: месяц уже как не видал Ленички, – я в городе; деньги, деньги. Окольным путем вдруг узнаешь что-ниб<удь> о тебе. Так из Новосибирска (!!) привезли слух, будто в квартиру еще при тете попал снаряд. Этим объяснил я себе сообщенье через дворничиху.
Воображаю, как тебе пусто и одиноко, бедная моя! И опять у вас война началась: вчера салютовали Териокам. Крепко тебя целую, твой Боря.
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 16.VI.1944
Дорогая Оля! Я не написал главного. Приезжай к нам! Будем жить на даче по-бивуачному. Без обстановки, но с огородом. Окучивать картошку, полоть грядки, сводить червяка с капусты. При тебе Ленька будет не таким дураком. Ей-Богу, подумай. Сам-то я пока в городе, но это несущественно, и потом в июле я, наверное, перееду. А ты отдохнешь. Напиши мне, что ты делаешь? А я перевожу против воли Отелло, которого никогда не любил. Шекспиром я занимаюсь уже полубессознательно. Он мне кажется членом былой семьи, времен Мясницкой и я его страшно упрощаю.
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 30.VII.1944
Дорогая Оля! Как тебе не стыдно писать мне такие эпиграфы и страшные слова! Получила ли ты мою открытку, где я тебя зову пожить у нас?
Торопись, лето уже на исходе. Если ты решишь отдохнуть у нас в Переделкине, я нарочно тоже туда перееду посмотреть на тебя на нашем огороде, среди зелени, Зины, Ленички, живущих у нас Асмусов и прочих прелестей этого места. Я застрял в городе и ни разу там не был совсем не по непреодолимым каким-нибудь роковым причинам. Лето нежаркое, каждые три дня в неделю Зина бывает в городе, где навещает старшего своего сына в туберкулезном институте и стряпает нам, мне и другому своему мальчику, Стасику, пианисту, ученику Консерватории, на остальные три-четыре дня, и уезжает, с тяжестями и покупками на половину недели на дачу, поддерживать тамошнее хозяйство: ходить за созданьем своих рук, огородом и пр. и пр. Так она и мечется. А у меня были дела и работы, которые удобнее было делать, не выезжая из города, я кончал перевод Отелло. для одного театра, который меня подгонял и торопил. На днях, когда получу их из издательства, пошлю тебе своих «Ромео» и «Антония».[160]160
Перевод «Отелло» предназначался для постановки в Малом театре. «Ромео и Джульетта», «Антоний и Клеопатра» вышли отдельными книжками летом 1944 г.
[Закрыть]
Горе мое не во внешних трудностях жизни, горе в том, что я литератор, и мне есть, что сказать, у меня свои мысли, а литературы у нас нет и при данных условиях не будет и быть не может. Зимой я подписал договоры с двумя театрами на написанье в будущем (которое я по своим расчетам приурочивал к нынешней осени) самостоятельной трагедии из наших дней, на военную тему.[161]161
Пьесу хотели ставить в Новосибирске театр «Красный факел» и в Москве Камерный театр.
[Закрыть] Я думал, обстоятельства к этому времени изменятся и станет немного свободнее. Однако, положенье не меняется и можно мечтать только об одном, чтобы постановкой какого-нибудь из этих переводов добиться некоторой материальной независимости, при которой можно было бы писать, что думаешь впрок, отложив печатанье на неопределенное время.
Недавно я телеграфировал нашим о смерти тети. Меня удивляет и беспокоит, что от них нет телеграммы в ответ, обычно они отзывались скорее. Не случилось ли там чего-нибудь? Завтра я повторю запрос.
Я хотел много написать тебе, но, видимо, это обманчивая или неправильно понятая потребность. Вероятно, на самом деле, мне хочется повидать тебя, здесь рядом у нас, а часть того, что я мог бы сказать тебе, надо совершить и сделать.
Как ты живешь? Не надо ли тебе денег? Еще недавно такой вопрос в моих устах был бы чистым пустословьем. Но в ближайшие месяцы мне должно стать гораздо легче. Но все это вздор. Серьезно – соберись, приезжай.
Крепко целую тебя.
Твой Боря.
Первые месяцы после мамы я лежала лицом к стене. Потом ходила. Потом ждала кого-нибудь, сидела, опять лежала, бродила, убирала вещи. <…>
Теперь у меня много времени. Я брошена в него. Вокруг меня бескрайнее время. Я хочу его ограничить заботой, забить движеньем в пространстве, но ничто не укорачивает его. Сколько у меня ни было дел, время не сокращается. Только поздними вечерами я чувствую некоторое оживанье: сейчас кончится еще один день. Умиротворенная я ложусь и на семь часов ухожу из времени. Я вижу нашу семью, маму, всегда Сашку. Ужасны утра в постели, первое после ночи сознанье. Я здесь! Опять время!
Я сравнивала себя с разбомбленным домом. После ужасного напряженья вдруг падала чудовищная тяжесть, дом шатался, – и вдруг, после грохота и пыли, наступала непоправимая тишина.
Так и вокруг меня покой. Все сохранено в своих видимых формах. Полная, совершенная тишина и беспредельная освобожденность.
Это смерть. Осталось совсем немногое: пройти через время. Вопрос только в нем. И оно же само доделает это прохожденье. День за днем.
Я ездила на острова, которые открылись после трех лет впервые. Там я сидела у моря целыми днями.
Несправедливость причиняла мне боль. Я ждала приезда Бори и прихода вернувшихся из эвакуации друзей.
Ко мне никто не зашел из товарищей по факультету, где я работала десять лет. Боря не приехал и писал изредка, с трудом, без тепла.
Пастернак – Фрейденберг
<Телеграмма 1.Х.44>
СЛЫШАЛ О РАЗРУШЕНИЯХ ТРЕВОЖУСЬ ТЕЛЕГРАФИРУЙ ЦЕЛОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ, ЦЕЛУЮ. ВЕРЮ ВО ВСТРЕЧУ. БОРЯ
Пастернак – Фрейденберг
<Надпись на книге «Антоний и Клеопатра». М., ГИХЛ, 1944 г.>
Дорогой моей Оле с несчетными поцелуями
Боря
16. XI.44
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 22.I.1945
Дорогая Оля! Спасибо тебе за телеграмму. Мне не надо, чтобы ты мне писала о Шекспире! Напиши мне о себе. Как чудовищно, что ты там одна, борешься, наверное и побеждаешь, но и терпишь лишенья и страдаешь, а я так глупо и бесплодно-далеко! Я как-то по счастью справляюсь с задачами зимовки на даче, но каких это стоит трудов! Не покладая рук гоню «Генриха IV-го». Нет времени ни на что. Недавно две недели болел воспаленьем надкостницы как последний сапожник, некогда было в город. Леня учится. Он говорит: папа, я понимаю эту задачу, но не знаю, надо ли прибавить или отнять.
Крепко целую тебя. Твой Б.
26 июня 1945 г.
Пустая квартира. Я сижу и пишу «Паллиату». Мое лицо изменилось. Я стала одутловатой, с тенденцией к четырехугольности. Глаза уменьшаются и тускнеют. Руки давно умерли. Кости оплотнели. Пальцы толстые и плоские. На ногах подушки. От неправильного обмена веществ появляются отложения и вся фигура разбухает.
Сердце стало сухое и пустое. Оно не восприимчиво к радости. Я пишу, готовлю своих учениц – Соню Полякову и Бебу Галеркину[162]162
Берта Львовна Галеркина преподавала на кафедре классической филологии ЛГУ; от ученичества не отрекалась и после изгнания Фрейденберг: ухаживает за могилой О. М., заботится о памяти учителя.
[Закрыть], но холодно. Только одна мысль способна оживить меня – мысль о смерти. Больше ничем я по-настоящему не интересуюсь.
Я утратила чувство родства и дружбы. Друзья меня тяготят, я не вспоминаю о Боре. Это мираж далекой, перегоревшей и отшумевшей жизни. У меня почерк изменился, походка. Я слепну.
Долгий пустой сон. Я доживаю дни. У меня нет ни цели, ни желаний, ни интересов. Жизнь в моих глазах поругана и оскорблена. Я пережила все, что мне дала эпоха: нравственные пытки, истощение заживо. Я прошла через все гадкое, – довольно. Дух угас.
Он погиб не в борьбе с природой или препятствиями. Его уничтожило разочарованье. Он не вынес самого ужасного, что есть на земле – человеческого униженья и ничтожества. Я видела биологию в глаза. Я жила при Сталине. Таких двух ужасов человек пережить не может.
Перенести такие мучительства возможно было только при крепкой опоре любви и родства. Я осталась одна. Мою жизнь вырвало с корнем.
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 21.VI.1945
Дорогая Оля! 31-го мая умер папа. За месяц перед тем ему удалили катаракт с глаза, он стал поправляться в лечебнице, переехал домой, но тут сердце у него сдало, и он умер в четверг три недели тому назад.
В момент кончины вокруг него были Федя и девочки, он умер, вспоминая меня, – это все из их телеграммы.
Зимой мне хотелось полнее и определеннее, чем я это делал прежде, сказать ему, каким потрясающим сопровождением стоит всегда предо мной и следует при мне его ошеломляющий талант, чудодейственное мастерство, легкость работы, его фантастическая плодовитость, его богатая, гордо сосредоточенная, реальная, по-настоящему прожитая жизнь, и как всегда без зависти, с радостью за него посрамляет и уничтожает это сравнение меня, мою разбросанную неосуществленную жизнь, бездарность моего быта, неоправданные обещанья, малочисленность и ничтожество сделанного, на какую трагическую высоту поднято его поприще его недооценкой, и до какой скандальности перехвалено это все у меня. Я все это написал ему, короче и лучше, чем тебе, в письме, препровожденном через дипломатические каналы Майского при дюжине, по крайней мере, моих Шекспиров, нарочно туда посланных в виде повода для этой записки. Они телеграфно известили меня о получении одной книги (из 12-ти). Письмо не дошло. Месяца два тому назад я послал им несколько устных поклонов.
Меня очень волнует твоя болезнь. Я не мог сообразить всего сразу и очень жалею, что не ближе посвятил Чечельницкую[163]163
Чечельницкая Г. Я. писала в Ленинградском университете диссертацию на тему русских связей Рильке. Начавшаяся кампания по борьбе с космополитизмом помешала ей защититься. Сейчас – профессор Казанского университета.
[Закрыть] в обстоятельства нашего житья-бытья и не передал с ней постоянной и главной своей мечты о том, чтобы ты пожила с нами на даче. В нижней закрытой стеклянной террасе живут, как прошлым летом, Асмусы, верхняя, рядом с Леничкой, свободная, и тебе было бы очень удобно в ней.
Чечельницкая застала меня в состоянии крайней нервной расшатанности. Это было перед моим вечером, которого устроитель не подготовил, я боялся, что зал будет пустой;[164]164
Вероятно, имеется в виду авторский вечер Пастернака 28 мая 1945 г. в Доме ученых.
[Закрыть] были гости; накануне мы с Зиной перевезли из Москвы и похоронили у себя в саду под смородиновым кустом, который он сажал маленьким мальчиком, прах ее старшего сына, умершего от туберкулезного менингита 29 апреля. У меня три месяца: 1) жесточайше болит правая рука от плеча до кисти (плексит), и велено носить ее на перевязи, – черновик Генриха IV я пишу левою, 2) заболевают по два раза в неделю глаза конъюнктивитом от малейшего напряжения, 3) увеличена печень, и болит решительно все, но нет ни времени, ни желания лечиться, напротив, сквозь все страдания и слезы прилив непонятного юмора, неистребимой веры и какого-то задора… Короче говоря, я стал рассказывать Чечельницкой о смерти папы, о Рильке, о повесившейся в эвакуации Марине,[165]165
Марина Цветаева покончила с собой 31 августа 1941 г. в Елабуге.
[Закрыть] и так разволновался, что мне захватило дыханье и я не смог говорить. Но ты своих представлений о нас не строй по этой стороне ее рассказов: она видела меня в невыгодный день и затем вечер.
Дорогая Оля, мне сейчас придется прекратить письмо, которое я противозаконно пишу тебе правою рукою: она слишком разболелась. Мне надо еще уйму сказать тебе, из чего я не заикнулся и о мельчайшей доле. Это как-нибудь в другой раз. Приезжай, пожалуйста!! Сообщи Лапшовым о смерти папы и передай им (это – правда, не слова) им обоим и Машуре мою нежнейшую любовь и радость по поводу того, что они живы и благополучны. Как приятно мне было бы с ними повидаться! Достань 22-й номер «Британского союзника», там о моих Шекспирах, тебе будет приятно. И будь здорова, не болей, ради бога, и приезжай, приезжай!!! Обнимаю тебя.
Твой Боря.
Боря известил меня, что скончался дядя. Я пережила эту последнюю утрату кратко, но очень тяжело. С проклятьем я думала о том порядке, когда сын не имел права переписываться с отцом, а отец с детьми. И мы попрощались на расстоянии молча.
Пастернак – Фрейденберг
Москва <13.VII.1945>
Дорогая Оля! Не стоит писать писем, так их много пропадает. 31-го мая умер папа. Я об этом тебе писал, но письмо наверное не дошло. Я страшно огорчен твоей болезнью. Приезжай к нам, поживи у нас на даче. Я уверен, тебе понравится. Если буду жив и здоров (у меня четыре месяца болит правая рука, и я ее большей частью держу на перевязи), я зимою постараюсь приехать в Ленинград по делам. Кажется, Чечельницкая задержалась тут. Повидай ее. Обнимаю тебя.
Твой Боря.
Пастернак – Фрейденберг
Москва <28.VII.1945>
Дорогая Оля! Твое молчание беспокоило меня. Я даже начал телеграфные розыски. Вчера косвенно узнал, что ты жива и написала мне. Кто-то (неизвестно кто) справлялся о моем адресе у Асеева, как стороной узнала в городе Зина. Если это в твоих силах, срочно предпиши сдать твое письмо в управлении нашего дома (Лаврушинский, 17/19), тогда я его получу, а то никак. У меня чудное настроенье, занят умопомрачительно и трудная, чуждая, непосильная жизнь. Приезжай.
Целую. Твой Боря.
Читала ли ты статью о папе?
Читала ли ты статью Грабаря о папе в номере 28 (960) «Советского искусства», пятница, 13 июля 1945.
Пастернак – Фрейденберг
< Телеграмма 1.VIII.1945>
КАЗАНСКИЙ ПЕРЕДАЛ ПИСЬМО. БЛАГОДАРЮ ОБНИМАЮ ПОСТАРАЙСЯ ПРИЕХАТЬ. – БОРЯ
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 2.XI.1945
Дорогая Оля! Я летал на 2 недели в Тифлис и два раза по пути, туда и назад перелетал над Черным морем с пакетами изабеллы, купленными за копейки в Сухуме и Адлере, и в эти часы думал о тебе. Оно сверху самого лучшего цвета на свете, которого нельзя запомнить и назвать, серо-зеленоватого, благородного, самого некрикливого, глинисто-голубого, матового оттенка. Жизнь в Тифлисе была как эта, дух захватывающая гамма. Странно, что я вернулся. Перед отъездом были оказии из Англии. Бедную Лиду оставил муж. Это с четырьмя-то детьми. Но про это как-нибудь в другой раз. Целую.
Твой Б.
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 23.XII.1945
Оля, Оля, Оля, что же это такое, когда это кончится? Я не пишу тебе, потому что мне некогда. Но это меня гонит не жизнь, не ее трудности, а менее благородные и, наверное, более смешные мотивы. Теперь, когда это недоразуменье насчет меня и скандал так укореняются, мне действительно хочется стать человеком! Я глупейшим образом надеюсь исправить и оправдать все эти недомолвки и недоделки. Мне в первый раз в жизни хочется написать что-то взаправду настоящее. Ах, Оля, ты не представляешь себе, в каком непомерном долгу я перед жизнью, как щедра и милостива она ко мне! Но как мало времени, как много надо нагнать и наверстать!
Ты и Шура должны долго жить и быть где-то рядом. Я даже не представляю себе, что бы я мог такое отделить от себя и переслать тебе, чтобы тебе не было так одиноко! Ты должна была бы все же побывать у нас и тогда или бы осталась, или что-то бы с собою увезла, отчего бы тебе стало светлее и лучше (потому что мне ведь очень легко (ликующе-легко, а не материально) и незаслуженно хорошо!).
Ты прости, ты еще, чего доброго, не поймешь и обидишься, или воспримешь это как волну ослепленного, оскорбительно-участливого хвастовства и важничанья!!
Какое несчастие! Как мне объяснить тебе это все и, главное, второпях?
Обнимаю, обнимаю тебя. Устрой так, подготовь, чтобы летом, если бог даст мы будем живы, нам быть вместе.
В моей жизни сейчас больше нет никакой грыжи, никакого ущемленья. Я вдруг стал страшно свободен. Вокруг меня все страшно свое.
Эта атмосфера особенно велика бывает на даче, летом. У нас живут Асмусы, Шура с Ириной, бывал Женя.
Его командируют в Ленинград, и он зайдет к тебе.
Дорогая Олечка! Приезжайте к нам обязательно летом отдохнуть и пожить с нами. Я буду очень рада Вас повидать. Тороплюсь на концерт, где выступает мой старший сын Стасик, а потому больше не пишу.
Крепко Вас целую, и ждем весной к нам.
Ваша Зина.
Куча новостей. Но это тебе расскажет Чечельницкая. Еще раз всего лучшего. Страшно бы хотел видеть тетю Клару и всех «ейных».
Твой Боря.
Знаешь что, надпишу-ка я книгу тете Кларе и Владимиру Ивановичу, и ты им передай, если считаешь, что это им доставит радость, а если нет, вырви листок с надписью и не надо.
(Тебе не посылаю, п<отому> ч<то> это все у тебя есть. Если же хочешь, напиши, и я пришлю.)
Пастернак – Фрейденберг
< Надпись на сборнике «Избранные стихи и поэмы». М., ГИХЛ, 1945>
Дорогой моей Оле с пожеланием наилучших предзнаменований на новый 1946-й год.
От Бори.
23. XII.45
Москва
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 1.II.1946
Что же ты никогда не пишешь, Оля? Так ли я черен и виноват перед тобой, что не заслуживаю и доброго слова? Как трудно бывает временами и как неожиданно обидно! Вообще, какой подбор неподходящих обстоятельств: времени, рождения и прочих этикеток! И как все они противоречат существу, направлению судьбы, разговору с миром! Как из этого выскочить? Пожелай мне выдержки, т<о> е<сть> чтобы я не поникал под бременем усталости и скуки. Я начал большую прозу,[166]166
Начало работы над романом «Доктор Живаго» датируется зимой 1945–1946 гг.
[Закрыть] в которую хочу вложить самое главное, из-за чего у меня «сыр-бор» в жизни загорелся, и тороплюсь, чтобы ее кончить к твоему летнему приезду и тогда прочесть. Передала ли тебе записку Чечельницкая?
Твой Б.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































